1В современном научном исследовании постоянно и повсюду используются особые знания, образующие то, что принято называть методом научной работы, или просто методом науки. Что такие знания есть — признается всеми; расхождения начинаются лишь при детальной оценке их содержания, строения и способов употребления. Но дискуссии по этим вопросам малопродуктивны, так как они, как правило, очень мало опираются на конкретный анализ процессов научного исследования и применения знаний, составляющих метод. Поэтому решение вопроса о природе «методических» знаний уже в течение многих лет фактически нисколько не продвигается вперёд. Чтобы преодолеть эту остановку, нам кажется, целесообразно рассмотреть научное исследование как вид производственной, инженерной деятельности, а именно — как производство новых знаний. Такое представление — а оно вряд ли может вызвать возражения как одно из возможных при определённых задачах исследования — имеет то преимущество, что позволяет без особого труда выявить и описать те типы знаний, которые необходимы учёному-исследователю, чтобы осуществить свою деятельность. Действительно, предположим, что перед учёным поставлена определённая исследовательская задача. Это значит, при нашем способе подхода, что ему указан вид того продукта — научного знания, которое он должен получить, и те объекты — предметы деятельности, которые он должен «обрабатывать» Описанные выше элементы научно-исследовательской деятельности можно изобразить в блок-схеме вида: 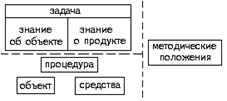 (1) Методологические положения выступают в деятельности учёного-исследователя в особой роли: они регулируют и направляют выбор средств и построение процедур решения задач. Поэтому эти положения должны иметь вид предписаний к деятельности, то есть примерно такую форму: «Если (следует описание условий и требований задачи), то нужно (следует указание на объекты деятельности, средства и порядок самих действий в процедуре решения)». Анализ работ Аристотеля показывает, что именно такими, то есть предписаниями к построению процедур деятельности со знаковыми выражениями, были первые формально-логические принципы и положения. И именно поэтому они составляли наиболее важную часть «Органона», то есть метода науки того времени. 2Введённая нами схема является простейшей и изображает лишь самые элементарные типы деятельности с использованием «методических положений». Дальнейшее развитие деятельности и участвующих в ней «положений» идёт по многим различным линиям. В частности, в ходе научного исследования могут быть поставлены такие задачи, для которых не будет необходимых средств.Тогда исследование естественным образом будет приведено к другой ( Поскольку средства деятельности сами являются «положениями» или знаниями (в широком смысле этого слова), создание их будет особым процессом научно-исследовательской деятельности, для него понадобятся свои объекты, свои средства и процедуры, а следовательно — и свои особые методические положения. Таким образом, мы получим связку из двух структур деятельности, в каждой из которых будут свои методические положения, но, кроме того, очевидно, понадобится ещё одна группа методических положений — как бы второго порядка, в которых будет отражена в качестве особых предписаний к деятельности сама связь этих двух структур. Схематически это можно изобразить так: 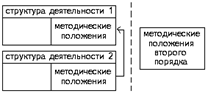 (2) К подобному же наращиванию «методических положений» более высокого порядка ведёт и усложнение самой деятельности по применению предписаний; с  (3) Особую линию развития «методических положений» задаёт необходимость строить процедуры (или процессы) решения задач. В этом случае само решение, оформленное в виде последовательности формальных соотношений между знаниями и переходов по этим соотношениям, выступает как продукт специальной деятельности, основывающейся на особых средствах и особом методе. Но как и во всех предыдущих случаях, если отвлечься от специфических моментов, мы получаем усложнение общей структуры деятельности и обусловленное этим появление «методических положений» более высокого порядка. В нашу задачу не входит анализ различных направлений развёртывании «метода». Мы привели эти примеры только для того, чтобы пояснить основную мысль, что по мере развития научно-исследовательской деятельности непрерывно идёт формирование всё новых и новых слоёв и уровней «методических положений», которые надстраиваются над уже существующими структурами деятельности и начинают управлять ими. Появление этих «управляющих» слоёв в деятельности приводит к перестройке всех нижележащих слоёв. В частности, меняются функции и строение «методических положений» более низкого порядка: они перестают быть собственно «методическими» и превращаются в то, что мы называем «средствами» деятельности; соответственно этому и при анализе мы должны относить их уже не в блок «методических положений», Из сформулированных выше положений следует исключительно важный и принципиальный вывод, что категория «метода» является исторической: положения и принципы, которые на одном этапе развития науки были «методическими», затем, с развитием науки, теряют эту функцию, меняют своё строение, а часто и содержание, переходят в разряд «средств» деятельности, а «методическими» становятся другие положения и принципы, с другим содержанием и строением. 3Специальный анализ «методических положений» показывает, что они не являются «знаниями» в точном смысле этого слова: они ничего не обозначают, не изображают и не описывают, они, если можно так выразиться, лишь «включают» деятельность, составленную из строго определённых процедур, основывающуюся на определённых средствах, направленную на определённые объекты и дающую, в соответствии с этим, строго определённый продукт; они являются «предписаниями» в точном и прямом смысле этого слова. Такой вывод заставляет нас поставить вопрос о том, как получаются и как могут получаться подобные «методические положения». Поскольку они не являются знаниями о каких-либо объектах, то, следовательно, не могут быть получены путём научно-исследовательских процедур как изображения или описания этих объектов. Но тогда они могут быть получены и получаются только путём «искусства», как обобщения уже сложившейся практики, как рекомендации, интуитивно вырабатываемые учителем при обучении учеников той или иной деятельности. Сформулировав этот тезис, мы приходим к выводу, что «методические положения» — если они действительно образуются только таким путём — не могут быть научными положениями, а метод науки — не может быть продуктом научного исследования. Результат, по меньшей мере, грустный. Если же мы пойдём по другому пути Выход из этого положения, как и во всех подобных случаях, находится за счёт создания особой структуры — связки между предписаниями и знаниями, которая функционирует как одно целое, с одной стороны, даёт необходимые для метода предписания, 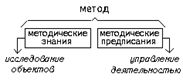 (4) 4Для того, чтобы «методические положения» могли быть знаниями, должен быть выделен и развернут особый предмет изучения и должен быть найден особый эмпирический материал, при обработке которого формируются эти знания. Вместе с тем, за этим предметом и эмпирическим материалом должен стоять особый реально существующий объект изучения или 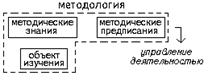 (5) Выделение предмета и объекта изучения — «проклятый вопрос» методологии. Различные решения его определяют как основные вехи истории методологии, так и направления работы в настоящее время. По разному выделяя предмет изучения и определяя соответственно этому эмпирический материал для анализа, мы получаем логику, онтологию (метафизику), теорию познания, натурфилософию, генетическую эпистемологию или даже психологию в качестве собственно научных частей методологии. Так как каждое из перечисленных направлений имеет свои ограничения и скоро обнаруживает это, то наиболее популярными оказываются комбинации их, иногда — связанные в более или менее органическое единство, а чаще всего — просто эклектические. В силу этого методология основывается как правило не на одной научной теории, а сразу — на многих. Уже в «Органоне» Аристотеля мы имеем зародыши почти всех развивавшихся в дальнейшем представлений: детально развитую логику и метафизику, элементы теории познания и психологии. Но у Аристотеля и всех философов вплоть до Декарта (ориентировочно) не было представления о мышлении как особом предмете и особой действительности. Действительность Аристотеля это «логос» — то, что составляет содержание осмысленных и истинных рассуждений. Эта действительность естественным образом переносилась им в онтологию, задавая характер всего идеально или бытийно существующего, и ставилась в связь, с одной стороны, с деятельностью «души», Аристотеля, так и «лекта» стоиков понимались как объективно-существующие вне головы человека, и поэтому их представления можно назвать «внешне-объектными» — условное обозначение, которым мы будем пользоваться в дальнейшем; если же прибегнуть к распространённой и привычной терминологии, то И у Аристотеля, Принципиально новое понимание предмета «методических знаний» появляется только в Средние века и связано с именем Абеляра. Пытаясь выйти из противоречия реализма и номинализма, он ввёл понятие о «концепте» как особом субъективном, а не внешне-объектном явлении: общее «значение» (или смысл) с его точки зрения не существует в объектно-реальном мире и не является просто именем, это — особое создание души, и существует оно только в ней. По сути дела, «концепт» это — «лекта» стоиков, но пересаженная в отдельную человеческую голову. С Абеляра ведёт своё начало «психологизм» в понимании предмета «методических знаний». Сначала он не повлёк за собой никаких принципиальных изменений в исследованиях, так как эмпирический материал и способы его анализа оставались прежними — менялось лишь объяснение полученных результатов, но в дальнейшем это объяснение оказывало всё большее влияние на направление многих методологических исследований, особенно в теории познания и онтологии, и именно оно во многом ответственно за их нынешнее состояние [1]. У Абеляра не было ещё понятия о мышлении как об особом виде действительности. Это понятие возникает впервые, Для Б. Спинозы, который в общем был конечно картезианцем — тоже характерны колебания между внешне-объектным и субъективно-психологическим пониманием мышления; но он был всё же больше психологистом, и это, в частности, нашло своё отражение в том, что «мышление» и «материя» являются у него лишь двумя модусами единой субстанции. После Декарта и Спинозы утверждаются представления, что предмет методологических исследований — мышление. На основе этого понимания развёртываются многочисленные попытки построить «содержательную логику» мышления, логику процессов исследования, поиска новых знаний, в противоположность традиционной школьной логике оформления в речи известных уже результатов (см. по этому вопросу хотя бы Шольца — предельного формалиста по своим исходным идейным установкам). Но все эти попытки заканчиваются неудачами. История методологических исследований Названные вехи — лишь внешняя и поверхностная история развития представлений о мышлении, которые, конечно, имели свою внутреннюю логику и связь. Но эти резкие колебания от одного понимания к другому, противоположному, есть, на наш взгляд, выражение того, теперь уже достаточно очевидного факта, что ни одно из перечисленных направлений не дало выделения действительного объекта и предмета методологических исследований. Рассмотрим это несколько подробнее. Исходные абстракции традиционной логики были такими, что дальнейшее развитие её в заданном ими направлении оказалось несовместимым с исследованием мышления. И в Нетрудно заметить, что подобного определения не может быть ни у одной действительно развивающейся эмпирической науки: оно ориентировано на уже полученные знания и исключает какое-либо дальнейшее развёртывание. Но, фактически, столь же дефектными и «не работающими» оказываются и все другие определения логики вообще и, более узко, математической логики (например, известное определение А. Чёрча). Вместе с тем оказалось, что понятия современной логики почти ничего не дают и не могут дать методологии науки. Попытка представителей так называемого «логического позитивизма» построить методологию науки на основе «точных» понятий современной логики закончилась полным крахом и заставила их пересмотреть по сути дела все выдвинутые в программе принципы; но и тридцатилетняя эволюция идей, обусловленная прежде всего давлением внутренних противоречий, возникавших в их представлениях, и невозможностью объяснить общепризнанные эмпирические факты, не дала никаких глубоких и эффективных новых принципов и методов. Рассматривая этот результат в свете анализа исходных абстракций формальной логики, можно сделать вывод, что именно эти абстракции явились основной причиной неудач этого направления [2]. Но столь же неудовлетворительным с точки зрения потребностей методологии науки оказалось и противоположное, «психологистическое» направление. «Психологизм» второй половины XIX столетия, как мы уже говорили, исходил из понятий и результатов традиционной логики, полученных путём анализа внешне данных текстов. Он не расширил границ эмпирического материала и не внёс ничего нового в методы анализа. Вся его «работа» сводилась к переформулированию логических положений на язык так называемых «душевных», или «психических» явлений. Длительное время эта трактовка логических положений казалась оправданной, так как всё соглашались с тем, что значения знаков языка задаются человеческим пониманием и, следовательно, должны существовать в этом «понимающем аппарате». Так «психологизм» оказывался естественной и само собой разумеющейся формой «содержательной» логики, то есть логики, ориентированной на значения и содержания знаковых выражений. Вместе с тем указывалась и особая область существования исследуемых явлений — «душа» или психика [3]. Но подобная установка на «душевные» явления и переформулирование всех логических положений на язык психологии могли получить действительное оправдание и смысл только в том случае, если бы таким образом была указана новая объектная область, которую можно было бы исследовать самостоятельно, независимо от исследования знаковых текстов и особыми, чисто объективными методами; в этом случае психологическая установка привела бы к обогащению методов теории мышления Это не значит, что психологизм был совершенно бесплодным и не дал никаких положительных результатов. Неудачи собственно психологизма привели к появлению психологии мышления. Характерно, что первые школы, работавшие в этом направлении — Вюрцбургская школа экспериментальной психологии, Берлинская гештальт-психология, Женевско-Парижская школа Ж. Пиаже и Московско Харьковская школа Основания и методы выделения предмета психологии мышления у всех этих школ были различными, одни вложили в это меньше усилий, другие — больше, но сейчас, рассматривая всю их работу ретроспективно, мы можем сказать, что у всех у них была одна судьба: ни одной из них, а также никому из представителей более мелких течений в психологии мышления так и не удалось сформировать этот предмет. Вюрцбургская школа очень остро поставила вопрос о специфике мышления, его принципиальном отличии от чувственного отражения, но дело так и закончилось чисто негативными определениями: в многочисленных исследованиях представители этой школы убедительно показали, чем не является и не может быть мышление, но они не смогли ввести систему понятий, описывающих его и отвечающих на вопрос, а чем же оно является. Наиболее обещающей казалась попытка О. Зельца — исследователя, во многом разошедшегося с Вюрцбургской школой, — связанная с понятием процесса мышления, но она осталась, фактически, без всякого продолжения. Гештальт-психология сводила все в интеллектуальных процессах к функционированию «хороших» и «плохих» структур; для неё не существовало особой проблемы знаков и деятельности с ними. Мыслительный процесс выступал как преобразование «плохой» структуры в «хорошую». Но тем самым было совершенно уничтожено различие между мышлением и чувственным отражением. Но этот результат имеет свои глубокие основания и его не Понятия С. Л. Рубинштейна и его сотрудников — анализ, синтез, переструктурирование и другугие — настолько общи и неопределённы, что с их помощью нельзя выделить никакого эмпирического материала и ничто нельзя расчленить; в частности, пользуясь ими, нельзя уловить разницу между мышлением ребёнка и взрослого, слабоумного и учёного. Наиболее интересной среди всех этих попыток была, на наш взгляд, работа Когда ученики Одна группа работ, выполненная в Исключительно показательной была также и эволюции взглядов Ж. Пиаже. Опыт пятнадцати лет экспериментальных и теоретических исследований заставил его отказаться от идеи исследовать мышление детей чисто психологически, без обращения к логическим понятиям. Поэтому в середине или в конце На эту сторону дела указывают почти все исследователи; но более глубокий анализ показывает, что это только половина правды, а вся — состоит в том, что в психологической концепции Ж. Пиаже вообще не оказалось психологии мышления как таковой: как и другим ему не удалось выделить то мышление, которое может быть предметом собственно психологического анализа. Уже одни эти отрицательные результаты делают, на наш взгляд, достаточно сомнительной установку на создание особой и самостоятельной психологии мышления, на выделение того мышления, которое может быть предметом одной лишь психологии. Но кроме того нужно сказать, что в последнее время это же было показано на позитивном материале конкретных исследований и теоретическом разборе их результатов; на наш взгляд сейчас уже можно считать доказанной органическую зависимость психологического исследования мышления от предварительного логического анализа и описания его. Но это означает, что нет и не может быть особой психологической теории мышления, нет и не может существовать мышлении как предмета чисто психологического анализа. В качестве последнего штриха можно добавить, что все сделанные до сих пор попытки применить какие бы то ни было психологические понятия о мышлении для решения проблем методологии науки были исключительно наивными и жалкими. А сама установка — попробовать это сделать — существует и время от времени всплывает на поверхность только потому, что всё время оказываются ограниченными и недостаточными для решения проблем методологии науки понятия формальной логики. Таким образом, само это обращение к психологии мышления имеет чисто негативный смысл: нужно 5До сих пор, говоря о линиях выделения предмета методологии, мы совершенно сознательно не касались, Прежде всего потому, что рассмотренные выше направления логического и психологического анализа образуют полярные линии в разработке теории метода, а «теория познания» и «частные методологии» составляют как бы «середину» созданного ими угла. Начиная с Декарта и до настоящего времени все работы по «теории познания» — и «исследование человеческого разума» Дж. Локка, и «трансцендентная логика» И. Канта, и «теория духа» Г. Гегеля, и «феноменология» Э. Гуссерля — представляют собой смесь логических и психологических представлений, втиснутых в схему взаимодействия субъекта и объектов. Поэтому анализ логики и психологии и их отношения друг к другу есть вместе с тем анализ главного в «теории познания» [5]. Вторым важным здесь моментом является то, что логика и «психологизм» представляют собой всё же наиболее разработанные и систематизированные линии методологии, получившие в силу этого наиболее широкое признание. Наконец, в контексте нашего анализа особое значение имеет то обстоятельство, что ни одна из теоретико-познавательных или частно-методологических систем не стала научной теорией в точном смысле этого слова, описывающей свой объект расчленённым и во всех возможных деталях. По сути дела, как так называемая «теория познания», так и частные методологии это — совокупности методических проблем и попыток разрешить их с помощью отдельных понятий и принципов без создания широкой научной теории. Если бы мы имели здесь возможность более подробно обсудить различные направления «теории познания» и частные методологии, то без труда показали бы, что и им точно так же не удалось выделить предмет научного изучения. Что касается систем онтологии, то они вообще имеют второстепенное значение, так как всегда возникают и развиваются в русле тех или иных логических разработок, как их вспомогательный элемент. Кроме того, онтологические системы не отражают структур человеческой деятельности и поэтому не могут составить ядра предмета методологии. Все эти соображения оправдывают произведённое нами упрощение; во всяком случае, известно, от чего и как мы отвлеклись. И тогда история проблемы предмета методологии предстаёт перед нами в следующем виде. Уже в Древней Греции в совокупности методологических дисциплин наиболее систематическую и строгую разработку получает «логика», сначала — как система «методических предписаний», а потом — как описания (или схемы) различных рассуждений, в частности, формальных выводов. Это превращение логических положений из методических предписаний в знания ставит вопрос о выделении и определении предмета логики. Постепенно, в борьбе различных точек зрения и установок, под большим влиянием других методических проблем и понятий, не входящих в систему логики, выделяется в качестве такого предмета и занимает доминирующее положение «мышление». Параллельно с разработкой логики начинается разработка теории мышления; она всегда остаётся под влиянием логических понятий и принципов, но одновременно содержит много внелогических компонентов. И чем дальше продвигается разработка теории мышления — пусть в форме отдельных идей, понятий, фрагментов системного представления, — тем больше обнаруживается расхождение между ней и логикой, можно даже сказать, — несовместимость их. Ведущие логики XX столетия объявляют об этом во всеуслышание: они отдают «мышление» психологам. Те готовы взять его, но им это не удаётся. Мышление ускользает от них, не поддаётся их методам, а когда им кажется, что вот, наконец, они охватили его, что «мышление» у них в руках, то это оказывается лишь призраком, это уже не то «мышление», с которым в течение веков имели дело логики и философы, это не то «мышление», которое нужно методологии науки и которое должно составить предмет её изучения. Такова картина. И, глядя на неё, мы должны поставить основной, решающий вопрос: можно ли выбиться из этой дурной альтернативы — формальная логика или «психологизм?» Возможна ли непсихологистическая теория мышления? Чем должно быть и чем является «мышление» как предмет изучения действительной методологии науки? | |
Примечания | |
|---|---|
| |
Оглавление | |
| |