То, что я оказался докладчиком по третьему пункту программы нашего симпозиума, было для меня неожиданностью и поставило в несколько затруднительное положение: я представил материалы по двум другим пунктам программы и готовился выступать по ним. Таким образом неожиданно я был выведен на уровень некомпетентности и поэтому позволю себе немного пофилософствовать. Вместе с тем я хочу попробовать наметить ряд пунктов, которые представляются мне важными или даже узловыми в обсуждении круга вопросов, касающихся логики, логики научного исследования, логики поиска и форм организации управления научным поиском. Я постараюсь зафиксировать эти вопросы в некоторой иерархии. 1Первый вопрос, который меня очень занимает, может быть сформулирован так: научный поиск или функционирование и развитие сферы науки? Это, конечно, очень здорово, что мы смогли собраться здесь таким представительным коллективом для обсуждения вопроса о логике научного поиска и стратегии научного поиска, но у меня всё же есть подозрение, что уже давно не существует никакого научного поиска. Этот вопрос затронул в своём пленарном докладе Когда наука впервые возникала и складывалась — Конечно, это может быть и процесс познания, но точно так же это могут быть процессы функционирования и развития самой сферы деятельности, выступающей в роли своеобразного социального организма. При этом то, что было первоначально познанием — только познанием, или чистым познанием, — втягивает в себя другие деятельности — конструирование, проектирование, я не говорю уже об организации и управлении, инженерию в узком смысле слова, и так далее. И тогда мы должны уже задавать себе вопрос: что же, собственно, является здесь ведущим процессом, тем стержнем, на который накручиваются все остальные процессы? Поэтому, мне представляется, что те социологические мотивы, которые всё больше и больше проникают в современную методологию и теорию науки, являются результатом не только и не столько нашего углубления в природу наук и науки, сколько отражения тех реальных изменений в способах и формах существования самой науки, которые уже произошли или происходят на наших глазах. То, о чём вчера говорил Если речь идёт о технологии научно-исследовательской деятельности или проектно-исследовательской или Поэтому, заканчивая обсуждение этого пункта, я мог бы сказать, что научный поиск сегодня может осуществляться только на периферии науки, только отдельными учёными, живущими, по выражению Маркса, «в порах науки», но никак не всей системой науки в целом. Система науки в целом никакого научного поиска не осуществляет, а лишь функционирует по внутренним законам своей организации. Обстоятельство, на которое обращают внимание многие науковеды, как наши советские, так и зарубежные, а именно — исчезновение научного поиска в больших научных организациях, кардинальное изменение продуктивности и эффективности работы человека в них, на мой взгляд, не случайно, а является одним из характерных проявлений того, что научные организации, представляющие систему науки, перестали осуществлять научный поиск. 2Второй пункт, на котором я хочу остановиться, это — усиление и развитие социологической проблематики в современной методологии науки. На нашем симпозиуме было много выступлений, затрагивающих социальные аспекты существования науки. Я имею в виду совсем не то, что обсуждает третья секция — поиск в социальных и социальных науках, а именно социальные аспекты существования и функционирования науки как таковой. Дискуссия между Т. Куном и И. Лакатосом в материалах лондонского коллоквиума является лишь одним из эпизодов того большого и принципиального спора, который развёртывается сейчас в самых разных точках Земли на различных конференциях и симпозиумах, посвящённых нынешнему положению и перспективам развития науки: что именно должно лежать сейчас в основании методологии науки, методологии научного исследования — абстрактная логика развития, характеризующая процесс накопление научных знаний, или же социология и социальная психология, характеризующие законы и механизмы жизни научного общества? Мне кажется, что мы до сих пор всё же недостаточно используем социологические соображения в наших обсуждениях науки и механизмов её развития. Конечно, вы можете мне ответить, что в ИИЕТ, в особенности когда там руководили сектором Если мы переходим от одного из этих аспектов к другому, скажем, от анализа науки как совокупности знаний к анализу её как деятельности, то, совершенно очевидно, должна перемениться та призма, через которую мы смотрим на науку. Ибо при таком переходе принципиально меняется тип рассматриваемого и изучаемого нами объекта. Поэтому здесь я назвал бы в качестве второго кардинального вопроса вопрос о роли социальных аспектов в развитии науки и, соответственно, вопрос о социологических мотивах в методологии науки. 3Следующий вопрос, который представляется мне крайне важным, касается соотношения между функционированием и развитием науки. Но теперь он ставится уже не в отношении знания как такового, Мы живём в эпоху, когда категория развития является самодостаточной ценностью. Сегодня она определяет многое и многое из того, что мы делаем. Нас так воспитывали, и сейчас мы часто вообще даже не задумываемся над вопросом: а ради чего осуществляется это развитие, например, науки? Кроме того мы точно так же не спрашиваем, в какую сторону должно идти развитие, ибо молчаливо исходим из предположения, что развитие всегда идёт в ту единственную сторону, в какую оно только и может идти. Я, конечно, понимаю, что оба поставленных мной вопроса являются немного некорректными. Но ведь они возникают. Если уж мы всё время бежим вперёд, то в Если речь идёт о развитии сферы научно-исследовательской деятельности, то в действие вступают структурно-системные законы и появляется совершенно новая проблематика: любая сфера деятельности должна быть согласована и увязана с тем целым, внутри которого она существует. Отсюда, как мне кажется, вытекает необходимость постановки вопроса о служебной роли науки. Но теперь этот вопрос ставится и должен решаться в совершенно новых условиях, когда сфера научно-исследовательской деятельности уже соорганизовалась и окуклилась. И поэтому вопрос, который здесь уже ставился на предшествующих заседаниях, — поиск чего? — я бы переформулировал на новом уровне понимания всей ситуации: организация функционирования чего и организация развития чего? Ибо как только мы поставили вопрос так: должна развиваться научно-исследовательская деятельность, — то сразу же обнаруживается сомнительность такого утверждения. Если бы я усомнился в тезисе развития науки как совокупности знаний или системы познания, то вы бы меня высмеяли и были бы правы. Но если я задаю вопрос в новой форме: должна ли развиваться сфера науки, сфера научно-исследовательской деятельности, — то совершенно очевидно, что единственно правильным и разумным будет ответ: всё зависит от обстоятельств и наших целей — иногда должна развиваться, иногда должна оставаться на достигнутом уровне и лишь функционировать, давая нам необходимые знания, а иногда целесообразно её свернуть и подсократить. Вряд ли 4Но этот же вопрос приобретает куда более глубокий смысл, если мы начинаем учитывать те обстоятельства, на которые указывал в своём вступительном докладе академик Современная научно-исследовательская деятельность невозможна без деятельности по её организации, руководства ей и управления её развитием. Поэтому программирование, проектирование и планирование научных исследований и разработок, непосредственное управление и руководство ими становятся столь же важными элементами научно-исследовательской деятельности, как и сама познавательная деятельность. Больше того. Чем дальше развивается сфера науки, тем отчётливее мы видим значение и роль этих, в истоках своих служебных, деятельностей — программирования, планирования и организации НИР. Но самое интересное здесь — это то, что сегодня мы не можем провести чёткой демаркационной линии между программированием, планированием и организацией НИР, с одной стороны, и собственно научным исследованием, с другой. Два момента, столь различные в своих истоках, сегодня по сути дела слились. Нет организации, руководства и управления, причём не только в науке, но Отсюда возникает очень важная методологическая проблема соотношения ядерных элементов познавательной и научно-исследовательской деятельности и их организационно-управленческого оформления. Именно здесь, как мне кажется, мы можем прейти к обсуждению темы «стратегии». 5Истоки появления этого термина совершенно очевидны и хорошо известны. Греки называли стратегами людей, которые назначались руководителями военных действий. И если мы начинаем говорить о стратегии научного поиска, или стратегии научных исследований, то за этим, хотим мы того или нет, стоят определённые аналогии и определённые способы рассмотрения предмета. И действительно сегодня проблема организации научных исследований и разработок — это проблема организации и соорганизации больших масс людей, соорганизации не только интеллектуальных и духовных, но и всяких других человеческих и природных ресурсов человеческого общества. Конечно, понятие стратегии здесь отделяется от своего исходного материала, во многом теряет свой привычный бытовой смысл и приобретает новые компоненты смысла и содержания соответственно новым способам употребления. Естественно, что мы должны говорить о его новом значении. Но каково оно? Нам приходится говорить о понятии стратегии вообще. Я уже сказал в начале доклада, что тема эта лежит за границами моей компетентности, и поэтому я смогу высказать лишь самые поверхностные соображения на этот счёт. Но мне кажется достаточно очевидным, что понятие стратегии вообще возникает лишь после того, как мы получаем возможность достигать И тогда мы с вами приходим к необходимости обсуждать социотехническую структуру подобной деятельности. Здесь ещё раз, как мне кажется, проявляется неразрывная связь между собственно познавательной деятельностью в узком смысле и организационно-управленческой деятельностью по отношению к ней. Давайте вдумаемся в ту примитивную картинку, которую я нарисовал.  На ней изображены пути, которые могут быть пройдены, реализованы. Следовательно, каждая из линий символизирует Как правило, учёный искал решение. Если находил одно, то мог поискать другое, третье и так далее. Но он не выбирал из этих методов и способов решения то, которое будет реализоваться как стратегия. Прежде всего потому, что он, как правило, был один. А поэтому ему не нужны были ни организация, ни управление, ни выбор или оценка. У него не было социотехнических структур деятельности. А ныне мы можем осуществлять научно-исследовательскую работу только в том случае, если у нас над ней развёртываются в чистом и полном виде социотехнические структуры организации и управления и обе их составляющие — организующая и организуемая, управляющая и управляемая, руководящая и руководимая — выявлены и оформлены в своём чистом и полном виде и осуществляются как таковые со всеми специфическими моментами их технологии, то есть с созданием программ, проектов, планов, предписаний, инструкций, методик и так далее. Таким образом, мы с вами приходим к очень интересному вопросу: куда же, собственно, мы должны спроецировать понятие стратегии? Если сегодня научно-исследовательская деятельность представляет собой неразрывную связь двух таких «половинок» деятельности — исходной ядерной деятельности и вторичной деятельности над деятельностью, если это обязательно — и то и другое вместе, — то, спрашивается, к чему же относится стратегия как таковая?  Вы мне ответите, что к обеим вместе. Но ведь тогда мы приходим к очень «неудобному» вопросу: а какая же деятельность в таком случае является сейчас «ядерной?» И мне приходится говорить очень странную и вызывающую у меня самого удивление вещь, что в современном научном исследовании ядерной деятельностью является организация, руководство и управление, а отнюдь не познание как таковое. И поэтому, когда мы говорим о стратегии научно-исследовательской деятельности, то должны, исходя из понятия стратегии, членить и анализировать именно организацию, руководство и управление, а совсем не научное исследование. 6Но это означает, что кардинальным образом меняются и должны изменяться сами принципы членения. Если в схеме социотехнической системы я представил рассматриваемый нами предмет как взаимосвязь и соорганизацию двух деятельностей — управляющей и управляемой, то теперь, глядя на всю сферу науки, я должен представить её как очень сложную иерархию, где отношения организации, руководства и управления пронизывают буквально всю сферу, выступают как её мерный аппарат, в котором организация и управление, проявляющиеся в таких деятельностях, как программирование и планирование, а также в специальных исследованиях, проводимых для обеспечения программирования и планирования, неразрывно связаны с собственно познавательными исследованиями, фактически ассимилировали, сняли их в себе. Каждому из уровней иерархии соответствует своя маленькая подсфера, или область деятельности, структурированная своими отношениями и связями организации, руководства и управления. Но если мы таким образом представим сферу науки, или сферу научно-исследовательской деятельности, если мы будем глядеть на неё сквозь призму этих двух схем — Можно было бы сказать, переводя все это на обыденный и привычный язык, что наука — и как деятельность и как знания — не является стихийным объектом, она уже организована и управляется нами. Можно сказать также, что мы уже реализовали фактически гегелевскую идею об искусственном снятии естественной истории науки. Реализовали благодаря работам Маркса, Ленина и воплотили это не в героических помыслах и фантазиях, Структуры организации, руководства и управления бесспорно пронизывают всё тело научно-исследовательской деятельности, именно они сейчас структурируют и организуют её. Вопрос лишь в том, что именно реализуется этими структурами, какое руководство и какое управление. 7Но если всё, что я сказал, правдоподобно, то у всех подобных объектов уже не может быть естественных законов функционирования и развития в точном смысле этого слова. Если всё это не стихийные, а организованные процессы, то возникает очень интересная и вместе с тем очень сложная методологическая проблема: каким же образом их изображать, фиксировать и описывать в научных или квазинаучных знаниях? Мы сталкиваемся с этим, хотя И если мы хотим исследовать прыжок и получить знания о нём, то мы вынуждены заполнять разрывы, связанные с изменением техники, И здесь я прихожу к ещё более странному и удивительному выводу. 8Я подхожу к этому тезису с крайней осторожностью, хотя целый ряд авторов уже произносили его, а иногда и публиковали. Например, Речь идёт о том, что наука, вполне возможно, уже умерла. Мы здесь обсуждаем вопрос об организации и стратегии научного поиска, но возможно, что зря, ибо наука как таковая умирает, а может быть даже и умерла уже. Но я хочу чтобы вы всё правильно поняли этот тезис. Речь идёт не об учёных — они, слава богу, живы — и не об исследованиях и разработках — они продолжаются и будут дальше расширяться всё дальше и всё больше. Речь идёт о науке как об особой форме организации исследовательской деятельности и человеческого мышления, о той форме организации, которая была характерна для XIX столетия и именно в этих, ставших уже традиционными и привычными, организационных формах отражена и зафиксирована современным науковедением. Именно об этой организационной форме науки То, что раньше было научным поиском и научным исследованием, теперь организуется Мы уже не можем говорить о науке как таковой, а должны говорить о научных предметах. Наука как таковая как бы «выпадает» с уровня эпистемологических представлений; на нём остаются лишь отдельные научные предметы. Нет даже физики как таковой — всё это перемещается на уровни социальной и социокультурной организации, на уровень социально-психологических ориентаций индивидов и социальных институтов. Наука, если брать её в эпистемологическом представлении, распалась на множество отдельных научных предметов, которые являются замкнутыми и автономными эпистемологическими единицами и, в силу этого, должны рассматриваться как таковые. Если теперь вы спросите, что же объединяет все эти предметы и организует их в одно целое, то я, отвечая на этот вопрос, должен буду встать на исторические позиции и сказать: в Наука, по перефразированному выражению Д. Гилберта, стала сама по себе философией, но это означало — теперь уже в прямом соответствии с этим выражением — лишь то, что она распалась на множество никак не связанных между собой научных дисциплин. Но как естественная контр-установка всему этому стало складываться интегрирующее и объединяющее мышление и появилась соорганизующая разные дисциплины и разные стили мышления единая форма работы с научными предметами — через них и поверх них. Это и есть то, что мы называем методологической работой и методологией. На мой взгляд, все мы, хотим мы этого или нет, понимаем это или не понимаем, являемся свидетелями и участниками исключительно важного исторического переворота: место науки как формы, организующей и объединяющей разные научные предметы, занимает методология, совершенно Таким образом, тезис, который формулировали уже Маркс и Энгельс, что не может быть подлинной науки, которая не была бы проникнута философской рефлексией и философской мыслью, сегодня и дальше с каждым днём приобретает всё большее значение. Но его ни в коем случае нельзя понимать плоско, в духе отождествления науки и философии, а надо понимать системодеятельно, различая разные уровни иерархии в организации науки и научного мышления. Проникновение философии в науку выражает себя в созидании методологии как новой формы организации науки и человеческого мышления. По сути дела сегодня мы всё время сталкиваемся с такими ситуациями, когда учёный, работая на разных уровнях иерархии сферы науки, обязан не только рассматривать и изучать объект своей познавательной деятельности, но и постоянно рефлектировать свою собственную деятельность и определять её место Такими структурами, позволяющими «видеть» и осваивать все и любые формы современного мышления, являются, на наш взгляд, методологические структуры (или методологическая организация) мышления, объединяющие разные типы, стили и способы современного мышления. Совершенно ясно — Во-первых, — за счёт введения новых форм социальной организации исследовательской деятельности и мышления. Поскольку отдельный человек пока что, как правило, не может удовлетворить сформулированным выше требованиям, возникают такие формы иерархированной кооперации, в которых на каждом уровне отдельные люди решают задачи лишь определённой степени общности, опираясь на ограниченные группы средств. Сюда, например, надо будет отнести все формы систематической организации деятельности и ряд других менее стандартизованных форм. Во всех случаях организация как бы дополняют и восполняет недостатки способностей отдельных людей. В таком случае только руководители исследований и разработок должны владеть средствами и методами методологического мышления; и обратно: методологическое мышление и методология выступают в качестве необходимого основания и оснащения для деятельности руководства научными исследованиями и разработками. Нетрудно заметить, что это имеет уже самое прямое отношение к нашей теме — организации и стратегии управления научными исследованиями и разработками. Второй путь решения встающих здесь проблем связан с развитием и совершенствованием системы образования. Здесь, как мне кажется, исключительно важная роль принадлежит философии и преподаванию философии. Хотя философ отнюдь не всегда оказывается сейчас компетентным в специальных вопросах науки, инженерии, организации, управления и так далее, тем не менее именно он сегодня несёт и воплощает в себе точку зрения целого. Поэтому от того, как он сегодня будет участвовать во всех социально-значимых процессах, зависит очень многое. А это, в свою очередь, определяется прежде всего уровнем философского образования — тем, как будет построена программа подготовки философских кадров и обеспечены условия для их педагогической работы. И если всё это будет на высоком уровне, то тем самым будет определён Мне важно подчеркнуть также, что я говорю сейчас не о Это означало, на мой взгляд, требование, чтобы философия освоила средства и методы научного мышления и использовала их для своего развития. Ведь, по сути дела, именно на этом паразитирует позитивизм, и мы не можем сказать, что всё это просто неверно. Мы должны предложить более сложное и многостороннее решение: сохранить специфику философского мышления, взяв одновременно из науки всё богатство развитых ей мыслительных форм. И если философия станет таковой, то она действительно сможет обеспечить развитие наук — и математики, и физики, и биологии, и химии, и социологии, и психологии. Если же философия не обеспечивает дальнейшего развития, физика создаёт свою собственную «физическую философию», биология — свою собственную «биологическую философию». И мы сталкиваемся с этим как с неким естественным явлением. Происходит распад философии, и вместе с тем ставится под угрозу единое существование человечества как мыслящего субъекта. Все области науки начинают расходиться по своим экологическим нишам, и вместе с тем исчезает единый «мыслящий человек». Остаются «физически мыслящий» человек, «биологически мыслящий» человек и так далее. Наука, управляемая философией, перестаёт быть той интегрирующей силой, которая раньше поддерживала существование единого человечества. Наука сама расходится по множеству несвязанных друг с другом коридорчиков. И опять-таки смешно и наивно махать по этому поводу руками. Этот процесс детерминирован не только внешними обстоятельствами, но и внутренним ходом развития самой науки, законам специализации её различных областей и разделов. Но кто тогда будет интегрировать человеческое мышление, кто будет представлять его целостность? Вопросы, которые я сейчас ставлю, — не плод досужей фантазии или страсти к абстрактному теоретизированию. Это то, что ставится сегодня на повестку дня, это то, к чему мы уже пришли в ходе естественного развития науки и философии. Хотя, конечно, мы можем не успеть за этим процессом, что приведёт к очень серьёзным последствиям для человечества. Ведь отнюдь не всякая социальная потребность находит в обществе необходимые для её удовлетворения средства и методы. Таким образом мы с вами приходим к следующим, очень важным проблемам, которые я назвал бы: первую — проблемой популятивной организации науки и вторую — проблемой соотношения науки и методологии. По сути дела, мы должны наметить и определить те тенденции, которые имеют место в развитии форм организации человеческого мышления сегодня. На мой взгляд, эти тенденции лучше всего схватываются в понятии популятивной организации. Вместе с тем это — вопрос о границах свободного естественного процесса развития науки и его организации, вопрос о соотношении искусственного и естественного — того естественного, которое по своей структуре тоже является искусственно организованным. Но, несмотря на эти переходы и превращения естественного в искусственное, границы между тем и другим могут быть чётко определены и очерчены на каждом уровне организации, ибо они определяются теми формами организации, которые могут быть искусственно созданы. Я уже сказал, что здесь мы можем перейти к уровню отдельных научных предметов и обсуждать вопрос о тенденциях и линиях естественного, неорганизуемого их развития, а вместе с тем и науки в целом, взятой на этом уровне. В этом месте я могу уже облегчённо вздохнуть, ибо возвращаюсь к тем вопросам и проблемам, которые обдумывались и исследовались мной многие годы. То, что я говорил выше, в лучшем случае может претендовать на то, чтобы быть моим личным мнением. И я убеждён, что многое и многое было мной просто пропущено, а то, что я перечислил, это — минимум вопросов, который мы должны затронуть и обсуждать, если хотим разобраться в стратегиях научного поиска (если рассматривать это выражение как условное и задающее большую область логического и методологического поиска). Но то, к чему мы переходим сейчас, — это уже результаты длительных и скрупулёзных исследований и поэтому я могу изменить стиль и способ самого обсуждения. Оно станется столь же кратким и схематичным, но будет более точным и более определённым. Я буду рассказывать об основных технологических режимах работы в научном предмете. И буду это делать на схемах научного предмета, трактуемых в качестве его моделей. При этом я постараюсь затронуть и по своему решить ряд проблем, которые были здесь уже поставлены. Я уже рисовал здесь на прошлых заседаниях (хотя всё время мимоходом и мельком) набор блоков, характеризующих состав и структуру научного предмета. Теперь я попробую сделать это более систематично и проинтерпретировать связи между блоками с точки зрения основных процессов работы в научном предмете. Мне представляется крайне важной и принципиальной мысль, высказанная здесь вчера Но я не могу согласиться и принять трактовку всех этих областей как эмпирических — и вчера, как вы помните, это вызывало возражение не только у меня. Здесь, как мне кажется, происходит Б. С. Грязнов: Она создаётся научными знаниями… Я так и думал, что здесь скорее терминологические расхождения, а не расхождения по существу. Но Сейчас мне представляется совершенно бесспорным существование в науке такой технологической линии и такого режима работы, что если брать эту линию саму по себе, то она никак не может рассматриваться как научная. Это, по сути дела, чисто практическая линия, дополняемая процедурами измерения и их результатами, которые — подчёркиваю этот момент — органически входят в практику. Соответственно этому представлению я рисую здесь некоторую область практики, ввожу измерительные процедуры, организованные в определённую систему, и утверждаю, что за счёт процедур измерения мы можем извлекать из области практики так называемые «данные». Эти данные не надо отождествлять с так называемыми «фактами», (хотя потом они и могут стать фактами). Важно, что данные суть определённого рода знания. Я не думаю, что сейчас Но существо дела здесь совсем не в том, что «данные» и «факты» не зависят от нашей деятельности и мышления, а лишь в том, что они лежат «ближе всего» к объектам оперирования и получаются нами либо путём непосредственного восприятия, либо путём чётко фиксируемых операций и процедур. Итак, посредством измерительных процедур мы получаем «данные», которые составляют особую группу знаний, а затем перерабатываем их в обобщённые знания, которые используются в другой области практики. 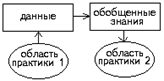 Можно считать, что это — первая технологическая линия порождения и использования знаний, Примечательно, что последующее развитие науки как таковой и составляющих её иных технологических линий не только не устраняет этой технологической линии, но, наоборот, делает её массовидной. Здесь, следовательно, нельзя пользоваться традиционными эволюционно-организмическими представлениями: развитие более сложных форм мыслительной работы на базе и из простых форм целиком сохраняет и даже поддерживает и развивает эти простые формы. Более того, между простыми и более сложными формами может возникать конкуренция, и нередко выигрыш в ней будет принадлежать более простым формам. В рамках очерченной мной организации возникает множество весьма сложных философских, методологических, эпистемологических и логических проблем. В частности, сюда должны быть отнесены многие проблемы структуры суждения и умозаключения, проблемы кванторов, проблемы индукции в её аристотелевском и бэконовско-миллевском вариантах и многое другое. Мимоходом хочу подчеркнуть, что все проблемы индукции принадлежат принципиально донаучному этапу развития мышления (хотя обсуждение этого круга проблем внесло свою лепту в становление специфически научной организации мышления и знаний). Но за ними стояли совершенно реальные проблемы. Ведь для того, чтобы перевести «данные», полученные путём измерения и, следовательно, вырванные из контекста и всеобщей взаимосвязи практики 1, в форму обобщённых знаний, допускающих применение их в области практики 2, нужны очень сложные и изощрённые методы и, в том числе, математические методы обработки и переработки «данных». И эта линия продолжает интенсивно развиваться и сейчас. Все известные нам (и интенсивно обсуждаемые) методы статистической обработки данных, методы корреляционного анализа, методы «опознания образов» и тому подобные — все это методы донаучного мышления, и они остаются таковыми, несмотря на развитие вокруг них весьма сложных методик, частных методологий и собственно математического аппарата. Можно было бы сказать, что во всех подобных случаях развитие математики и математических методов противостоит онаучиванию мышления и избавляет его от необходимости онаучиваться. Для всех таких форм характерно, что они развёртываются независимо от ответа на вопрос, каков же в каждом случае объект изучения. Эти структуры мышления имеют дело с миром явлений, и они не могут дать ответ на вопрос, как из мира, в котором все со всем связано, выделить такие относительно устойчивые и инвариантные образования, какими являются объекты. В силу этого все подобные методы никогда не могут дать ответа на вопрос, какие именно данные связаны между собой за счёт принадлежности к одному объекту, а какие, наоборот, не связаны, поскольку принадлежат к разным объектам. Только благодаря тому, что так называемый «закон постоянства весовых соотношений» был принят в качестве принципа, выделяющего и задающего объект собственно химических исследований — можно сказать даже резче: в качестве задающего «химическое соединение» как объект изучения в его отличии от «физической смеси» — только благодаря этому химия смогла выделить свой предмет, окуклилась на базе этого представления о своём объекте и оформилась в самостоятельную науку. И когда мы пытаемся осмыслить и зафиксировать этот момент, то приходим ко второй технологической линии получения, или формирования, знаний. 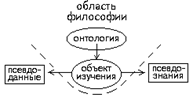 Но как это ни странно на первый взгляд, и эта более сложная организация мыслительной работы является ещё только пред научной. Но это, что уже не так очевидно, как в случае с первой технологической линией, и поэтому обсуждение этого момента является и более тонким, и более интересным. Здесь очень важно, что первая линия, развёртывающаяся, как я уже сказал, в преднаучных предметах, не имеет и не предполагает представления об объекте изучения, хотя обобщённые знания только потому и могут существовать как обобщённые, что в области практики по сути дела (хотя Чтобы пояснить этот тезис, я приведу совсем грубый пример. Если я исследовал некоторый практический объект X и выявил его Вспомним, что писал Кант по поводу истинности понятий: сами по себе они не бывают ни истинными, ни ложными; ко лжи приводит неуместное употребление понятий. Но как раз для решения этой проблемы, непрерывно обсуждаемой от Аристотеля до Канта и дальше до настоящего времени, для решения этой проблемы уместности применения тех или иных понятий или обобщённых форм знаний и вводятся онтологии, то есть представления об объектах как таковых (конечно, не в логике, Я не совсем понимаю, почему Другое дело, что мы ещё во многом остаёмся зависимыми от гегелевских представлений и, в частности, от его трактовки логики как науки, мы до сих пор в нашей марксистской философии и методологии недостаточно разделяем логику и онтологию. И я сам 20 лет назад, принимая целиком и полностью тезис о тождестве логики, онтологии и теории познания, не хотел даже прислушиваться к суждениям Принцип тождества логики, онтологии и теории познания был крайне важен Гегелю, без него его система просто не складывалась. Но всё последующее развитие философской мысли пошло по линии показа различий между ними, необходимости этих различий и вместе с тем взаимосвязи и единства трёх систем в рамках философской и методологической работы. И это происходило отнюдь не в силу логики чисто философских спекуляций, Вернёмся, однако, к обсуждению второй технологической линии исследований. Я утверждаю, что одно из необходимых направлений развития первой технологической линии заключается в том, что должно появиться представление об объекте. Без него всякое знание, выработанное с помощью механизмов первой технологической линии, если хотите, «слепо»: нет ответа на вопрос, в отношении к каким объектам оно будет истинным или же, наоборот, ложным. А этот вопрос возникает постоянно и должен получить ответ. И он даётся, как я уже сказал, за счёт создания онтологии, то есть специальной системы взаимосвязанных между собой изображений объектов, за счёт создания картины мира. Но решает эту задачу, как все вы хорошо знаете, сначала отнюдь не наука, а философия, которая сменяет в этом мифологию. Можно было бы сказать, что вклад философии в развитие человеческого мышления состоял прежде всего в разработке особых мыслительных средства и методов построения и развёртывания онтологических картин и, уже как вторичный результат, в создании самых этих картин. Но если создаются онтологические схемы и картины — Важно подчеркнуть, что эта её работа могла идти либо в рамках только второй технологической линии, либо же — при определённом соотнесении и связывании двух линий. Первая стратегия работы давала нам чистую философию и привела к возникновению того, что мы сейчас называем математикой, а вторая — привела к появлению инженерии и науки. Главное, что мы здесь должны выделить и подчеркнуть, это то, что началась работа по соорганизации двух технологических линий в одно целое. И только тогда, когда они были соорганизованы, появилось то, что Возникают дополнительные линии исследовательской работы, для них создаются специальные средства и методы. Поэтому здесь я уже могу говорить и третьей технологической линии, которая развёртывается на базе двух первых и особым образом соединяет их. Если мы возьмём «Беседы о двух новых научных механиках»… Галилея, то увидим совершенно отчётливо механизмы такого сличения. Но куда мы должны отнести его, по какому ведомству записать? На мой взгляд, все это пока тоже ещё не наука в прямом и точном смысле слова. Это — особая методологическая организация, методология, но не та методология науки, которую мы привыкли обсуждать, а методология как более широкая форма организации мышления и деятельности, внутри которой складывается и формируется сама наука. Эта методология представляет собой исключительно сложное соотнесение и объединение философии, математики, методики, истории, техники, инженерного опыта и эксперимента, и внутри всего этого лишь намечаются будущие контуры собственно науки, инженерии и методологии того и другого. Но таковы же книги Декарта, братьев Бернулли, Дальтона и других. В «Беседах» Галилея можно найти зародыши самых разных форм организации мышления и исследования, в том числе и собственно научной организации. Из шести «дней» только третий и шестой (да Но здесь возникает наиболее важная проблема. Мне очень понравились некоторые места из последней статьи Если я правильно понял, Рабиновичу их ответ показался смешным. Но это, как мне кажется, произошло Но ведь наша онтология может быть неверной, ошибочной, ложной. Здесь появляется эксперимент и всё, что с ним связано, а вместе с тем — следующая, четвёртая технологическая линия. Именно Галилей, в противоположность Леонардо да Винчи, который всю жизнь занимался опытами, создаёт эксперимент и тем самым науку в современном смысле слова. А рядом и, по сути дела, из того же самого начала возникают модель и моделирование. Я помню, что на меня в молодости произвела огромное впечатление книга Но это значит, что наряду с обычной практикой возникает, создаётся нами ещё особая, экспериментальная, практика. И из неё теперь начинают выводиться как новые, экспериментальные факты и данные, так и новые знания, которые, будучи единичными, трактуются нами как обобщённые.  И далее «факты» и «знания» начинают сопоставляться и сличаться с уже имеющимися данными и знаниями, полученными в первой технологической линии, и псевдо-данными и псевдо-фактами, полученными во второй технологической линии. Это обстоятельство, по сути дела, совсем не учитывается современной логико-методологической традицией. Как ни странно, но экспериментальная ситуация непосредственно и прямо даёт нам «обобщённые знания». Б. С. Грязнов: Это совсем не странно. Не нужно только пользоваться словом «обобщённые» в обычном тривиальном смысле этого слова. И тогда всё станет понятным и ясным. Да, необходима очень глубокая ревизия обычного смысла слова «обобщённое». А вместе с тем ревизия слов «единичное», «особенное» и «общее», и кванторов «один», «некоторые» и «все». И я целиком согласен с Мне важно подчеркнуть, что складывается, таким образом, пятая технологическая линия — линия моделирования. Она завершает формирование основного ядра науки. Мне могут возразить, что линия моделирования предшествовала линии эксперимента. Я не буду спорить, может быть, даже приму этот тезис. Для меня важен не порядок их возникновения, а их взаимосвязь и прямая дополнительность. Линия моделирования вместе с линией экспериментирования образуют, на мой взгляд, ядро науки (в узком и точном смысле этого слова). Они создают то, что может быть названо «практикой науки». Все остальные линии и виды работ начинают подстраиваться к ним и соорганизовываться с ними. Возникает специфически научная организация мышления и исследования, для которой главными отличительными признаками, повторяю, являются моделирование и эксперимент. А все другие формы и способы получения знаний — то, о чём говорил Таким образом, внутри научной организации мышления складывается и оформляется много разных способов получения обобщённых знаний. Возникает много дополнительных линий мыслительной, исследовательской работы, как например, сопоставление объектов — практических, онтологических, экспериментальных, модельных, сопоставление данных или «фактов» и «псевдо-фактов», сопоставление знаний разного рода и псевдо-знаний и так далее. И вот когда вся эта весьма сложная и многоплановая соорганизация науки и научной работы предстаёт перед нами, тогда вновь мы сталкиваемся с проблемами стратегий — стратегий научного поиска и стратегий организации научной работы. У американцев была очень широко распространена фраза: «Если вы хотите решить какую-либо проблему, то у вас есть два пути — можно взять трёх высокооплачиваемых теоретиков или же десятка три низкооплачиваемых экспериментаторов». Это, конечно, шутка. Подлинная проблема, как мне кажется, состоит совсем в другом: как соединять и комбинировать между собой все эти технологические линии в процессе развития науки или же в процессах решения тех или иных практических задач. И именно её мы должны дальше обсуждать, если хотим сделать Благодарю вас за внимание. Вопрос: Значит, у вас онтология — это представление об объекте? Да, вы совершенно правы: представление об объекте, но представление, маркированное совершенно особым образом, это — представление об объекте, каким он является на «самом деле», и, следовательно, такая схема и такое изображение объекта, которое мы отождествляем с самим объектом; мы рассматриваем это представление как сам объект. Этим онтологическое представление объекта принципиально отличается от знания. Вопрос: Но это же мы строим онтологическое представление. Да, конечно, мы его конструируем. Но вопрос не в том, как оно реально получается, Отсюда же растут все проблемы содержательного, а не формального мышления, основывающегося на использовании схем многих знаний. Современное исследование, в том числе и научное, строится на множестве разных знаний об объекте. Мы должны работать с ними всеми, а следовательно, иметь Б. С. Грязнов: Считаете ли вы возможным рассматривать научное знание как самостоятельный организм, и существует ли, в силу этого, Мне кажется, что здесь два, а может быть даже три разных вопроса. Я попробую их Как видите, я очень сложно, отнюдь не прямо отвечаю на ваш вопрос. Всё зависит от того, как вы понимаете знание: если как организованность внутри структур функционирования, то получится один вопрос, а если как сами эти структуры, то — другой. И то же самое — в отношении научного знания. Но я полагаю, что В общем виде я могу вам ответить так: во всех науках, вырастающих из теории деятельности, — а теорию знания я считаю именно такой наукой — мы должны исходить из необходимости двойного (тройного и так далее) рассмотрения её образований. И этому соответствует очень строгая логика анализа: сначала описываются системы деятельности, а потом, на базе полученного описания и исходя из него, развёртываются описания разных организованностей деятельности и их движений. Именно поэтому могут и должны существовать семиотика и эпистемология — помимо и кроме теории деятельности — как особые и самостоятельные науки, описывающие именно то, о чём вы спрашиваете, — разные траектории развития предметов (в том числе научных) и знаний. Итак, подобные траектории есть, описание их возможно и необходимо, но только на базе теоретико-деятельностных представлений и исходя из них. Б. С. Грязнов: Вы не хотите платить ни за что. Я хочу платить и за то, и за другое. Но я действительно не хочу платить за путаницу и сумятицу. Вопрос: Поскольку вы не противопоставляете факты знаниям, вы, наверное, должны отрицать возможность проверить истинность теоретических построений фактами. Да, конечно. Но ведь это отнюдь не новая проблема, и позиция, которой я здесь придерживаюсь, выдумана тоже не мною. Как вы хорошо знаете, в логическом плане она обсуждается в работах К. Поппера, и он предложил несколько вариантов её решения. Я считаю его подход неудовлетворительным. На мой взгляд логика вообще не может дать решения этой проблемы. Как вы знаете, более 100 лет назад это было зафиксировано Марксом. Критерий истинности теоретических построений — общественно-историческая практика. Логика же исследует лишь различные виды логической истинности (или правильности), но их может быть много разных в зависимости от того, что мы принимаем за основание оценки — могут быть:
Таким образом, многие затруднения и недоразумения порождены, Кроме того, чтобы не получить слишком одностороннего представления, нужно ещё отметить, что ход общественно-исторической практики отражается в различных организованностях научного предмета (в первую очередь в онтологических картинах) Но мы знаем такие организованности: это — онтологии. И поэтому мы должны говорить об онтологической истине. И должны учитывать фундаментальные механизмы нашей исследовательской работы, в частности то, что Между прочим, из всего сказанного следует, что частный опыт работы только в том случае влияет на организованности науки и оценку их истинности, если онменяет общественно-историческая практику. И именно с этой точки зрения должен рассматриваться и оцениваться всякий эксперимент. Вопрос: Что значит «на самом деле», например, «объект на самом деле» или Я понимаю подоплёку вашего вопроса. В докладе я вынужден был Прежде всего не надо считать, что когда я употребляю выражение «на самом деле», то думаю, что я сам или Но мало объяснить смысл выражения, нужно ещё оправдать стоящий за ним приём, или операцию. Этого я не сделал. А здесь нужно было бы, после того как я изобразил основную организацию науки, сказать, что она окукливается и начинает функционировать сама по себе с опорой только на экспериментальную практику. Ведь проблемы внутри научного предмета — это лишь особые формы фиксации разрывов между наполнениями разных блоков, составляющих систему научного предмета. Проблемы могут касаться соответствий между любыми блоками предмета. Обычно считают, что получение новых фактов вводит в эту систему «законные» рассогласования. Но почему так? А если, скажем, рассогласования возникают Таким образом, научные предметы всё время втягивают в себя самый разнообразный материал и превращают его в своё научное содержание, за счёт чего наука и получает самодвижение, или спонтанное развитие. И на самом деле есть только одно — непрерывное развитие науки, конструирующей все новые и новые объекты. Но… в этом движении исследователи всё время применяют один и тот же приём, или, если хотите, механизм. Приступая к восстановлению равновесия между блоками научного предмета они обязаны — обратите внимание: обязаны — принять содержание И, наконец, последнее замечание. Во всём этом движении выделяется один блок, на который возлагается функция изображать то, что «имеет место на самом деле», — блок онтологии. И тогда получается, что он становится основным блоком, направляющим и регулирующим самодвижение науки. Это самодвижение, повторяю ещё раз, и есть то единственное, что существует «на самом деле», а всё остальное — лишь исторически меняющиеся и исторически преходящие наши представления о социальном и природном мире. Вопрос: Можно ли вас понять таким образом, что философия выполняет методологические функции по отношению к науке и именно это вы сейчас обсуждали? Я старался показать, что первоначально так и было, то есть философия выполняла функции методологии по отношению к науке. Но это мы говорим с точки зрения наших нынешних представлений и той организации человеческого мышления, которая начала складываться лишь Но всё это лежит за рамками того, что я обсуждал. А говорил я уже не о методологических функциях философии по отношению к наукам, Я исходил и исхожу именно из такого представления, и во всех моих докладах и публикациях именно такое представление составляет основу и рамки всякого обсуждения и анализа. Но сегодня это, опять-таки, не обсуждалось, а лишь присутствовало как фон, на котором я разворачивал все мои рассуждения и представления. Сегодня обсуждались специфические организованности науки, их состав, основные процессуальные и функциональные структуры, линия становления и развития их и так далее. Я действительно полагаю, что все организованности науки как бы плавают в методологии, они в методологии и через методологию возникали, они в ней остались, ибо именно она приводит их во взаимодействие друг с другом Реплика: Я не уловил, как вы соотносите и связываете друг с другом логику и онтологию. Вроде бы получалось, что сначала язык и математика надстраиваются у вас над низшими этажами научного (даже преднаучного) предмета, потом над всем этим надстраивается онтология; но как она сама связана с языком и логикой и как они влияют на неё — всё это осталось неясным. Грубо говоря: онтология ли определяется языком или же, наоборот, язык определяется онтологией? В последнем случае по логике ваших схем язык и логика должны были бы стоять выше онтологии, над ней. У вас очень серьёзные и интересные вопросы, хотя отчасти они вызваны недостатками моего изложения. Блоки языка и средства разного рода, а также блоки методик стоят как бы в стороне от основных блоков, конституирующих основные технологические линии; они определяют преобразование наполнений одних блоков в наполнение других блоков и формы выражения наполнений в каждом блоке. Здесь происходит очень сложный процесс оформления содержания и преобразования его из одной формы в другую. Когда происходит усложнение технологических линий, их присоединение друг к другу и структуризация в одно целое, Поэтому нельзя спрашивать, строится ли онтология над или под логикой. Онтология строится в основных технологических линиях, а языки-средства и методики суть обеспечение и обслуживание их (см. схему). В качестве следующего надстроечного слоя (следующего, конечно, в логическом плане) выступят блоки проблем и задач, поэтому они отмечены цифрой 3. Но далее всё это будет рефлексивно отражаться в блоках языков-средств и методик, а затем опускаться в технологические линии и сниматься в них.  Здесь, следовательно, нет линейной последовательности и упорядоченности, выражаемой движениями в двух измерениях — «слева — справа», «выше — ниже», «под — над», а есть очень сложная функциональная структура, непрерывно снимаемая и
В первом подпространстве нам придётся ставить и обсуждать, к примеру, такие вопросы, как относительная свобода, и независимость (друг от друга) функциональных структур, организованностей материала и процессов, Только на таком, очень сложном и длительном пути многих челночно организованных исследований, восходящих от абстрактного к конкретному, мы можем получить достаточно серьёзный ответ на ваш вопрос об отношениях и связях между онтологией и логикой, ибо они постоянно рефлексивно отражают друг друга. В ходе исторического развития происходит постоянное оборачивание и они как бы меняются местами: то логика отражает онтологию, то онтология отражает логику. Но даже эти, весьма общие замечания позволяют мне в принципе ответить на ваши вопросы. Нельзя ставить их таким образом, ибо разделительное «или» здесь не соответствует сути дела. Онтология и логика взаимо связаны, и если мы берём эту взаимосвязь структурно, ахронически, то говорить об «или» просто нельзя. А для того, чтобы оно получило В этом плане опять-таки очень интересны работы Галилея. Его онтологическая картина механики содержит конструктивное ядро (третий день), а вокруг ядра расположены «картинные» части, фиксирующие среду, её сопротивление падающим телом, неявно — силы сопротивления, различные в зависимости от плотности среды и так далее. Но механического понятия силы у Галилея ещё нет — его, как известно, впервые вводит Ньютон, — а поэтому сопротивление среды и силы сопротивления присутствуют у Галилея лишь картинно Но теперь в связи с этими представлениями я хотел бы вновь поставить ваш вопрос: так, что от чего зависит — онтология от языка и логики или логика и язык от онтологии? И я отвечаю: каждый шаг в развёртывании наших онтологических представлений связан с введением новых языковых (в широком смысле) средств и понятий, а развёртывание и развитие онтологии позволяет нам создавать новые понятия и ставит новые требования к языку, заставляя нас развивать его. Вместе с тем всё более усложняются процедуры и приёмы работы, соотносящие и связывающие друг с другом онтологические картины, языковые средства и понятия, а это значит — меняется и развивается логика (как методика и технология нашей мыслительной работы). В результате формируется — что очень важно иметь в виду, ибо без этого наше представление будет однобоким и неверным — не один язык, а много языков, не одна логика, а много логик, и все они участвуют в едином процессе мышления и мыслительной работы. Но если языков и логик много и все они участвуют в едином процессе, то мы обязаны задать вопрос: что же именно из объединяет и структурирует в одно целое, что задаёт их внутреннюю связь и единство? И на этот вопрос я ответил бы так: Но тем самым, как вы понимаете, нисколько не умаляются роль и значение языка. Вопрос: Может быть, у вас не онтология, а онтологическая картина мира, и тогда многие возражения просто снимаются? Конечно, у меня речь идёт об онтологических картинах и схемах объектов, а отнюдь не о той онтологии, о которой говорили наивные натурфилософы. Подобную онтологию и онтологические разработки я критиковал во многих своих работах. И, может быть, Заключение по докладу и дискуссииВнимательно наблюдая за дискуссией я вывел одно сугубо эмпирическое, апостериорное положение: рабочие заседания такой группы, какая собралась здесь сейчас, должны проходить не менее пяти дней подряд. В первый день заседаний подобная группа самоорганизуется, приобретает некоторую культурную общность, во второй день она определяет основные линии своей работы и создаёт платформу, 1Мне представляется, что мы получили по меньшей мере один важный результат, касающийся места стратегий и технологий в научных исследованиях и разработках… Основной смысл этого результата, как мне представляется, в том, что нужно очень резко противопоставлять друг другу стратегию и технологию. Я бы сказал, что это — два узловых понятия, характеризующих рассматриваемую нами область. Но Поэтому мне представляется очень важным и принципиальным замечание Я бы подчеркнул и ещё один момент, отмеченный Здесь было сказано очень чётко: стратегии — это принципы смены технологий. Иначе говоря, нужно обладать богатыми наборами техник, из которых мы выбираем одни или другие в зависимости от условий осуществления наших технологий, и этот выбор представляет собой стратегию, реализующую те или иные наборы принципов. Итак, понятия технологии и стратегии характеризуют два аспекта человеческой жизнедеятельности — естественное и искусственное вместе со связывающими их процессами: оестествления, когда мы переходим от стратегий к технологиям, и артификации, когда мы соотносим технологии с условиями их реализации и организуем их в сложные пластические комплексы. 2Ещё один момент, зафиксированный в наших дискуссиях с предельной резкостью — бесспорная связь практики и мышления, с одной стороны, и постоянное противопоставление практической деятельности и познания в философских рассуждениях, с другой. Действительно, по каким пунктам идёт противопоставление практической и познавательной деятельности, или практической и мыслительной деятельности? По характеру продуктов всей работы, скажем, по различию материального и знакового? Но тогда проектную и чертёжную работу придётся относить к познавательной, что несуразно. По характеру объектов деятельности? Но и здесь не видно удовлетворительных критериев разграничения: как объекты практической деятельности, так и объекты познавания в основной своей массе давно уже стали созданиями человека. Факты, как я об этом рассказывал, создаются деятельностью. Более того, если вы вспомните первый тезис Маркса о Фейербахе — «не объекты созерцания, а предметы практической чувственной деятельности», — то станет ясно, что Реплика: Но ведь материя сопротивляется деятельности человека. Вот именно: она сопротивляется. Но почему вы думаете, что сопротивляется одно только вещество, почему вы думаете, что знаковый материал или содержание наших знаний и нашего мышления не сопротивляется? Оно сопротивляется точно так же, Но я ещё раз повторяю: Всё это было установлено в марксизме 130 лет назад. Меня всегда очень удивляет наше отношение к основным и широко известным принципам философии: мы их цитируем, к месту и не к месту, но мы не додумываем их до конца и не превращаем в методологические принципы нашего мышления, ибо хотим быть вместе с тем и традиционалистами, хотим объединить Маркса с домарксистской и послемарксистской классической философией, а материал и содержание последней сопротивляются и заставляют нас оставлять в стороне подлинное содержание марксистских принципов; на Если предмет есть продукт практической, чувственной человеческой деятельности, и рефлексия практической деятельности исходит из так понимаемого предмета и отражает его, то есть, по сути дела, отражает превращённый опыт нашей практической деятельности, а мышление потом перерабатывает и фиксирует в новых формах содержание рефлексии и само затем становится практической деятельностью, то как же, спрашивается, относятся друг к другу практика, мышление и познание? На мой взгляд вторая половина ХХ века практически реализовала и показала то, что Маркс угадывал теоретически в середине ХIX века: противопоставления практики, мышления и познания потеряли свой смысл, познание стало практической деятельностью, теории стали материальной силой, познание организовано и осуществляется как индустрия… Реплика: Но у Да, не совпадали. Но Маркс ведь жил и работал более 100 лет назад. То, что для него было лишь смелой гипотезой и идеальным проектом, для нас стало повседневной реальностью, зримой и очевидной. Но несмотря на это, мы не только не идём дальше Маркса в отражении и описании опыта нашей жизни и деятельности, мы возвращаемся от него назад и постоянно пользуемся классическими оппозициями, стараемся видеть мир сквозь их призму, хотя мир стал уже совсем иным. И это постоянно оборачивается боком для нашей философии. Исходя из такого представления, я отвечал бы на возникшие здесь по этому поводу дискуссии так: для меня во всём этом нет никаких реальных проблем. Я понимаю, что если исходить — обратите внимание на это «если» — если исходить из принятой вами схемы взаимодействия человека как психологического субъекта с окружающими его объектами — обратите внимание на эти «объекты», — то неизбежно возникает масса очень сложных и, я бы даже сказал, принципиально неразрешимых проблем. Их можно обсуждать ещё 300 или 500 лет, но это никуда нас не продвинет, подобно тому, как никуда не продвинуло Конечно, я понимаю, что сказанное мной по поводу схемы «субъект — объект» может показаться вам еретическим, но я рискну утверждать, что только потому, что до сих пор не понят, не осознан великий смысл революции, совершенной немецкой классической философией и Марксом. А этот смысл, на мой взгляд, состоял в том, что было объявлено о конце индивидуалистической эпохи и заявлено о начале эпохи организаций. Эта тема крайне сложна, и её обсуждение требует специальных рамок и условий. Поэтому я не буду брать её в целом, а зафиксирую лишь один из её теоретических аспектов: схема «психологический субъект — объект», весьма продуктивная в период локковского сенсуализма, не работает больше. Вспомните Марксовы рассуждения из «Введения к критике политической экономии»: представления о Робинзоне не могут уже дать необходимого нам онтологического основания для изучения человеческого мира. Схема взаимодействия субъекта и объекта должна быть отброшена. Нельзя понять мир, исходя из представления, что человек в качестве субъекта противопоставлен миру объектов. Нет такой оппозиции, сказал Маркс, есть лишь деятельность, которая всё это связывает, объединяет и покрывает. Но как только мы поняли это, все традиционные проблемы приобретают совсем иной вид. Возьмём хотя бы проблему факта. Факт — это не основание, с которого начинает деятельность, факт — это особый элемент и организованность деятельности. Изображая все это на самых примитивных схемах, я должен буду зафиксировать в виде стрелочек, идущих к факту, не только деятельное отношение «сверху», но и деятельное отношение «снизу».  Все в равной мере принадлежит миру деятельности. Нижняя стрелочка символизирует одновременно и практику (это — с одной точки зрения) и то, что мы привыкли называть измерением (это — с другой точки зрения). Верхняя стрелочка может символизировать, к примеру, конструирование. А факт возникает на пересечение того и другого. И одновременно хитрым образом связывает конструирование (то есть априорный подход) с исследованием (то есть с тем что несёт в себе момент апостериорного). Я возвращаюсь здесь к основным положениям доклада И когда мы ко всему этому подходим с системной точки зрения и разлагаем объект в четыре (как минимум) слоя: процессов, функциональных структур, организованностей материала и субстрата, и рассматриваем как одну, хотя и разноплановую, но всё равно одну и единую систему, как один объект, то мы как раз и решаем — не только идейно, но и технологически — ту проблему, которую Маркс поставил своим новым взглядом на человека и мир природы. Но если идеи переходят в технологию, то самое время ставить вопрос о тех службах, которые будут обеспечивать повсеместное распространение и реализацию таких технологий. Это необходимый последний шаг на пути практического осуществления новых идей. Но здесь мне приходится начинать говорить о совсем иных аспектах проблемы. Та исключительно важная историческая социокультурная и производственная проблема реального соединения практики и познания, которая так резко была поставлена Шеллингом До сих пор в философском рассмотрении наука как особая форма организации мышления и исследования непосредственно связывается с познанием, наука рассматривается как особая форма познания. Но это неверно, во всяком случае для XX века. Наука стала, уже стала производительной силой. А следовательно, на уровне наших основных понятий мы должны по новому решать вопрос о соотношении между наукой и познанием. И этого требует от нас практика организации народного хозяйства. Но чтобы реализовать все эти правильные теоретические установки, мы должны создать специальную методологическую службу, которая в своей практической работе будет исходить из отрицания оппозиции практики и науки, или, в другой формулировке, будет исходить из того, что научное исследование — это практика особого рода, и соответственно этому будет организовывать научные исследования и науку в целом как практику особого рода и таким образом будет ей управлять. И именно в таком разрезе, как мне представляется, нужно будет решать кантовскую оппозицию априорного и апостериорного, решать не только и даже не столько в теоретическом плане, сколько в практическом, как проблему, поставленную перед нами ходом исторического развития нашего общества. 3И, наконец, последний момент, на котором я должен остановиться. Его затронул в своём докладе Представим себе, что мы Мне кажется, что в этом вопросе мы Ещё раз благодарю всех вас за внимание. | |