Цель и задача моего сообщения — познакомить вас с кругом идей, выработанных в рамках одного направления советской методологии, очертить основные проблемы, которые стоят и обсуждаются в области основных интересов этого направления. Оно сложилось более двадцати лет назад, а именно в конце 1952 года, 1. Предварительные замечанияСам язык и стиль изложения будут для вас весьма непривычными, и поэтому потребуется максимум внимания и доброжелательности для того, чтобы мы могли довести это предприятие до конца. Вряд ли вы сейчас оцените всю значимость этого замечания, но я специально его подчёркиваю и обращаю на это ваше внимание, ибо от того, насколько вы проникнитесь духом доброжелательности, зависит всё остальное. Обсуждая проблемы методологии, мы не можем двигаться традиционным теоретическим путём — здесь в принципе неприемлемы теоретическая манера и теоретический стиль мышления и изложения. В частности, это означает, что я не могу и вообще нельзя начать изложение с Мне придётся строить изложение совсем иначе. Чтобы задать основания для нашей коммуникации, я прежде всего нарисую на доске некоторую «картинку», которую буду трактовать как онтологическую картину в нашем совместном мышлении Несколько слов о самом термине «онтологическая картина» 2. Что такое методология?Отвечая на этот вопрос, я буду рисовать онтологическую картину. Это значит, что я буду нечто изображать на доске и одновременно характеризовать рисуемые мной элементы понятийно. На мой взгляд, методология — определённый организм, или сфера деятельности. Говоря так, я подчёркиваю прежде всего, что это не совокупность знаний. Трактовать методологию как совокупность или систему знаний — а так это принято сейчас — нельзя. Как сфера, или организм, деятельности методология включает в себя массу различных образований, которые мы можем рассматривать в качестве её элементов. Следует отметить, что на своём языке я бы так не говорил; я бы сказал, что методология как сфера, или организм, деятельности включает в себя массу различных «организованностей». «Организованность» — особое понятие из системной парадигмы (иначе — из категории систем), но Итак, как сфера, или организм, деятельности методология включает в себя массу различных образований, которые выступают в качестве её функциональных элементов; это будут цели и задачи деятельности, средства, процедуры, продукты, и так далее. Я перечисляю всё это сейчас «навалом», имея целью лишь одно — подчеркнуть обилие и разнородность всех этих образований. В совокупности они задают состав организма (или организмов) методологии и таким образом её характеризуют. Но это в Это — очень важное положение; вам и на него нужно обратить внимание, ибо в дальнейшем может возникнуть множество недоразумений
Основными и определяющими являются, на мой взгляд, процессы — это Сделав эти предваряющие замечания — они касаются применяемого мной способа анализа и представления методологии — я могу теперь, двигаясь систематически, зарисовать общую схему организма методологии. По ходу дела я буду пояснять то, что рисую. 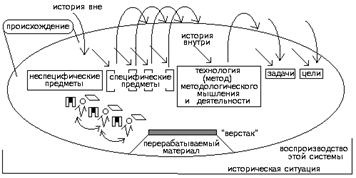 Прежде всего я рисую трёх индивидов, занимающихся методологической работой и образующих определённую группу и организацию. Мне неважно пока, сколько там будет индивидов; мне важно лишь подчеркнуть, что их много и что, следовательно, между ними существуют определённые связи и отношения, что они, следовательно, должны быть определённым образом организованы. Тем самым я фиксирую, пока лишь в косвенной форме, что эти связи, отношения и формы организации могут меняться и меняются в зависимости от тех или иных исторических условий. Я предполагаю, что каждый из этих индивидов обладает определённой совокупностью способностей и интериоризованных средств. Я фиксирую наличие у них сознания с его разнообразными содержаниями и изображаю это в виде так называемого «табло сознания». Я фиксирую совокупность так называемых неспецифических предметов; это — физика, химия, биология, и так далее. Сюда же попадает математика, но не как научный предмет, а как конструктивно-технический предмет, как инженерия особого рода, занятая разработкой знаковых средств; это будет, следовательно, подразделение и служба семиотической инженерии. Рядом я зарисую совокупность специфически методологических предметов с соответствующими им научными или квазинаучными теориями. Эту совокупность методологических предметов я буду потом обсуждать более подробно. Я должен зафиксировать совокупность специфических целей и задач методологии, или, точнее, методологической работы. При этом я должен специально отметить, что цели и задачи методологической работы формулируются и ставятся самими методологами как бы изнутри методологической работы. Тем самым я хочу подчеркнуть, что специфически методологические цели и задачи не могут поступать в организм, или сферу, методологии извне, что они не могут ей задаваться другими сферами и организмами деятельности и не могут диктоваться потребностями других сфер. Цели и задачи методологической работы — это то, что создаётся самими методологами, что соответствует внутренним процессам и механизмам жизни организма методологии, это то, что возникает, если можно так выразиться, по внутренней логике самой методологической работы. На это я тоже прошу вас обратить внимание, ибо я уверен, что в дальнейшем вокруг этого разгорятся дискуссии, а недостаточно чёткое понимание моих принципов и установок, без сомнения, приведёт ко всевозможным недоразумениям. Я должен ввести в схему и зарисовать то, что может быть названо (не Кроме того, существует ещё самый разнообразный материал, который может втягиваться организмом методологии извне, из всего того окружения, в котором она существует Чтобы подчеркнуть, что методология представляет собой целостный и замкнутый организм, я обвожу все названные мной элементы-организованности замкнутой линией, овалом, и прошу вас учесть, что в дальнейшем этот овал будет изображать именно целостность и замкнутость рассматриваемых мной методологических образований. Предполагается также — об этом я уже говорил выше, — что все эти элементы-организованности Сейчас я не буду обсуждать всех этих связей и зависимостей — для этого я должен был бы сначала рассмотреть те процессы, которые задают и определяют жизнь самой методологии. Я лишь отмечу то, о чём уже было сказано выше, — связи и зависимости между разнообразными организованностями сферы методологии и «верстаком». Эти связи двусторонние: все и любые организованности попадают на верстак либо в качестве материала продуктивной формообразующей деятельности, либо в качестве средств, инструментов этой деятельности, а затем то, что создано, сформировано на верстаке методологической работы, распределяется по разным «местам», или ячейкам, функциональной структуры методологии и существует там в качестве тех или иных элементов-организованностей самой методологии. Очерченная мной сфера задаёт функционирующую методологию. Но я, кроме того, могу говорить о разнообразных исторических линиях её существования, в частности, о линиях происхождения, становления, развития, эволюции, и так далее и, соответственно, в той или иной форме фиксировать их на схеме. Я могу говорить, к примеру, о линиях исторической эволюции всей сферы методологии или о линиях исторического становления и развития тех или иных её направлений и школ, имеющих статус организма. Я могу говорить об историческом развитии и эволюции целей и задач методологической работы. Точно так же я могу взять любой элемент, любую организованность сферы методологии, предположить, что они имели свою линию исторической эволюции, что эта эволюция складывалась из процессов, принадлежащих либо истории самой этой сферы методологии, либо истории внешних для неё организмов и сфер. Таким образом я привяжу к изображению моего объекта ряд как бы «шлейфов», которые в совокупности будут изображать и фиксировать разнообразные исторические процессы, в которых существовала и продолжает существовать сфера методологии. Эта добавка очень сложным образом меняет всю картину. Теперь мы должны рассматривать взаимоотношения между процессами функционирования и процессами исторического развития и эволюции методологии, причём должны понимать, что методология существует как в одних, так Теперь я должен как бы отойти в сторону, встать в рефлексивную позицию и спросить себя: а что же я собственно сделал? Я начал с утверждения, что методология должна рассматриваться не как совокупность или система знаний, оцениваемых по отношению к некоторому объекту, а как особая сфера деятельности, особый организм деятельности. Затем я нарисовал, изобразил основные элементы-организованности этой сферы Но самое главное состоит в том, чтобы вы представили себе методологию как сферу нашего непрерывного действования, нашей жизни и чтобы вы постарались отнестись к этому соответствующим образом — как к жизни и жизнедеятельности Отношение к методологии должно быть иным, нежели известные и традиционные для нас отношения к знаниям: можно, к примеру, поставить задачу управлять этой деятельностью людей, направлять её Чтобы подчеркнуть процессуально-деятельностный характер представленной таким образом методологии, чтобы зафиксировать, что всё дело здесь не в знаниях, которые можно брать и которыми можно пользоваться, В дальнейшем я буду обсуждать устройство, или структуру, нарисованного мной и уже отчасти охарактеризованного организма, характер и функционирование тех или иных его блоков, тип существующих в нём связей и так далее. Одним словом, я постараюсь дать вам как можно более ясное и отчётливое представление об указанном мной объекте. На этом я закончил первый смысловой кусок своего сообщения, готов выслушать вопросы и ответить на них. Б. С. Грязнов: Вы сами находитесь сейчас внутри или вне этой сферы методологии? Я понял Ваш вопрос, и точно так же я понял мотивы и основания, по которым Вы его задали. Я понимаю, что он естественно вытекает из Ваших представлений и Ваших обычных методов работы. Но я вместе с тем должен сказать, что в применении к методологии и методологической работе этот вопрос некорректен. Нельзя спрашивать, является ли мета-методологическая работа методологической или метаработой в отношении методологии. Исчезновение оппозиции внешнего и внутреннего для методологической работы обусловлено тем, что вся она строится в первую очередь на рефлексии и особым образом организует эту рефлексию — так, что снимает различие внешнего и внутреннего. Сейчас я не могу более подробно останавливаться на этом вопросе, но через некоторое время мы так или иначе неизбежно вернёмся к нему, и, я думаю, у нас уже будет больше материалов и больше понимания, чтобы обсудить его серьёзно. И. С. Алексеев: В самом начале сообщения была сделана декларация, что нельзя вести методологическую работу, ориентируясь на некоторое изображение объекта или действительности. А затем сразу была нарисована онтологическая картина, которая представляет собой изображение определённой действительности. Как увязать эти два утверждения, которые, как мне кажется, исключают друг друга или, во всяком случае, противоречат друг другу? Прежде всего я хотел бы отметить, что мои утверждения и моя точка зрения изложены, или пересказаны, здесь очень неточно. В своих первых утверждениях я фиксировал нечто принципиально иное, а именно то, что нельзя, пытаясь понять, что такое методология, рассматривать и трактовать её в качестве совокупности знаний, соотносимых с тем или иным объектом и оцениваемых относительно этого объекта. Методология, или методологическая работа, — а эти два выражения сейчас пока отождествляются — должна рассматриваться как деятельность, более точно — как сфера и организм деятельности. Вот, что я утверждал вначале, Необходимо различить, с одной стороны, вопрос о том, что такое методология (и формы ответа на него), с другой — вопрос о том, как нам организовать наше общение, взаимопонимание, иначе говоря, вопрос о том, как мне передать вам свои мысли. Второе относится уже к организации коммуникации между нами, и очевидно, что это можно сделать только с помощью речи и передачи в ней и через неё определённых знаний о методологии как деятельности. Именно для того, чтобы организовать и обеспечить коммуникацию и взаимопонимание в процессе моего сообщения — и это обстоятельство я специально отметил — я нарисовал организм, или сферу, методологии. Я как бы передал вам, прежде чем начать свою речь, «фотографию», или «рисунок», методологии, начал знакомить вас с ней так, как я бы знакомил посредством фотографии с Вы совершенно правы в том плане, что вся эта моя работа была направлена на то, чтобы обеспечить передачу знаний о методологии: здесь я действовал в соответствии с принципами содержательно-генетической логики и прежде, чем вводить понятия, изображал и задавал объект, к которому они могут относиться. Но одно дело знания о методологии, а другое дело — сама методология; эти два момента вы, как мне кажется, не очень чётко различаете, они у вас Здесь нужно ещё иметь в ввиду и постоянно помнить, что онтологическая картина не есть знание. Во всяком случае, мы используем это изображение не как знание — а знание это то, что интерпретируется на объект и благодаря этой интерпретации получает своё содержание и свой смысл, — Н. И. Кузнецова: Является ли Ваше изображение специфическим для методологии и определило ли оно её, если можно так выразиться, объектными свойствами и характеристиками? Или же — и это будет принципиально иная трактовка — всё дело в том, что Вы вообще таким образом подходите к миру, что Вы таким образом все видите и изображаете, и если бы Вам пришлось описывать науку или философию, то Вы точно так же представили бы их как определённые организмы и сферы деятельности? Тогда ведь — я имею в виду вторую трактовку — вся суть Вашего тезиса не в том, что при отвергаемом Вами подходе нельзя понять существо методологии, а другое можно понять, Вы абсолютно правы, Науку можно изображать в виде совокупности или системы знаний. Принципы такого изображения были развиты сравнительно давно, ими широко пользуются и привыкли пользоваться. Лично я мог бы сказать по этому поводу, что всё это — не очень хорошие изображения, что они многое скрывают или элиминируют, что многие проблемы и задачи в принципе не могут быть решены, когда мы пользуемся такими изображениями науки и философии. Но всё это не означает, что мы в принципе не можем пользоваться такими изображениями; во всяком случае, я меньше всего склонен целиком отвергать их, Но когда мы переходим к методологии, то её нельзя «схватить» и описать, опираясь на одни знаниевые представления. Это происходит отнюдь не потому, что в методологии нет знаний, не потому, что она не вырабатывает знаний и так далее. Это объясняется в первую очередь тем, что мы сейчас ставим особую задачу: наша цель состоит в том, чтобы выделить специфику методологии и определить её в отличие от философии и науки. А это, утверждаю я, нельзя сделать, пользуясь лишь знаниевыми представлениями. Можно описывать ту или иную науку, репрезентируя движущиеся в ней знания и характеризуя их структуру. Но нельзя, описывая те или иные системы знаний, ответить на вопрос, в чём отличие методологии от науки и от философии. Надо сказать, что это — давно обнаруженный и давно зафиксированный парадокс или, во всяком случае, трудность. Все, кто пытались описывать методологию как совокупность или систему знаний, неизбежно приходили к выводу, что методология как система знаний не может быть отличена от других, неметодологических систем, что заставляло их перейти к совсем иной точке зрения и описывать «методологическое» как некоторое употребление тех или иных систем знаний, как функцию этих систем в деятельности, но никак не внутреннее свойство самих систем. Вы можете найти эту точку зрения в разнообразных работах. Очень последовательно и чётко её развил Здесь уже с очевидностью можно обнаружить переход к деятельностной точке зрения — к анализу всего этого как деятельности и деятельностей; только этот переход, хотя он постоянно осуществляется, не фиксируется в теоретической и знаниевой форме, не проблематизируется и не приводит к сознательной формулировке определённого подхода и определённых способов анализа — методологических. Нетрудно заметить, что таким образом проблема не решается и даже не снимается; она лишь называется. Теперь, когда «методологическое» задано как методологические функции тех или иных знаний, полученных в научно-исследовательской работе нижележащих уровней, нужно было поставить вопрос, в чём же заключается это «методологическое», задать его как особый предмет исследования и начать анализировать и описывать. Но именно этого не может сделать Иными словами, задав «методологическое» в виде методологических функций, они затем не могут ни слова сказать о том, как же эти функции устроены, в чём существуют и что собой представляют. А моя задача состоит в том, чтобы сделать возможным описание и обсуждение самой методологии, причём как взятой автономно, так Б. С. Грязнов: На самом деле всё обстоит наоборот. Попытки рассматривать методологию как деятельность, в частности витгенштейновские попытки так её рассматривать, потерпели крах, а анализ и описание методологии как совокупности и системы знаний дают очень важные и полезные результаты. Я не могу с Вами согласиться и думаю, что Вы ошибаетесь по меньшей мере в двух пунктах. Во-первых, то, что Вы называете попыткой Витгенштейна исследовать и описывать методологию как деятельность, на мой взгляд, таковой не является, поскольку у Витгенштейна не было, с моей точки зрения, понятия деятельности или, во всяком случае, того понятия деятельности, которое я бы считал действительно деятельностным. А Б. С. Грязнов: Витгенштейн прямо говорит, что методология — это не знание, а деятельность. Как совместить это с Вашими утверждениями? Мне кажется, что в своих вопросах Вы всё время исходите из отождествления слов и знаний. Вы, Было бы, однако, ошибкой трактовать это утверждение как положительное определение методологии. Подлинно положительный смысл оно будет нести только в том случае, если будут существовать и использоваться понятие деятельности и совокупность связанных с ним знаний. А этого, как я уже сказал, у Витгенштейна не было и, думаю, что Вы это тоже хорошо знаете. Витгенштейн второго периода и вторая генерация его учеников пытались развернуть и развить понятие употребления. В этом и состоял их вклад в современную философию. И если мы сейчас спросим себя, что же понимал Витгенштейн под деятельностью, то должны будем зафиксировать, что он понимал и имел в виду прежде всего употребления некоторых знаковых образований, создающие смысл этих образований. Именно в связи с этими представлениями Витгенштейн производил дальнейшие обобщения, и через это он приходил к некоторому, более широкому пониманию деятельности Б. С. Грязнов: Но почему Вы думаете, что Витгенштейн не имел понятия деятельности, а Вы его имеете? Чем лучше Ваши представления, нежели его представления? По чисто формальным основаниям — у меня есть достаточно развёрнутая модель деятельности, Поскольку вопросов и замечаний больше нет, я перейду ко второму смысловому кусочку моего сообщения. 3. В чём суть методологической работы?В предшествующей части сообщения, рисуя общую схему методологической работы, я вынужден был нарисовать целый ряд её элементов и употребить целый ряд слов и выражений, которые предполагают определённую понятийную основу. Я всё время подчёркиваю, что ввожу и употребляю эти слова как чистые имена-метки частей и элементов нарисованной мной схемы. Эта схема выступила как заместитель объекта (то есть как онтологическая картина), но теперь я должен, Сказав, что методология представляет собой определённый организм, или определённую сферу, деятельности, я тем самым очень сильно ограничил свои возможности обсуждения и задал основные направления, в которых будет развёртываться моя мысль. Короче говоря, я должен представить теперь методологию так, чтобы её жизнь удовлетворяла основным закономерностям и принципам жизни некоторого организма. Я должен буду, обязан буду сказать, что смысл и назначение методологической работы состоят в том, чтобы развёртывать организм методологии, втягивая внутрь этой сферы различный материал и перерабатывая его в соответствии с основными системообразующими принципами этого организма. Из этого следует на первый взгляд очень странный, но с точки зрения введённых мной представлений единственно возможный и необходимый, ответ на вопрос, как же относится методология к другим видам, типам и организмам деятельности, в частности — к философии, науке, инженерии, педагогике, и так далее. Для начала и очень грубо можно сказать, что методологию всё это просто не интересует, она может быть ко всему этому безразлична, а её цели и задачи заключаются в том, чтобы развернуть самоё себя. В дальнейшем я всё время буду придерживаться этого принципа и никогда от него не отступлю. Но из этого принципа ни в коем случае нельзя делать вывода, что методология не оказывает влияния на другие типы и организмы деятельности, что она не нужна им и так далее. В дальнейшем я покажу, что сформулированный мной только что принцип ничуть не исключает взаимоотношений методологии с другими сферами деятельности и даже её служебной роли по отношению к ним. Я смогу это сделать, рассмотрев создаваемые методологией организованности. Дело в том, что по ходу своего функционирования методология создаёт внутри себя целый ряд организованностей. Частично я их уже называл. Это — собственно методологические теории (теория деятельности, теория мышления, семиотика, теория знания, теория сознания, теория науки, теория проектирования, теория управления и другие), переработанные неспецифические предметы, принципы и методы самой методологической работы (то, что выше я назвал «технологией» методологии), и так далее. Если теперь мы как бы умертвим саму методологическую работу, функционирование организма методологии, выделим созданные ей организованности и зададим себе вопрос, на что они годны и какое применение им можно найти, тогда только мы, собственно говоря, перейдём к вопросу о том, какое же отношение может существовать между методологией и другими сферами и организмами деятельности — наукой, проектированием, инженерией, философией и так далее. Здесь я могу вновь вернуться к замечанию Но если теперь мы выделим эти организованности и будем рассматривать их не относительно процессов функционирования и развития монад, не Цель и назначение каждого организма деятельности, повторяю, состоят не в том, чтобы обслуживать другие организмы, Я надеюсь, вы понимаете, что сам разговор о «пожирании» был мне навязан — это выражение нужно для того, чтобы резче и острее подчеркнуть мысль об автономности и независимости организмов и сфер деятельности. С таким же успехом я мог бы говорить о симбиозе, взаимопомощи организмов, взаимном обслуживании и так далее. Реально существуют все эти отношения, но они являются вторичным продуктом развития через «пожирание». В. И. Купцов: Широко принято определение методологии как науки о методах получения новых знаний. Как Вы относитесь к этому определению? Я знаю это определение, знаю, в каких условиях и почему оно появилось, И. П. Стаханов: Но ведь сто лет назад не было и такой науки, как генетика, а сейчас она существует. Я понял смысл Вашего замечания, Сейчас мы очень некритически употребляем слово «наука». Существует мнение или даже убеждение, что обо всём, что существует, может и должна существовать соответствующая наука. Но есть целый ряд объектов, которые в принципе не могут быть охвачены научным знанием. Например, не может быть науки об этом столе. Здесь не удовлетворены необходимые условия обобщения. Поэтому мы можем, в частности, поставить вопрос: являются ли методы такими объектами, по поводу которых можно образовать научное знание Попробуем обсудить этот вопрос. Обычно методами называют описания процедур, тактик и стратегий (или планов и проектов) нашей работы. Зададимся вопросом, являются ли процедуры, тактики, стратегии, планы и проекты такими объектами, которые могут быть описаны в собственно научных знаниях. При этом сами слова «наука» и «научное знание» мы должны употреблять в том узком и точном смысле, какой выводится нами из «Механик» Галилея — ведь именно эти построения дали образец того, что впоследствии стали называть науками, или, более точно, современными науками. И. П. Стаханов: Значит, Вы утверждаете, что методология не наука, а нечто другое, причём она является Я благодарю Вас за замечания, которые помогают мне, и, расширяя область сопоставления, добавлю, что Р. Фейнман в своих лекциях подчёркивал, что и математика не является наукой. Это последнее суждение особенно для меня важно потому, что математика подобна физике, химии и биологии, подобна настолько, что многие и многие считают её наукой, и указание на то, что даже математика не есть наука, помогает уловить тонкость и дифференцированность тех критериев, которые мы здесь должны использовать. Но я сейчас ограничусь лишь этими замечаниями и не буду приводить доказательство того, что методология — не наука, тем более, что целый ряд соображений на этот счёт я планирую высказать в контексте самого сообщения. Поэтому перейду к следующему смысловому куску моего сообщения. Я должен обсудить специфические цели и задачи методологической работы. Но для этого я должен предварительно охарактеризовать современную ситуацию, которая в общем и целом определяет характер и смысл современных установок в методологической работе. Я, правда, чувствую, что теперь в меня начнут бросать камни… Б. С. Грязнов: Мы уже давно бросаем. Я чувствую это, но полагаю, что дальше будет хуже. Меня утешает лишь фраза одного известного немецкого психолога, который 4. Современная социокультурная ситуацияМне представляется, что методологические разработки в XX столетии складываются, оформляются и начинают развиваться в условиях, когда так называемое «научное мышление» (во всяком случае в той его форме, которая сложилась и получила наиболее полное выражение к концу XIX столетия) в основном исчерпало себя и не может удовлетворить всем тем требованиям к мышлению, которые выдвинуты современной ситуацией. Когда я говорю о так называемом «научном мышлении», то я имею в виду те формации, способы и общий стиль мышления, которые были зафиксированы в первую очередь в двух классических работах Галилея (1632 и 1638 годов) и получили дальнейшее развитие и канонизацию в последующие 250 лет. Так называемое «научное мышление» никогда не было преобладающим или даже преимущественным в этот период — наряду с ним существовали и развивались другие формы, способы и стили мышления, — но оно было ведущим и оказывало преимущественное влияние на дух и идеологию этих столетий. Фактически, так называемое научное мышление было тесным образом связано с инженерией и технологией (или техникой) этих столетий, но всё это — очень сложные вопросы, которые требуют специального обсуждения. Поэтому я буду апеллировать не столько к понятиям и точным определениям научного мышления, сколько к некоторым общим представлениям, рассчитывая на то, что они есть у всех вас. Итак, я утверждаю, что вокруг нас сейчас происходит отмирание и разрушение научного мышления и наук (в классическом смысле этого слова). Внутренне я убеждён, что историки будущих столетий будут характеризовать середину XX столетия как время агонии научного мышления. Разрушение научного мышления, сопровождающееся параллельным развитием других формаций и других стилей мышления, создаёт очень сложную и своеобразную ситуацию, нарушающую целостность, монолитность мышления вообще и, параллельно, человеческого существования. Возникает масса очень сложных разрывов в нашей деятельности. И всё это приводит, с одной стороны, к тому, что становится необходимым иное мышление, Разрушение и дезорганизация научного мышления сопровождается дезорганизацией и разрушением философского мышления. Последнее не является прямым и непосредственным рефлексом кризиса науки и научного мышления, а обусловлено своим особым, имманентным процессом. Истоки его заключены в том, если говорить грубо, что философское мышление не справилось с развитием научного мышления ещё в Обобщая эти два момента, Прежде всего, в этом контексте я должен выделить тот — признаваемый, по сути дела, всеми — факт, что научное мышление к началу XX столетия разбилось на целый ряд автономных и изолированных научных предметов, или «наук», что связи между этими предметами, или «науками», оказались, по сути, разорванными, что вся армия учёных разбита на ряд отрядов, каждый из которых продвигается в своём особом коридоре и, как правило, не знает и не ведаёт, куда движутся остальные и как они движутся, — во всяком случае, не может и не умеет использовать результаты и достижения других. В итоге, весьма разветвлённая и дифференцированная наука не может сегодня обеспечить то, что мы привыкли называть единством научной картины мира, или просто единой научной картиной мира. Мы имеем сегодня физическую картину мира, химическую картину мира, биологическую картину мира, даже математическую, но единой картины мы не имеем. Этот результат является, на мой взгляд, совершенно необходимым и закономерным. По сути дела, это лишь обратная сторона научного метода и научного подхода в развитии мышления и форм познания. Отмечая все это как отрицательный результат и недостаток, мы должны одновременно понимать и осознавать, что этот результат проистекает из существа самого научного подхода, что, другими словами, научное мышление и наука обязательно должны были привести к такому результату. Собственно говоря, заслуга Галилея и других мыслителей, работавших параллельно с ним: Фрэнсиса Бэкона и Декарта — состояла прежде всего в том, что они создали определённые «машины» и сформулировали такие принципы и правила работы с ними, которые позволили нормировать Но то, что в XVII столетии было преимуществом, в XX обернулось недостатком. По образу и подобию механики были созданы гидродинамика и теория тепловых явлений, аппарат гидродинамики был использован для создания электродинамики. Общие схемы и инварианты всех этих наук были обобщены в эпистемологии и привели к созданию образца науки вообще. В результате мышление перестало быть общим и единым мышлением. Замкнутое теперь в автономных научных предметах, оно постепенно стало превращаться в профессиональную деятельность, ориентирующуюся не на охват и изображение мира в целом, а на выполнение норм и стандартов профессиональной исследовательской работы. Вместе с тем произошло выделение научного мышления и научной работы из всех других видов и типов мышления, и, более того, научное мышление как особый вид и тип мышления противопоставило себя всем другим. Начались длительные дискуссии о взаимоотношении между наукой и историей, математикой и наукой, наукой и философией — дискуссии, которые были несколько отодвинуты назад бурным развитием самой науки и её успехами и возобновились лишь к началу XX столетия. Разделение и противопоставление друг другу разных типов и стилей мышления, оформление их в самостоятельные предметы привело вскоре к разделению типов существования Б. С. Грязнов: Мне это не понятно. Я спрашиваю Вас (или себя): где существует вечный двигатель? Это очень интересный пример, Вам кажется, что Вы выдвинули контр-пример по отношению к моей мысли, ибо вы несколько наивно полагаете, что, скажем, электромагнитное поле или идеальная тепловая машина Карно действительно существуют в природе, чего нельзя сказать о вечном двигателе. Но это — лишь выражение антиисторического догматизма: электромагнитное поле и тепловая машина Карно — такие же идеальные конструкции и идеальные объекты, как и вечный двигатель, Формирование и развитие естественных наук было неразрывно связано со становлением идеи природы, а идея природы задавала особый тип существования — существование в природе. Именно в этом плане обсуждался и решался вопрос, может ли существовать вечный двигатель, и какой бы ответ на него ни следовал, мы должны понимать, что это было обсуждение вопроса о существовании в природе. Про электромагнитное поле мы говорим сейчас, что оно существует в природе (хотя через некоторое время может выясниться, что оно не существует и не может существовать), а про вечный двигатель мы говорим сейчас, что он не может существовать в природе (хотя потом может выясниться, что при определённых условиях он вполне возможен). Я могу привести на этот счёт очень простой и красивый классический пример: где существует теплород? Здесь ответ в особенности интересен, потому что теплород, Вы утверждаете, что сама природа — это один «большой» конструкт, и это утверждение приводит вас к другому утверждению, а именно к тому, что существование природы — это и есть существование в виде некоторой идеальной конструкции. Здесь проходит водораздел наших представлений, ибо в противовес вам я утверждаю, что понятие природы само задаёт особый тип существования, что это — такая категория, которая сама определяет типы существования. Вы, конечно, можете сказать, что как категория она представляет собой конструкцию мышления, но я повторяю, что в результате вы закрываете себе путь для обсуждения и решения всего этого круга проблем. Именно здесь я могу вновь вернуться к основной линии моего сообщения. Я утверждаю, что развитие мышления привело в период Появление и утверждение в обиходе этих конструкций означало и фиксировало факт разделения мышления на несколько относительно автономных и даже противопоставленных друг другу сфер. В итоге возник целый ряд особых «пространств», которые никак не были связаны друг с другом, которые существовали изолированно друг от друга. Это были пространства природы, человеческой истории, идеальных конструктов математики, гносеологии и эпистемологии, то есть пространства знаний и познания, пространства космоса и так далее. Все эти пространства существуют сами по себе и Но существует целый ряд уловок, позволяющих создавать видимость ответа на этот вопрос. К примеру, когда мы спрашиваем, где же существуют знания, то ясно, что они существуют не в природе; нельзя исходить из природного существования, чтобы ответить на этот вопрос. Тем не менее, когда рассматривают знания и характеризуют их статус, в том числе их модальный статус, когда, например, говорят о необходимости тех или иных знаний, их действительности, возможности или вероятности, то есть характеризуют нечто сходное со способами их существования, то относят знания к соответствующим объектам, к тем объектам, которые в этих знаниях фиксируются, и оценивают или даже определяют существование знаний соответственно, Оба подхода равновозможны, и до появления диалектического материализма они были широко распространены и боролись между собой. Но оба эти способа решения проблемы существования являются весьма ограниченными и, на мой взгляд, ложными. Это — одно из характерных проявлений и выражений того кризиса и дезорганизации мышления, о которых я сказал выше. А подлинная задача, на мой взгляд, состоит в том, чтобы зафиксировать все эти способы существования как разные и, кроме того, показать формы и способы связи их друг с другом в рамках Забегая вперёд, я могу сказать, что методологическое мышление и методология складываются и развиваются именно как такая, более широкая точка зрения, совмещающая и объединяющая в себе разные типы существования. Итак, введя понятие отражения, или изображения, мы особым образом связали и соотнесли друг с другом пространство природы и пространство знаний и получили возможность переходить от одного типа существования к другому типу. Мы сводим одно существование к другому; предположив существование одного, мы можем по отношению к нему определять существование другого. Но ясно, что таким образом мы не вводим существование второго и не объясняем этого существования, мы не связываем и не можем связать друг с другом эти два разных типа существования. Нам нужно такое представление объекта и объективности, или, другими словами, задание такого объективного пространства, в котором все эти разные типы и формы существования оказываются соотнесёнными и связанными друг с другом, можно сказать, включёнными в одну и единую форму существования. Иначе говоря, нам опять нужна единая картина мира, но такая картина, которая будет включать и объяснять собственно природное существование. Но именно на этот вопрос не может ответить мысль XX века. И можно объяснить, почему она не может ответить на этот вопрос. Н. Ф. Овчинников: Но она пытается на него отвечать… Дорога в ад вымощена благими намерениями. Хотеть ответить на вопрос и пытаться ответить — это ещё не значит отвечать и иметь средства для такого ответа. Б. С. Грязнов: Но, следовательно, это — некая теоретическая проблема, и здесь все подходы совершенно равноправны. Все подходы могут быть и бывают равноправными только в случае, если не проанализирована сама ситуация, если неясно, какая именно проблема стоит и каким путём её можно решить. Поэтому я бы предпочёл говорить не о теоретической проблеме, Б. С. Грязнов: Но тогда нам нечего обсуждать: Вы говорите одно, мы говорим другое, каждый остаётся при своей точке зрения, и мы должны разойтись. Я не могу с Вами согласиться. На мой взгляд, у нас есть, что обсуждать. Доказать друг другу мы действительно ничего не сможем, но знание и не предполагает доказательства. Зато мы можем показать друг другу Я хочу обсуждать нечто принципиально иное — сам метод, или путь, и средства решения подобной проблемы. А уже наметив эти формальные условия её решения, мы сможем затем выбрать то или иное конкретное решение. Мой ответ и моё объяснение в Уже в предыдущем изложении я, по сути дела, утверждал, что распад единой картины мира на ряд изолированных и автономных картин обусловлен и объясняется тем развитием нашей деятельности, которое она получила в результате развития науки и научного мышления. Иными словами, это объясняется структурой и формами общественной кооперации. Ведь с момента возникновения научного мышления и науки человечество само разделило себя на автономные отряды, каждый из которых выделил (или сконструировал) себе особую область и по собственному произволу ограничил себя этой областью. Независимые и автономные пространства существования возникли и сложились потому, что человечество сделало всё для того, чтобы поделить свой «мир» соответственно различию методов работы и соответственно различию тех социальных организаций, которые складывались на основе этих методов. После того как человечество всё это сделало — а это было очень прогрессивно и привело к многочисленным успехам (во всяком случае, к успехам с точки зрения намеченных линий развития) — после этого оно вдруг осознало то, что получилось, увидело, что нет больше единой картины мира, что мир, а вместе с тем и сфера человеческого существования распались на ряд независимых друг от друга миров. И тогда оно испугалось и сказало: ай- Менее тривиальной является сама задача, которую я формулирую в связи с описанием всего этого. На мой взгляд, основная задача состоит в том, чтобы соединить все сформированные к настоящему времени «пространства существования» и за счёт этого получить возможность объединять в едином процессе, или потоке, мышления знания самого разного типа — естественно-научные, исторические, конструктивно-технические, логические и эпистемологические и так далее. Итак, грубо говоря, за тем, что выступает как сложная теоретическая или философская проблема разорванности нашего мира и необходимости его объединения, для меня стоит простой «коммунальный» факт: разделение человечества на ряд автономных и изолированных команд и отрядов, каждый из которых целенаправленно выделил и сформировал для себя особый мир, противостоящий другим мирам. И поэтому для меня решение проблемы должно заключаться в том, чтобы найти Из этого следуют очень важные и принципиальные выводы в отношении самого методологического мышления: оно не может быть предметным в прямом и точном смысле этого термина, оно не может быть научным в прямом и точном смысле этого слова, поскольку именно научное мышление привело к дроблению миров. Методологическое мышление не может взять себе за образец формы организации и технологию научного мышления, оно не может работать в прежних формах и прежними способами. Методологическое мышление должно выработать новые средства и новую технологию, а именно — средства и технологию надпредметного мышления. Поэтому в своей исходной практической установке оно выступает как анаучное и даже, в известном смысле, как противостоящее научному мышлению. Это не означает, что методологическое мышление должно или хочет отвергнуть научное мышление; наоборот, оно должно его предельно ассимилировать и снять, но в своей общей, целостной структуре методологическое мышление должно быть иным, нежели мышление научное. Методологическое мышление имеет такую задачу — преодолеть ограниченность научного мышления. В. И. Купцов: Не выполняла ли раньше эту функцию объединения и синтеза философия? Выполняла или, во всяком случае, пыталась выполнять. В. И. Купцов: Но почему же сейчас Вы выдвигаете на её место методологию и почему Вы отставляете философию? Мне представляется, что философия осуществляет эту интегрирующую функцию всё более успешно. Поскольку философия выполняла эти функции, она была методологией. Здесь есть и ещё один существенный аспект. Принято считать, что науки сейчас всё более и более объединяются и даже сливаются друг с другом. Говорят, что самые важные открытия делаются на стыке наук. Здесь есть по меньшей мере два разных вопроса, Но ещё до этого я хочу разделить 1) понимание моей точки зрения — здесь я хочу добиться по меньшей мере точности и адекватности — и 2) спор и столкновения разных точек зрения в решении одного и того же вопроса — здесь я могу лишь выражать свою собственную позицию, отвечать на контр-примеры и излагать собственные соображения. Итак, по поводу двух поставленных выше вопросов. Действительно, как я уже сказал, философия всегда осуществляла функцию объединения и синтеза разных точек зрения или, во всяком случае, должна была и пыталась это делать. Но Таким образом, моя задача будет заключаться в том, чтобы объяснить возникновение методологии, а вместе с тем возникновение и оформление специфических функций методологического объединения и синтеза знаний, мышления и деятельности. Именно эту задачу я начал решать в предшествующей смысловой части моего сообщения, Другой вопрос касается реальных взаимоотношений между разными науками и научными дисциплинами. Сейчас нередко говорят, что науки стыкуются, объединяются и даже синтезируются. Указывают, в частности, на применение методов одних наук в других науках, говорят об объединении их на базе одних и тех же математических методов, нередко подразумевают даже объединение и синтез предметных областей. Но, на мой взгляд, все эти явления — чистая видимость, а впечатление о таком объединении возникает в первую очередь Я с удовольствием буду обсуждать дальше различные детали и обстоятельства всего этого, но я хочу обратить ваше внимание на то, что моя позиция уже задана — и вполне чётко — тем обстоятельством, что я представил методологию и должен буду представить все другие науки и научные дисциплины как организмы и сферы деятельности. Из этого с необходимостью следует, что перенос тех или иных средств или представлений из одной науки в другую отнюдь ещё не означает для меня объединения, синтеза или слияния разных наук. Организмическое представление допускает только два возможных решения: либо из нескольких разных организмов и сфер деятельности возникают более сложные организмы и сферы, охватывающие предыдущие, либо же все уже существующие организмы и сферы деятельности остаются существовать как таковые, как разные и автономные, но, кроме того, над ними вырастает ещё одна, более сложная сфера деятельности, которая как бы охватывает их всех и объединяет, оставаясь более сложной суперсферой и суперорганизмом. Поэтому все ваши замечания о синтезе я должен буду рассматривать сквозь призму заданного мной представления Но я бы мог обсудить в этом контексте любые конкретные проблемы. Нередко утверждается, что применение статистических методов в различных областях научных знаний свидетельствует о единстве этих областей. Выше я уже заметил, что даже удачное применение таких методов, по сути дела, ещё ничего не говорит относительно объединения и синтеза самих наук. Но кроме того, я, к сожалению, не знаю удачных примеров применения таких методов в разных областях. До сих пор я сталкивался лишь с таким применением аппарата статистики — скажем, в социологии и педагогике, — когда применявшие не знали даже, что такое пространство элементарных событий, и ничтоже сумняшеся трактовали объекты со сложными связями и зависимостями как совокупные объекты без связей и зависимостей. Характерно, что сам объект не сопротивлялся такому применению, создавалась видимость успеха и даже Для того, чтобы мы могли продуктивно двигаться в наших дискуссиях и приходить к
Я готов двигаться в обоих планах, но хотел бы, чтобы мы их чётко различали. Когда вы приводите в качестве контр-аргумента указания на так называемые «успехи» проникновения методов одних наук в другие, то я отвечаю вам, что не считаю ваши данные, трактуемые вами как факты, фактами и вообще данными — ибо вижу их совсем в ином свете. Я не ссылаюсь в подтверждение своей позиции на те или иные «факты», я всегда рассуждаю, и не хотел бы, чтобы вы прибегали к каким-либо ссылкам на так называемые факты. То, что вы называете фактами, для меня выглядит как ваши иллюзии. По сути дела, все мои аргументы заключены в моих исходных представлениях: если Итак, попробую ещё жёстче сформулировать свою точку зрения. Здесь во время дискуссии прозвучало мнение, что в ходе развития наук они всё более сближаются друг с другом, создают единую картину мира В этом плане очень интересен пример взаимоотношений химии и физики. Мы хорошо знаем, что они постоянно взаимодействуют и, на мой взгляд, непрерывно конкурируют в изучении молекулярно-атомарных явлений. Но весь вопрос состоит в том, как мы будем оценивать характер или качество этого взаимодействия. Одни будут говорить, что всё это свидетельствует об объединении и даже синтезе химических и физических представлений. Но для меня дело выглядит совсем иначе: мне представляется, что физика всё время хочет «съесть» химию. Никакого объединения, синтеза здесь не происходит и не может происходить. Таким образом, имея перед глазами одни и те же факты, мы будем трактовать их принципиально разными способами, и вся тайна — в этой трактовке, в этом объяснении. Источник же и причина наших расхождений в трактовке, казалось бы, одних и тех же фактов заключены в различии наших исходных представлений и средств анализа. Вы рассматриваете науки как совокупности знаний, проецируете эти знания на объект, иначе говоря, на единую картину природы и члените эту картину соответственно различным наукам; получается причудливая картина распределения разных частей предметного мира по различным наукам. При этом реально вы совершаете прямо противоположную процедуру — вы картину мира строите соответственно производимому вами механическому объединению разных наук. Я же подхожу совсем иным образом. Для меня наука существует прежде всего в виде сложноорганизованных, кооперированных организмов и сфер деятельности, затем — в виде определённых научных предметов, которые создаются в качестве организованностей этих сфер деятельности. Для меня все эти предметы, как и создаваемые внутри них картины объекта, суть функции от наших систем кооперации. И если различные науки организационно Сказанное не означает, что я вообще отрицаю возможность объединения и синтеза знаний. Наоборот, это есть основная для меня проблема. Но я хочу выводить её из систем социальной кооперации и организации и объяснять структурами организации. Поэтому, как я уже много раз говорил, для меня проблема синтеза разнопредметных знаний есть прежде всего проблема создания определённых систем кооперации. Из всего этого следует вывод, что дробление и дифференциация науки обуславливаются не строением объекта, а формами социального разделения и социальной организации мышления и деятельности. В. И. Купцов: Но тогда ведь всё это — не недостатки знания, а его неотъемлемая характеристика. Всё то, что Вы сказали, можно отнести к любым и всяким знаниям. Конечно. Такое представление обусловлено моим подходом, моими средствами анализа и описания знаний. Но, утверждая всё это, мы не можем оставлять без внимания историческую точку зрения и исторический подход. Зависимость форм нашего знания от социальной кооперации есть всегдашний и неизменный факт, но сами типы и формы социальной кооперации и организации исторически меняются. То, что мы называем наукой, сложилось в определённый исторический момент. Затем наука развивалась таким образом, что всё болеедифференцировала свои предметы, или научные дисциплины. И сначала это было очень полезно и прогрессивно, ибо вело к расширению наших знаний и развитию самого познания. Движение по этому пути привело в Надо иметь в виду, что это — наиболее важный принцип развития человеческого общества. Обычно это называют принципом «морального старения». Но, по сути дела, это не имеет отношения к морали, а является общим законом развития человеческой деятельности. То, что было прекрасным в XVII столетии, хорошим в XVIII, терпимым в XIX, стало совершенно нетерпимым и вредным в XX столетии. Разделение познания и мышления на различные и автономные научные предметы стало плохим и нетерпимым в XX столетии прежде всего потому, что исчерпало себя, дошло, можно сказать, до конца и было «выжато». Конечно, можно продолжать и развивать эту линию дальше. И мы ещё много десятилетий, даже столетий будем получать Но главные результаты и достижения лежат сегодня уже не на этом, а на другом пути. Путь дальнейшего развития традиционных наук является неэффективным и малопродуктивным не сам по себе, а лишь в сравнении с другим возможным направлением и путём развития мышления и познания, в сравнении с тем направлением, которое сейчас намечается и оформляется. Это направление и этот путь я называю методологическим, противопоставляя, следовательно, методологию и методологическое науке и научному. Характер методологического мышления можно рассматривать и определять с разных сторон, и можно В. И. Купцов: Но почему Вы думаете, что единая картина мира действительно нужна человечеству? Здесь мы подходим к основному и решающему вопросу, Я бы не рискнул сказать, что человечество до сих пор всегда было единым, что оно не расчленялось на ряд подсистем, живущих в разных экологических нишах. Каким образом существовало до сих пор человечество — это очень сложный вопрос, Б. С. Грязнов: Я не понимаю, что Вы имеете в виду, когда говорите, что разрушаются формы социальной кооперации. Ведь Вы не понимаете моих утверждений, или Вы не согласны с ними? Б. С. Грязнов: Я их не понимаю. Ведь общество существует и функционирует. Мы с вами собрались на эту дискуссию и обсуждаем Мне кажется, что именно эта дискуссия, как и вообще работа и существование этого семинара, как нельзя лучше демонстрирует то, что я говорю. Суммарно это можно выразить так: физиков в общем и целом совершенно не интересуют результаты современной философии и методологии науки и их развитие. А мы с вами — небольшая и очень узко специализированная (во всяком случае, тематически Б. С. Грязнов: Я готов согласиться с тем, что исчезает взаимопонимание учёных разных специальностей, но ведь социум от этого не разрушился и не разрушается. Я рад, что Вы уже сделали первый шаг навстречу мне, но мне хочется, чтобы Вы сделали и следующие шаги. На мой взгляд, разрушение взаимопонимания между учёными разных специальностей больше, чем Больше того, ведь если мы обратимся к вашей собственной деятельности в рамках Института истории естествознания и техники, то без труда увидим (обстоятельство вам хорошо известное и вами осознанное), что ваша философская и методологическая деятельность реально никому не нужна; на неё нет спроса среди представителей других наук и других сфер деятельности. Вместе с тем, ведь мы с вами уверены в общественной полезности и значимости вашей профессиональной деятельности, во всяком случае, И. С. Алексеев: Это — не ответ на вопрос. Нет, это именно ответ на вопрос — на тот вопрос, который был мне поставлен. Ведь меня спрашивали не на уровне мышления и абстрактных построений, а на уровне некоторых фактов и эмпирических примеров. Я ответил так, как меня спрашивали, хотя я сам прекрасно понимаю, что это — не аргументация и не доказательство и даже не демонстрация. Но существо вопроса даже не в теоретических доказательствах, Но ведь может быть так, что всё это вам не нужно; может быть, вы считаете, что человечество может развиваться и развивается нормально (и даже лучше, чем в других случаях) в условиях, когда оно разделено на массу подсистем, автономных и независимых друг от друга, когда оно имеет массу противостоящих друг другу миров. Если вы считаете такое положение более интересным и более продуктивным, нежели другое, противоположное ему, если вы считаете, что знания должны соответствовать этим мирам — а пределом такого устройства оказывается отдельный человек с его личным взглядом на мир, — то тогда вы с самого начала должны сказать, что мои ценности и мои идеалы вам не нравятся, и вы не хотите принимать участия в обсуждении проблемы, как добиться единства такой картины мира. И это будет позиция, это будет точка зрения, которую я готов понять и принять как особую и реально существующую позицию. Но меня лично такой подход не устроит. Для меня идеалом и ценностью является единство человечества и развитие его как единого и целостного организма. И я могу пояснить, почему я придерживаюсь именно такого идеала. Дело в том, что мне, кроме всего прочего, хочется ещё быть человеком не только в плане моего антропоидного материала. Это значит, что я должен иметь возможность мыслить и работать на переднем крае. Если я философ или методолог, то я хочу иметь возможность двигаться в одном ряду с теми, кто работает на переднем крае, с теми, кто развивает философию и методологию науки. Но для этого сегодня требуется очень сложная и дифференцированная социальная организация. Нельзя работать на переднем крае современной философии, являясь элементом допотопной и плохо организованной социальной кооперации. Такая работа заранее обречена на отставание. Каким бы талантом я ни обладал, я не смогу один соревноваться со всей американской или европейской философией, я не смогу идти вровень со сложно организованными сферами философской и методологической деятельности. Это можно делать, лишь противопоставив их организации свою организацию. Когда В. А. Смирнов вернулся с коллоквиума из Хельсинки, то он с некоторым удивлением сказал мне, что каждый из американских и английских философов имеет своего двойника у нас в стране: Кун напоминает Кантора, Хинтика — Зиновьева, Лакатос — Щедровицкого и так далее, причём наши даже чуть умнее и образованнее, чем американцы и англичане. Но в Правда, на деле здесь обратное отношение: вы вынуждены работать в дезорганизованной и персонализированной науке, не имеете возможности выйти за эти рамки и задним числом оправдываете такое положение дел, приспосабливая к нему свои идеалы и ценности. Вас устраивает такое положение, меня — нет. В. И. Купцов: Значит, Вы утверждаете, что существующая организация науки не даёт возможности получить целостную научную картину? Вы утверждаете, что если эта организация будет оставаться прежней, то мы никогда не получим этой картины? Совершенно правильно. Но я утверждаю и нечто большее, а именно — что сохранение этой организации фактически уже тормозит развитие познания и мышления в целом, что оно закрывает нам путь к получению новых принципиальных результатов. Но я это пока лишь сказал, а демонстрировать и объяснять должен буду дальше. И. П. Стаханов: Если я Вас правильно понял, то Вы утверждаете, что отсутствие единой картины мира — это особенность XX века, что эта единая картина мира была утеряна именно в последнее время. Я в противоположность этому думаю, что такой единой картины мира в европейском мышлении никогда не было. Мне представляется, что мы реконструируем единую картину мира в некоторой исторической ретроспекции, а на каждом синхронном срезе функционирования науки такой единой картины не было. Это, конечно, очень сложный вопрос, и он имеет массу разных аспектов. Прежде, чем мы начнём обсуждать эту проблему и спорить, мы должны провести соответствующий методологический анализ и наметить основные аспекты и планы обсуждения. В каждом из них нам понадобятся свои особые суждения, и только таким путём мы сможем достичь достаточной точности. Но если сейчас характеризовать все в самом общем и грубом виде, то я могу с полной убеждённостью и ответственностью сказать, что в предшествующие эпохи единая картина мира существовала. То, что такая картина мира существовала у древних греков, не раз обсуждалось в литературе, и это общепризнанно. Это был древнегреческий «космос», описываемый, в частности, С момента возникновения новой науки и новой философии, то есть с конца XVI и начала XVII веков, эта единая картина мира стала вытесняться и разрушаться новой картиной мира. В этом пункте возникла весьма существенная двойственность. На место религиозной и телеологической картины мира пришли, по сути дела, сразу две картины: одна — философская, а другая — собственно научная. Философия должна была рефлектировать науку и создавать для неё единую картину мира, но поскольку она не справлялась с этой задачей — об этом я буду говорить дальше, — наука вынуждена была пользоваться своей собственной картиной и пыталась своими собственными средствами её строить. Поэтому все наши разговоры о существовании или несуществовании единой картины мира в Вопрос о собственно научной картине мира является достаточно сложным, поскольку — Некоторое время процесс разрушения единой картины компенсировался и уравновешивался работой по воссозданию и восстановлению её, и лишь в первой половине XX века наступил перелом и стало ясным, что на выбранном пути нельзя достичь успеха. Как видите, я вынужден отвечать очень осторожно: я говорю, что в Наука и научные предметы создавались и развивались отнюдь не для того, чтобы строить единую картину мира. Науки, начиная с механики и далее, складывались в связи с определёнными потребностями инженерии и практики, для их обслуживания (это один полюс) От науки ожидали, что она создаст единую картину мира, которая вытеснит и заменит наивные космологические представления и религиозно-телеологическую картину мира. А мир, по определению, должен быть единым. Поэтому ожидали, что наука и обслуживающая её философия создадут единую картину мира. Но развитие наук и научных предметов привело к прямо противоположному результату — вместо единой картины мира мы получили множество дифференцированных и разрозненных картин. И чем дальше шло развитие научных предметов, чем более сложными и рафинированными они становились, тем больше разрушалась единая картина мира и тем меньше становилось надежд на то, что в конце концов развитие наук приведёт к созданию такой единой картины. Но на первых этапах развития науки сохранялась ещё иллюзия единой картины мира, идеологическая установка влияла на всё остальное, желаемое выдавалось за действительное, существовала уверенность, что если сейчас и существуют Но на рубеже XIX и XX столетий начинается, То, что я сейчас вам изложил, есть выражение моего представления и моей позиции. Я не обсуждаю сейчас вопроса о том, насколько они истинны и соответствуют реальному положению дел — всё это потребует специальных обсуждений. Я хочу лишь одного: предельно чётко выразить и изложить здесь своё представление о происходящем, а когда вы поймёте и поймёте правильно, мы сможем дальше всё это обсуждать и спорить. Возражая мне, вы говорите две диаметрально противоположные вещи: 1) что единой картины мира никогда не было и 2) что единая картина мира всегда была, есть и остаётся. Я понимаю, что речь идёт, очевидно, о разных образованиях… В. И. Купцов: В первом случае мы говорим о так называемой естественно-научной картине мира, а во втором случае — о философской картине мира. Я так и понимаю Вашу точку зрения. Меня радует, что Вы считаете фактом отсутствие единой естественно-научной картины мира. А дальше я буду специально обсуждать вопрос о том, даёт ли такую картину мира философия. И. П. Стаханов: Но ведь получается вроде бы очевидное противоречие. С одной стороны, Вы говорите, что нет единой картины мира и что она недостижима, Б. С. Грязнов: В Интерпретация и объяснение совершенно правильны: мне нужно было завязать противоречие, сформулировать в связи с этим проблему и затем конструировать решение. Чтобы завершить эту работу, мне нужно сделать всего ещё один шаг. Я должен ответить на вопрос, почему меня не устраивает традиционно философское решение этой проблемы. Я полностью согласен с не раз провозглашавшимся здесь тезисом, что философия всегда стремилась построить единую картину мира, что она постоянно строила эту картину и что ей даже в При этом я возражаю против философского решения этой задачи не вообще и абстрактно, не в принципе, а лишь с учётом особенностей нынешней ситуации. Я полагаю, что философское решение этой проблемы является очень важным и очень полезным, но оно не может удовлетворить сегодняшним потребностям и разрешить сегодняшние парадоксы. На мой взгляд, сегодня сложился и существует очень существенный и чреватый многими последствиями разрыв между далеко продвинувшейся наукой (развивающейся в связи с инженерией и другими видами социальной практики) и тем, что может предложить философия с её традиционными средствами и методами. Поэтому я мог бы ещё охарактеризовать нынешнюю социокультурную ситуацию (во всяком случае с середины XIX столетия) как кризис философии и философского мышления. Я бы мог даже сказать, что осознание этого аспекта развития человеческой культуры начало складываться уже в конце XVIII столетия, но ко второй половине XIX оно выявилось в полной мере и было сформулировано сразу во многих работах. Это сама по себе очень важная и очень интересная проблема. В принципе, нам нужно было бы здесь обсуждать, что такое философия, как она организована и каким образом она обеспечивает объединение, организацию и интеграцию разных видов и форм научного мышления. Повторяю, это — очень сложный и многоплановый вопрос, и, очевидно, я не могу сейчас заняться его анализом и обсуждением. Чтобы как-то помочь вам (по крайней мере в плане дальнейшей работы), я укажу на небольшую статью Иными словами, философская картина мира в определённых отношениях очень хороша, но это — не та единая картина мира, которая нужна сейчас для объединения и интеграции, с одной стороны, различных наук — естественных, гуманитарных, социальных и технических, — Таков мой основной тезис. Если вы поняли, в чём его суть, то в дальнейшем я смогу Смысл и даже отчасти содержание того, что я сейчас говорю, я мог бы пояснить на примере галилеевских «Бесед о двух новых механиках». Вы знаете, что «Беседы» содержат шесть так называемых «дней». В третий день Галилей строил конструктивно-дедуктивную систему, описывающую свободное падение тел. При этом законы свободного падения тел формулируются для того идеального случая, когда падение происходит вне среды. Соответственно этой конструктивно-дедуктивной системе задаётся особое представление об объекте, строится соответствующая онтологическая картина. То, что Галилей вводил такую картину свободного падения тел, не означает, что он не знал о сопротивлении среды. Наоборот, он всё это прекрасно знал и учитывал. Но у него не было конструктивных понятий для того, чтобы связать абстрактно представленное им падение тел с интуитивно очевидной картиной сопротивления среды. Если говорить об этом на языке последующих физических представлений, то можно сказать, что он не имел понятия силы и Но эта вторая картина по своему характеру является принципиально иной, нежели первая. Я бы назвал её «смысловой» или же «философской». Она соответствует более «широкому» объекту и изображает его особым образом, во всяком случае, не так, как это делает первая, собственно научная картина. При этом вторая, философская картина, будучи более общей, охватывает первую или как бы проникает в неё и через неё, но при этом остаётся принципиально иной по своему характеру. В общем и целом, получается такая картина (это уже наша с вами картина), что в середине находится конструктивное ядро, а вокруг неё — смысловой философский пояс как бы качественных представлений (на деле смысловых), и за счёт этого образуется всё целое. Для меня очень важно, что Галилей мог вписать конструктивное ядро в общую систему смысловых представлений только благодаря тому, что он особым образом осмыслял или переосмыслял это конструктивное ядро и за счёт этого добивался целостности всей картины. И если мы рассмотрим дальнейшую историю этой онтологической картины, то увидим, что Ньютон и последующие физики непрерывно расширяют конструктивно-дедуктивное ядро, всё время как бы захватывая области объемлющих смысловых представлений, одновременно изменяя и преобразуя сами эти представления. Я могу сказать, что наука, следуя за инженерией, непрерывно конструктивизирует мир, вводя все новые и новые модели, а на их базе — все новые понятия и знания. А философия постоянно проделывает как бы обратную работу: она непрерывно осмысливает мир и при этом переводит то, что представлено в знаниях и конструкциях, в форму смысловых структур, или просто смысла. Можно сказать, что философия вписывает научный констуктивизированный мир в более широкую систему осмысленного мира. При этом всё время сохраняется разрыв и расхождение между наукой и философией в способах освоения и репрезентации мира. На каком-то этапе развития человеческого мышления это различие было осознано как недостаток философии, и тогда возник тезис, который мы, в частности, встречаем у К. Маркса, — тезис «онаучивания философии», или, иначе, создания научной философии. Но философия не может стать научной. Если философия станет научной, то это будет наука, а не философия, или это будет нечто особое — и не наука, и не философия, а Само по себе это опять-таки очень интересная тема, и, наверное, нужно было бы посмотреть, когда и как, для решения каких задач и при каких условиях возникает сам тезис «онаучивание философии», кто и когда начинает говорить о том, что философия есть «наука наук», Но это всё — особая и специальная работа, в которую мне сейчас не хотелось бы залезать. Итак, философия действительно всегда пыталась создать единую картину мира, но она делала это не научным образом, не в форме мышления и порождаемых им знаний, Очень характерно, что все натурфилософские построения, по сути дела, дублировали естественно-научную картину мира — ведь они должны были дать изображение целого, причём такое, которое бы прямо и непосредственно накладывалось на все научные картины и охватывало их. Эта установка привела к парадоксальному положению дел, когда считалось, что один мир (имелся в виду природный мир) изучается как естественными науками, например физикой, так и философией; причём физика использует разнообразные приёмы и средства, а философия действует одной лишь силой мысли или силой созерцания, и при этом мощь философии настолько велика сравнительно с физикой, что она одной лишь силой мысли получает картину значительно более точную и более богатую, нежели естественные науки, скажем, физика. Получалось, что путём общих и умозрительных рассуждений физический мир анализируется и осваивается лучше Правда, на деле и вопреки всем своим идеологическим установкам философы чувствовали свою неполноценность и потому стали заискивать перед физиками, в особенности известными, стремясь их личным авторитетом подкрепить свои общие соображения и умозрения. Теперь уже не философия стала выступать в качестве критерия и мерила правильности и справедливости физического мышления, а физика стала выступать в роли верховного судьи в отношении различных философских домыслов. Вместо того, чтобы выполнять свою особую профессиональную работу, философы теперь бежали вслед за учёными или рядом с ними и махали флажками по случаю их открытий. Когда же философы вспоминали о своей ведущей роли, то это всегда выливалось в то, что так удачно охарактеризовал Итак, реальные функции философии свелись к тому, что она либо вывешивала «кирпичи», либо восхваляла новые открытия, напоминая петуха, орущего во весь голос по поводу курицы, снёсшей яйцо. Но всё это было естественным и необходимым последствием установки на создание единых квазинаучных картин мира, непосредственно накладывающихся на уже существующие естественно-научные картины. Мне важно также подчеркнуть, что во всём этом было бы неправильно искать злые установки каких-либо личностей или групп. Таким образом ориентированная философия, какими бы хорошими и благородными задачами и помыслами она ни воодушевлялась, не может делать ничего другого. Вот суть моей мысли. На этом я хочу закончить характеристику современной социокультурной ситуации. Я понимаю, что моя характеристика была очень грубой и во многом даже поверхностной. Но главное из того, что я хотел сказать, я передал и надеюсь, что дальше всё это можно будет обсуждать уже более подробно 5. Какой должна быть методология, решающая современные социокультурные задачи?Итак, я фиксирую два аспекта одной и той же социокультурной задачи:
Эти два момента, В первых своих формулировках решение этой задачи весьма банально. Нужно, говорю я, создать новый тип мышления — такой тип мышления, который сделает возможной интеграцию и который вместе с тем будет нести интеграцию как бы в себе. Но чтобы перейти к обсуждению деталей и структуры нового типа мышления, я должен буду ввести понятие о рефлексии Испокон веков два типа знаний обслуживают человеческую деятельность. Один тип — это знания об объектах, с которыми мы действуем, которые мы преобразуем и которые сами собой, хотя В этой связи нам придётся в дальнейшем очень существенно изменить и трансформировать само понятие знания, резко сузив его. Наряду со знаниями в деятельности используется ещё много разных образований, по своему содержанию и даже форме сильно напоминающих знание. Одним из таких образований являются образцы нашей деятельности. Когда эти образцы деятельности или действий других людей описываются, то получаются такие квазизнаниевые образования, как «мифы», «истории», и так далее. Они выполняют очень важные, но строго определённые функции в деятельности. К примеру, мы можем рассматривать Библию как пример знания, но вряд ли вы будете особенно спорить со мной, если я скажу, что Библия является не столько знанием, сколько Можно называть все эти образования «культурными знаниями» или «культурными стандартами». Затем на их базе могут сформироваться особые знания о наших действиях, операциях, процедурах, и так далее. Но как бы мы ни называли все эти образования, я могу, огрубляя дело, сказать, что у нас всегда есть по меньшей мере два типа знаний (в широком смысле), обслуживающих деятельность и обеспечивающих её построение. Это, с одной стороны, знания об объектах нашей деятельности, Чтобы каким-то образом зафиксировать различие этих двух форм знаний и одновременно связать их функционально друг с другом и задать их отношение к деятельности, я введу особое изображение рефлексии, предложенное в 1964 году  Та составляющая, Сравнение двух изображений, представленных на этой схеме, позволяет поставить вопрос: где я нахожусь, когда рефлектирую — внутри моей деятельности или вне её? Б. С. Грязнов: Но что здесь означает «внутри» и «снаружи?» В каком смысле Вы спрашиваете? Должен ли я представлять себе дело так, что речь идёт о пространственных отношениях? Если Вы имеете в виду рассуждения, то это опять-таки очень странно, Но ведь все эти вопросы я должен был бы адресовать Вам, потому что я лишь повторил Ваш вопрос, заданный мне в самом начале доклада. Но Рефлексия и рефлексивные явления тем и характеризуются, что про них нельзя говорить, внешние они или внутренние. Г. Райл однажды высказывался по поводу философии, что это способность и умение, высунувши голову в форточку, видеть себя проходящим по улице. Я не знаю, в какой мере это справедливо в отношении философии в целом, но в отношении рефлексии это сказано как нельзя лучше. Попробуйте ответить на вопрос: каким является это виденье себя — внешним или внутренним? Именно поэтому я изобразил это на схеме в виде «яйца», которое наблюдает себя, как бы выходя наружу. Но с самим «яйцом» ничего не происходит — это только «виденье» сначала выходит за пределы «яйца», а потом обращается на само это «яйцо». Это явление одно из интереснейших в нашем мышлении, хотя может быть, что всё дело здесь в неадекватности наших средств и исходных представлений: всё это выглядит таким странным потому, что мы не умеем найти точное представление. Но как бы мы ни представляли себе рефлексию, сейчас мы хорошо знаем, что она составляет сущность методологического мышления и методологии. Можно было бы даже сказать, что методология возникает на базе рефлексии и призвана разрешить или снять её парадоксы. Методология должна превратить рефлексию в регулярную и нормированную процедуру, создать для неё специальные средства и методику. Именно из этого я исхожу, когда утверждаю, что не может существовать учения о методах, а может существовать лишь методология — как особая форма или особая организация нашей мыслительной деятельности и, в частности, рефлексии, образующей ядро этой мыслительной деятельности. По смыслу и форме всех основных определений учение о методах представляет собой или должно представлять собой знание о тех процедурах и операциях, которые мы должны совершить — именно в этом суть понятия метода; если бы речь шла об уже совершенных операциях и процедурах, то мы бы так их и называли, а не говорили о методах. Точно так же нельзя сказать, что методология — это проекты будущих операций и процедур (хотя, бесспорно, это составляет очень важный и существенный момент в методологии). Это — знания о том, чего ещё не было и что ещё только должно быть (в прямом и точном смысле этого слов). Методология отличается от методики тем, что она относится (или должна относиться) к новым проблемам и задачам, должна указывать нам путь и систему шагов в решении ещё никогда не решавшихся задач. Это, таким образом, план пути, который ещё никогда не был пройден. Это должен быть путь, который приведёт нас к определённому продукту, но его определённость является очень странной, ибо и продукт такого рода мы ещё никогда не получали. Всё это означает лишь одно — что такого пути нет, что он ещё не проложен и на нём нет разметок станций. Это — путь, который мы должны пройти, но прежде чем пройти, мы должны его проложить. Это будет не путь как след пройденного нами, а путь как план нашего прохождения. Методология — это программа получения нужного вам продукта в условиях, когда вы очень плохо представляете себе этот продукт, когда вы, по сути дела, ещё не можете ответить на вопрос, каким он будет. В. И. Купцов: Всё это выглядит очень странно. И. П. Стаханов: Пора «кирпич» вывешивать. Именно эти странности в первую очередь (хотя не только они одни) заставляют меня принципиально менять подход в анализе и описании методологии. Мы уже не можем рассматривать методологию как совокупность или систему знаний о Как рефлексия методология может быть направлена только на самое себя. Здесь происходит одновременно замыкание и расширение методологической деятельности, расширение от методологии к деятельности вообще, замыкание деятельности вообще методологической деятельностью. Методологическая деятельность одновременно оказывается и объемлющей деятельность вообще, и включённой внутрь неё. Практически это означает, что происходит взаимоотождествление методологической деятельности и деятельности, точнее — методологии и деятельности, что создаёт методологическую деятельность как замкнутое целое деятельности. Таким образом, методология познает и проектирует саму себя и таким образом осуществляется как деятельность. Н. Ф. Овчинников: Но что она такое — эта методологическая деятельность? Она есть рефлексия самой себя, и именно этот способ соединения, или замыкания, рефлексии и деятельности, или рефлектируемой деятельности и рефлектирующей деятельности, такого замыкания, которое превращает ту и другую в одну деятельность, и составляет специфику и суть методологии. Поэтому я мог бы сказать, что методология — это особый способ связи рефлектируемой и рефлектирующей деятельности, это особая форма организации того и другого, а вместе с тем особая форма организации деятельности вообще. Но такая характеристика, естественно, ещё не задаёт строения методологической деятельности. Поэтому я дополнительно указываю ещё на то, что благодаря такому способу соединения рефлектирующей и рефлектируемой деятельности происходит одновременно как познание деятельности, так и её проектирование. Поэтому я мог бы ещё сказать, что методология и методологическая деятельность — это также особый способ связи познания и проектирования. Я бы добавил ещё критику и тогда говорил бы, что это особый тип связи познания, критики и проектирования. Я мог бы добавлять сюда ещё и другие виды и типы деятельности, фиксируя, с одной стороны, что именно связывается в методологии, Таким образом, методология — это очень сложная работа, сложная деятельность, которая состоит в том, что она проектирует, конструирует, познает и критикует саму себя, проектируя, конструируя, познавая и критикуя таким образом деятельность вообще. Но это и значит, что она является организмом, или универсумом, деятельности особого рода; она представляет собой замкнутую систему, хотя непрерывно и постоянно втягивает в себя самый различный материал. Но здесь, чтобы более подробно и обоснованно охарактеризовать строение и процессы жизни методологии, мы должны ввести и подробно разобрать понятие системы, которое даст нам возможность Главным при этом станет обсуждение вопроса о том, как относятся и как связаны друг с другом процессы методологической деятельности, её структуры, организованности материала и морфология. Методологическая деятельность, существующая как организм, или сфера, захватывает другие деятельности, ассимилирует их, перерабатывает, непрерывно развёртывая свои собственные, специфические структуры. По ходу дела она создаёт массу своих особых организованностей и за счёт всего этого непрерывно изменяет и перестраивает весь универсум деятельности. Передавая другим организмам и сферам деятельности, в том числе научно-исследовательским, созданные ей организованности, она непосредственно взаимодействует с другими сферами и организмами деятельности, меняет их функционирование и развивает их. В. И. Купцов: А что представляют собой эти организованности, которые методология передаёт другим организмам и сферам деятельности? Это очень хороший, совершенно законный вопрос, но В. И. Купцов: Я хотел бы получить другого рода примеры и иллюстрации. Когда я вижу в моём собственном представлении методологию как учение о методах, то я без труда могу ответить на вопрос, что такое методология статистической физики, я могу показать, что создаёт методология. Подобные же ответы и подобные же примеры я хотел бы получить и от Вас. Пожалуйста. «Беседы о двух новых механиках» Галилея представляют собой, на мой взгляд, классический образец результатов методологической работы. Это то, что оставило после себя, передало в человеческую культуру и тем самым также в другие деятельности методологическое мышление. Но что это такое? Великий мыслитель в течение всей своей жизни пытался решать определённые проблемы, он искал методы решения — обратите внимание: не описывал методы, а искал их — и весь ход, или путь, своего поиска, препарированный и представленный как кратчайший путь к решению проблемы, он выразил в текстах «Бесед» и оставил человечеству. Можем ли мы сказать, что это — методы решения или описания методов решения? В общем, если мы будем рассматривать их как методы или описания методов, то мы сможем так сказать, но только в том случае, если мы их так поймём и так представим. Но мы можем понять и представить их и другими способами. Важно только понять, что всё это — следы его деятельности, и мы ещё должны их особым образом понять, осмыслить и потом употребить в своей собственной деятельности. Поэтому В. И. Купцов: Это не следы его деятельности, это — следы его рефлексии по поводу собственной деятельности. Я готов с Вами согласиться, но Замкнув рефлексию на деятельность и подняв деятельность до рефлексии, я затем ставлю вопрос о формах замыкания и организации того и другого. Поэтому для меня наиболее важной становится проблема технологии (или техники) и форм организации. Это — то единственное, что интересует меня в методологической работе Следовательно, я должен рассматривать не просто следы, не просто организованности методологической работы, а эти организованности вместе с их содержанием, то есть вместе со способами и приёмами употребления их в последующей деятельности и вместе с приёмами исходного порождения самих организованностей в деятельности Галилея. Анализ того и другого, как я писал ещё в 1957 году, образует ядро анализа содержания методологических форм. В. И. Купцов: В «Беседах» Галилей изложил рефлексию своей деятельности. Но ведь деятельность, которую он рефлектировал, была осуществлена до того, как он начал рефлектировать. Ничего подобного. В В. И. Купцов: Но какую же тогда рефлексию осуществлял Галилей? Это, на мой взгляд, была рефлексия по поводу написания книжки, а не по поводу осмысления самой механики. Я опять не понимаю, как Вы разделяете то и другое. Рефлектируя план и структуру книги, мы тем самым рефлектируем структуру механики как особого научного предмета, а рефлектируя структуру научного предмета, мы тем самым и одновременно устанавливаем основные расчленения книги. Ведь движение мысли идёт в содержании Вы как-то очень легко пользуетесь категориями времени в применении к деятельности. А там они не работают. Если мы хотим осуществлять временизацию деятельности, то мы должны будем перестроить и изменить сами категории времени. Должен сказать, что эта проблема сама по себе очень сложна и очень интересна. Кроме того, Вы должны будете учитывать пересечения деятельности и истории, а значит, пересечение деятельностного и исторического времени. Итак, методология в ходе своего функционирования и развития создаёт целый ряд организованностей. В совокупности они фиксируют методологию, в частности методологические процессы, методологическое функционирование. Если мы возьмём их вместе со всеми связями, если мы сможем восстановить их функции, а вместе с тем их смысл и их содержание в отношении к самой методологической работе, то мы сможем, Деятельностный подход к методологии позволяет нам понять, среди прочего, что суть дела не только и не столько в том, чтобы знать, сколько в том, чтобы освоить и овладеть. Понятия освоения и овладения деятельностью являются более общими и более принципиальными, нежели понятие знания. Знание есть лишь один момент и одна сторона того, что мы называем освоением и овладением деятельностью. Я не раз формулировал этот принцип в своих работах, но я понимаю, что его трудно познать и освоить. В. И. Купцов: Но ведь нужно различать изложение полученных результатов и путь, каким мы приходим к этим результатам. Различать, конечно, нужно, но вопрос в том, что Вы будете делать с этими различиями. Кроме того, нужно иметь в виду, что само это различие весьма условно. Многие авторы, в особенности великие, излагают так, как они мыслят, а мыслят они так, как излагают. Эти авторы, как правило, сливаются с историей, и поэтому их путь есть вместе с тем путь развития наших понятий и представлений, средств и методов. Когда мы изучаем работу составителей учебников, то различие между получением и изложением становится значимым, что говорит лишь о качестве учебников или об их специфических характеристиках. Из этого нельзя ещё делать никаких обобщений в отношении изложения и получения знаний. Кроме того, я уже сказал о замыкающей функции рефлексии: это замыкание фактически снимает разницу между процедурами получения и изложения — то, что изложено, становится путём получения, а излагается то, что даёт такой путь получения. Поэтому нам не так уж существенно, следом чего являются и должны быть эти организованности — следом того пути, который реально прошёл в своём мышлении исследователь, или рациональной реконструкции этого пути. В. И. Купцов: Но Вы согласитесь, что, может быть, и бывает деятельность без рефлексии? Ни в коем случае не соглашусь. Деятельности без рефлексии не существует; деятельность без рефлексии — это нонсенс. Деятельность без рефлексии превращается в автоматизированное поведение, в автоматизированное движение. Но это не деятельность. В. И. Купцов: Пусть так. Но меня интересует, может ли рефлексия схватить сущность деятельности. Это не имеет никакого значения. Вы опять используете здесь свои натуралистические представления, построенные на идее плоского отражения и плоского реагирования на объекты окружающего мира. Вопрос не в том, что там было до рефлексии и перед ней. Единственный вопрос в том, что сумела схватить и выразить рефлексия. То, что она выразила, то и есть, то и задействовано в деятельности, а всё остальное просто не существует для деятельности. В. И. Купцов: Ведь нам всегда очень важно получить определённый результат, я бы даже сказал, строго определённый результат. Но когда мы рассуждаем и решаем задачи, то мы не осознаем, что там есть на самом деле, и лишь последующий более детальный анализ даёт нам возможность уяснить, что там реально было. Я хорошо знаком с применяемой вами схемой рассуждения, но мне представляется, что она глубоко ошибочна: она использует такие категории для анализа явлений мышления и деятельности, которые к ним не применимы. Вы всё время представляете дело так, что в мышлении и деятельности уже было нечто, что осуществилось или действовало, и это нечто, на Ваш взгляд, есть некоторый социально значимый факт мышления и деятельности. Я Вам отвечаю, что в мышлении и деятельности основными и ведущими являются процессы и связи воспроизводства, а поэтому то, что происходило в индивидуальном мышлении Н. Ф. Овчинников: Мне всё же показалось, что я могу так истолковать Ваши слова, чтобы представить методологию как особый тип знаний. Это будут те самые организованности, которые создаются благодаря методологической работе и позволяют другим наукам строить нечто новое. Я понимаю, что Вы хотите представить методологию как знание. Но с той точки зрения, которую излагаю я, этого делать нельзя. Н. Ф. Овчинников: Но что методология позволяет нам делать? Так вообще нельзя подходить к методологии. Методология есть нечто существующее, и как таковая она ничего не позволяет — она просто существует. В методологию человек может войти, и он может начать в ней работать, если хочет. Если ему повезёт и он войдёт в методологическую компанию, то он будет заниматься методологией, он будет там работать. Но если вы будете работать внутри методологии, в методологической команде, то у вас не будет всех этих проблем: зачем нужна методология, что она позволяет и чего она, наоборот, не позволяет. Вы будете методологизировать — и все. Ведь вы, как мне кажется, всё время задаёте вопрос такого рода: показываете на меня пальцем и спрашиваете, что со мной можно делать и на что меня можно употреблять. Меня ни на что нельзя употреблять, я суверенная личность, Я утверждаю, что в универсуме человеческой деятельности сложился новый тип и одновременно новый организм и новая сфера деятельности — методология. Я говорю вам: посмотрите на эту деятельность, постарайтесь понять её особенности, смотрите, как она сильно отличается от других видов деятельности. Вы увидите это, если воспользуетесь теми средствами представления, которые я вам предлагаю… А вы мне всё время отвечаете — прямо как в драме Б. Брехта «Галилей»: а зачем нам смотреть, зачем нам ваши средства, когда мы и так знаем, как всё обстоит на самом деле. Вы меня спрашиваете: а что она даст, эта методология? А я отвечаю: не нужно так спрашивать, методология существует, И. П. Стаханов: Значит, Вы не обращаетесь ни к одной из известных экологических ниш, вы создаёте новую экологическую нишу? В этом вся суть дела и все проблемы, которые перед нами встали. Все взаимонепонимание обусловлено именно этим. Я говорю о том, что есть новая деятельность, существующая в особой экологической нише, а вы всё время задаёте один и тот же вопрос: на какие части и элементы она дробится? Причём элементы и части вы хотите выделить так, чтобы они могли употребляться в ваших собственных экологических нишах. Все эти вопросы я понимаю, но хочу объяснить вам остроту В принципе я хотел рассказывать дальше о специфических целях и задачах методологической работы, перечислить Сейчас уже созданы новая программа семиотики и новая программа лингвистики, создан проект новой педагогики, проект инженерной психологии, идёт работа над проектами психологии, социологии, теории проектирования, теории управления. Вся эта работа имеет много разнообразных практических выходов. В настоящее время создаются специальные группы педагогов, психологов, лингвистов, социологов, ориентирующихся на такую методологию и работающих в своих науках. В. И. Купцов: Но тогда, наверное, движение в каждой из этих наук представляет собой вид замаскированной методологической работы. Вы совершенно правы. Фактически, да, хотя одновременно это есть и собственно научное движение в рамках каждой из этих дисциплин. И. П. Стаханов: Но ведь должно быть и нечто общее — то, что характеризует движение во всех этих научных дисциплинах как методологическое движение. Да. Таким общим является технология методологической работы, то есть некоторая рефлексивная метаметодология. Можно сказать, что все эти люди одинаково мыслят, работая в своих специальных научных дисциплинах, и они применяют в своей работе одинаковые, или одни и те же, средства работы. Но одновременно мы создаём целый комплекс новых наук — наук о деятельности. Эти науки строятся с таким расчётом, чтобы дать возможность методологам осуществлять сложные комплексные процессы мышления, объединяющие собственно научное мышление, историческое, инженерно-конструктивное, проектное, рефлексивно-эпистемологическое и так далее. Н. Ф. Овчинников: Но что при этом исследуется и познается? С моей позиции, это — неточная постановка вопроса. Дело не в том, что познается. Ведь сначала нужно создать новые формы и способы мышления, новый стиль, а параллельно и одновременно нужно создаваемый стиль познавать, критиковать и проектировать. Поэтому можно, конечно, сказать, что методологи познают и анализируют лишь своё собственное мышление и свою собственную деятельность. Но так как они строят и осуществляют деятельность в самых разных областях, то анализ и критика их собственного мышления будут вместе с тем анализом и критикой мышления вообще — всех и самых разных видов мышления. Одновременно это будет анализом и познанием предметов и объектов, созданных и обрабатываемых мышлением. А поэтому говорить, что они анализируют, познают и критикуют только своё собственное мышление, будет хотя и правильно, но неточно. Они действительно анализируют, познают и критикуют своё мышление, но через него и посредством него — всякое мышление и всякую деятельность. В. И. Купцов: Но тогда и получается, что методологическое мышление есть более высокий тип мышления, нежели научное. Об этом я всё время и говорю, хотя само понятие «более высокий» требует специальных уточнений. В данном случае эти преимущества методологического мышления обусловлены и объясняются тем, что методологическое мышление захватывает научное, ассимилирует его, сохраняя одновременно все преимущества научного мышления и элиминируя его недостатки. Сама эта элиминация возможна лишь за счёт того, что методологическое мышление растёт на базе научного и опирается на него. В. И. Купцов: Тогда получается, что развитие методологического мышления и методологической деятельности ведёт к общему прогрессу деятельности, мышления и всей нашей культуры. Да, именно так В. И. Купцов: Получается, что методология и методологическое мышление представляют собой новый способ освоения мира и одновременно новый способ жизни мыслителя. Но тогда получается, что самая главная ценность — это само существование методологии, а не её специфические продукты. Вы совершенно правы, но сама методология должна приобрести ещё формы и способы социального существования. Сейчас этого пока ещё нет. Вы хорошо знаете, что был период, когда наука не имела таких закреплённых форм социального существования. Учёный не мог получать денег за свои специфические продукты — научные знания, ему платили либо за обучение, либо за инженерные конструкции. Потом произошло становление научного исследования как особой профессиональной деятельности. Стали покупаться и продаваться сами знания. Нечто подобное, как я представляю себе, должно произойти В. И. Купцов: А на что можно рассчитывать, когда будут создаваться подобные проекты? Я бы мог, конечно, сказать, что в результате мир станет счастливым, но мне не хочется говорить ложь. Лично я счастлив уже от того, что это интересная работа, и от того, что методология хотя и медленно, но неуклонно оформляется и развёртывается. И для меня этого пока достаточно. | |