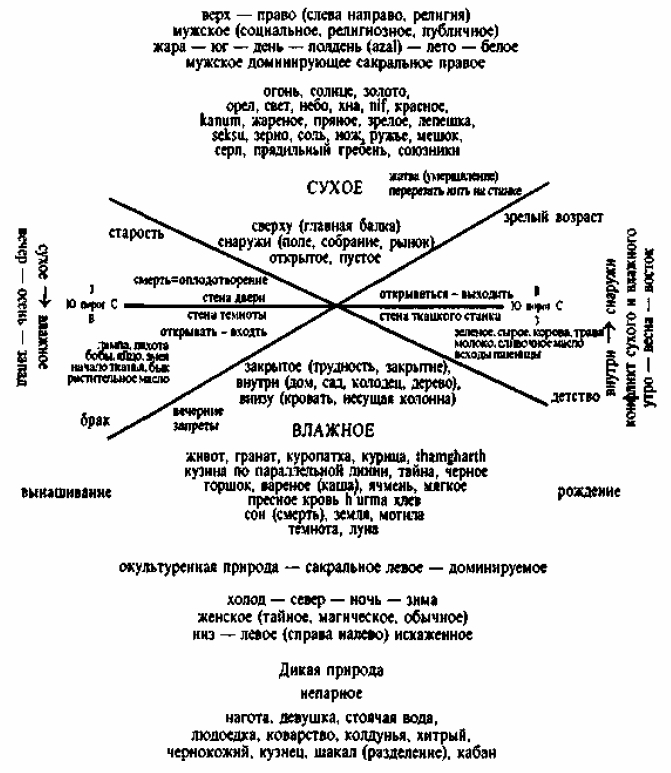По своим предназначению и форме ложка как нельзя лучше соответствует жесту, который передаёт желание вызвать дождь. Обратный жест, состоящий в переворачивании ложки, должен, если можно так выразиться, автоматически вызвать обратное действие. Такой жест производит жена колдуна у мтуггов, чтобы заговорить приближающиеся ливни. Э. Лауст. Слова и вещи берберов. — Мне кажется, что я сделал открытие теологического свойства… Ч. М. Шульц. Ты такой один, Снупи. Объективация схем габитуса в кодифицированное и передаваемое в качестве такового знание происходит очень неравномерно в зависимости от областей практики. Относительная частота поговорок, запретов, пословиц и строго регламентированных обрядов снижается по мере того, как от практик, связанных с сельскохозяйственной деятельностью и видами деятельности, непосредственно к ней примыкающими (как, например, ткачество, гончарное дело, приготовление пищи), мы переходим к делению суток на интервалы или к периодам человеческой жизни, не говоря уже об областях, на первый взгляд, отданных произволу, таких как внутреннее устройство дома, части тела, цвета или животные. Даже предписания обычая, которые регулируют временную структуру деятельности, несмотря на то, что они являются наиболее кодифицированными аспектами культурной традиции, существенно варьируют в зависимости от местности, При любой попытке составить сводный «календарь», когда собирают наиболее часто упоминаемые черты и выявляют наиболее важные варианты (вместо того, чтобы предоставить запись сведений, реально полученных от того или иного информатора), обнаруживается, что идентичные «периоды» получают различные наименования и что — даже ещё чаще — идентичные наименования даются «периодам» очень разной продолжительности и Результатом невинного, казалось бы, вопроса: «А что дальше?» — который предлагает информатору разместить два «периода» в пределах непрерывной последовательности и выражает лишь то, что в имплицитном виде делает сама хронологическая схема, — становится такое отношение к темпоральности, которое во всём противоположно отношению, вкладываемому в обиходное употребление временных обозначений и понятий, каковые, как, например, термин «период», возникают вовсе не самопроизвольно. Так, eliali, слово, употребляемое всеми информаторами, вовсе не означает «сорокадневный период» (говорят просто: «мы вступаем в eliali») — оно только фиксирует некоторую продолжительность, и разные информаторы сообщают ему разную длительность и указывают разные даты его начала. То, что один из информаторов первый день еппауеr соотносит одновременно с серединой зимы Не только форма вопроса, необходимая для достижения определённой последовательности ответов, но и само исследовательское отношение отмечено печатью «теоретической» диспозиции того, кто опрашивает, обязывающей того, кого опрашивают, принять некую квазитеоретическую позу. По причине того, что вопрос полностью лишён связи со способом употребления (и условиями такового) временных ориентиров, он незаметно подменяет прерывистые ориентиры, используемые в практических целях, календарём, который, являясь объектом, расположен развёртываться как единое целое, существовать вне своих «приложений» и независимо от нужд и интересов тех, кто его использует. Становится понятно, почему помимо главных оппозиций, таких как eliali и es’maim, информаторы, которым предлагают составить календарь, в первую очередь указывают то, что могут заимствовать из «учёного» ряда, например mwalah’, swalah’ иfwatah’ или izegzawen, iwraghen, imellalen и iquranen. Короче говоря, когда незаметно исключают всякую связь с практическим интересом, который в каждом данном случае может иметь информатор (мужчина или женщина, взрослый, пастух, крестьянин или кузнец и так далее), чтобы делить год так, а не иначе, используя тот или иной временной ориентир, невольно конструируют объект, существование которому даёт исключительно это неосознанное конструирование и осуществляемые в его ходе операции [6]. Графическое конструирование обязательно требует того, чтобы, «читая» схему, представленную ниже, и комментарий к ней, постоянно держать в голове простые стенографические описания, позволяющие читателю с наименьшими затратами выработать общий взгляд на практики, которые порождающая модель должна будет воспроизвести. Календарь и иллюзия сведения воединоБольшинство информаторов стихийно отсчитывает год от осени (lakhrif). Некоторые началом этого сезона называют даты, близкие к первому сентября, другие — к пятнадцатому августа по юлианскому календарю, этот день называется «ворота года» (thabburth usugas), он знаменует вступление в период дождей после периода засухи, es’maim: в этот день в каждой семье приносится в жертву петух, обновляются достигнутые ранее договорённости, заключаются союзы. Другие информаторы соотносят «ворота года» с началом сельскохозяйственных работ (lah’lal natsh’arats или lah’lal n thagersa), которые знаменуют решающий поворотный момент переходного периода. «Период», приходящийся на пахоту (чаще всего называемый lah’lal, но также h’artadem), начинается с открытия пахоты (awdjeb), которому предшествует приношение в жертву быка, купленного сообща (thimechreth). Мясо быка делится между всеми членами клана (adhrum) или деревни. Пахота и весенний сев, которые начинаются после церемонии начала работ (являющейся одновременно ритуалом заговора дождя) и как только земля становится достаточно влажной, могут продолжаться до середины декабря или даже позже — в зависимости от региона и от года. 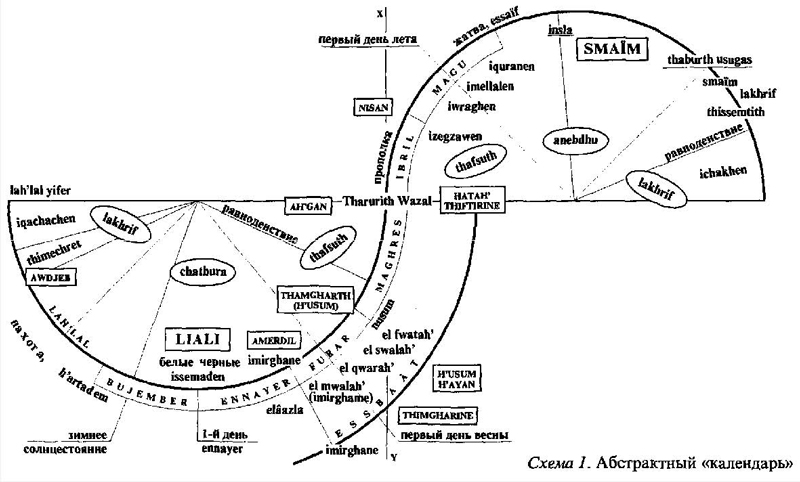 В действительности, не приходится говорить о lah’lal как о периоде: этот термин (и соответствующий ему временной интервал) практически определяется внутри универсума сезона дождей, через противопоставление lah’lal и lakhrif (таким образом, пахота и сев противопоставляются сбору урожая и сушке фиников, садовым работам в thabh’irth, летнем саду и особому уходу за ослабленными за время молотьбы быками, laalaf, направленному на подготовку их к посевным работам). Но внутри того же универсума lah’lal может определяться и через его противопоставление eliali, надиру зимы зимы (Надир — нижняя точка на диаграмме, обозначающая зиму зимы. — Зима (chathwa) начинается, согласно информаторам, между пятнадцатым ноября и первым декабря, её приход не сопровождается никаким специальным ритуалом (что служит доказательством того, что противопоставление осени и зимы выражено слабо); другие информаторы говорят даже, что первый день зимы знать невозможно. Сердцевина зимы называется eliali, «ночи», сорокадневный период, который почти все информаторы делят на две равные части, eliali thimellaline, «белые ночи», и eliali thiberkanine, «чёрные ночи». Такое различение — о чём свидетельствует широкая область его использования — является продуктом совершенно абстрактного и формального принципа деления, несмотря на то, что информаторы объясняют его климатическими изменениями. Когда заканчиваются осенние работы, наступает мёртвый сезон, который в качестве такового противопоставляется es’maim, мёртвому времени сухого сезона, или, как было показано, lah’lal, времени высокой активности. Но в иной связи он противопоставляется также переходу от зимы к весне (essbaat или essubua, «семидневка»). Ещё с одной точки зрения «большие ночи» (eliali kbira) противопоставляются «малым ночам» (eliali esghira) февраля и марта, «ночам пастуха» и «ночам Хайяна». Первый день еппауеr (января), находящийся в центре зимы, отмечен целой серией ритуалов обновления и запретов (запрещается, в частности, подметать и ткать), которые некоторые информаторы распространяют на весь период issemaden (холодов), сопровождающих переход от декабря к январю. Конец eliali отмечен ритуальным празднеством el aazla gennayer, разводом с еппауеr: жизнь проявляется на поверхности земли, на деревьях набухают первые почки, это — начало работ (el fluth ’). Крестьянин выходит в поле, чтобы вкопать саженцы лавра, способные изгонять белого червяка. При этом он произносит: «Выходи, белый червяк! Khammes тебя разрубит!» по версии информаторов из Колло, этот ритуал совершается в первый день весны) (Khammes — землепашец, работающий у хозяина за пятую часть урожая. — Так, слово «старухи», thimgharine, или thamghart, «старуха» (слова, отсылающие к легенде о днях, взятых взаймы, где рассказывается, как зима или январь, февраль и так далее, одолжив несколько дней у следующего периода, смогла наказать старую женщину по другим версиям, козу или чернокожего), которая бросила ей вызов), а также слово amerdil, «ссуда», обозначают либо момент перехода от одного месяца к другому от декабря к январю, от января к февралю, от февраля к марту и даже — в Айн Ахбэль — от марта к апрелю), либо момент перехода от зимы к весне. Н’usuт, учёное слово арабского происхождения, которое встречается в суре Корана, употребляется вместе с h’ayan (или ah’gan) для обозначения перехода отfurar к maghres. (Памятуя о том, что само объединение в [линейную] последовательность характеристик, зафиксированных в одном районе, представляет собой абсолютно искусственную операцию синтеза, мы включили в схему три основных последовательности: 1) imirghane, amerdil, thamghart, ah’gan или thiftirine, nisan; 2) thimgharine, ha’yan, nisan; 3) el mwalah’, el qwarah’, el swalah’, el fwatah’, h’usum, natah’, nisan, о которых весьма ориентировочно можно сказать, что они свойственны Кабилии в районе Джурджуры, малой Кабилии и, наконец, наиболее исламизированным районам, а также наиболее образованным информаторам.) Но в соответствии с магической логикой самый неблагоприятный момент в течение периода, который в целом весьма неопределён, никогда не может быть указан точно, поэтому термины thimgharine или h’usum, «крайне неблагоприятные периоды», иногда используются для обозначения всего периода перехода, с конца января до середины марта. В этом случае они охватывают четыре «недели», на которые делится месяц февраль и совокупность которых называется « Во время «недели h’ayan» (первой недели марта) жизнь замирает. Нельзя прерывать своих занятий и выходить в поле или на виноградники. В период h’ауап и h’usum нельзя также пахать, запрещены свадьбы, сексуальные отношения, нельзя работать ночью, лепить горшки и обжигать их, обрабатывать лён, ткать. В Айн Ахбэль во время периода el h’usum категорически запрещается обрабатывать землю — это el faragh (пустота); опасно «начинать строительство, играть свадьбы, устраивать праздники, покупать скот». В целом, следует воздерживаться от деятельности, в которую вовлекается будущее. У животных рост тоже как будто бы завершился: поросят отнимают от матки (el h’iyaz) в конце недели h’ayan, в день весеннего равноденствия (adhwal gitij, «удлинение солнечного дня»). Люди стучат по бидонам, чтобы наделать как можно больше шума и не дать быкам, которые в этот день понимают язык людей, услышать, что говорят насчёт «удлинения дней», иначе быки «испугаются предстоящей работы». С окончанием «дней старухи» и h’usum считается, что стадо спасено: наступает el fwatah’, время всходов и рождений как на возделанной земле, так Дни становятся всё длиннее. Работы немного (за исключением окапывания фиговых деревьев); нужно ждать, когда жизнь вступит в свои права: «В марте, — говорят в Большой Кабилии, — иди смотреть на свой урожай, да смотри хорошенько». Или: «От солнца цветения (цветения бобовых и, в особенности, столь ожидаемой фасоли) пустеет деревня». Запасы еды заканчиваются, удлинение дней ощущается всё сильнее, тем более что время полевых работ ещё не наступило (так как natah’ ещё не прошёл)$ 6. В это время питаются фасолью и съедобными травами. Отсюда поговорки: «Март (maghres) — это склон, который ползет вверх», «В марте перекусывают семь раз на дню». С natah’ илиthiftirine наступает время перехода. Эти два термина арабского происхождения обозначают приблизительно тот же самый период, с разницей в несколько дней, они мало известны крестьянам Кабилии района Джурждура (куда к этому времени пришёл h’ayan или, вернее, ah’gan, на местном диалекте). На протяжении natah’ «деревья волнуются и сталкиваются», все опасаются избытка дождей и стоит такой холод, что «кабаны дрожат». Как и во время h’usum, не следует выходить на вспаханные поля и на виноградники (это грозит смертью человеку или животному). Natan’ — это также сезон пробуждения природы, расцвета сельскохозяйственной деятельности и жизни, время заключения браков. Это (как и осенью) время свадеб (согласно учёной традиции, «все живые существа на земле женятся»; бесплодным женщинам рекомендуется питаться кашей из трав, собираемых во время natah’) и сельских праздников. Некоторые информаторы привычно делят thiftirine илипаtah’ на неблагоприятный период («трудные дни») в марте и благоприятный («лёгкие дни») в апреле. Переход от дождливого сезона к засушливому приходится на период natah’, на день, называемый «возвращением azal» (слово, обозначающее разгар, середину дня, в противовес ночи и утру, а точнее, самый жаркий момент дня, предназначенный для отдыха), Период плохой погоды остался позади: отныне зелёные поля и сады открыты солнцу. Приходит время сухой погоды и созревания; с наступлением ibril, особенно благодатного месяца (говорят: «Апрель — это спуск»), начинается период лёгкой жизни и относительного изобилия. Повсюду возобновляются работы: поскольку время роста прошло, можно приступать к прополке полей, самой важной работе этого периода, Когда завершается период, называемый izegzawen, «зелёные дни», последняя зелень в деревнях исчезает: нива, до сих пор «нежная» (thaleqaqth), как только что родившийся младенец, начинает желтеть. Названия декад или недель, на которые делится месяц magu (или тауи), обозначают этапы перемен, происходящих на пшеничных полях: после izegzawen идут iwraghen, «жёлтые дни», imellalen, «белые дни», iquranen, «сухие». Лето (anebdhu) действительно началось. В период жёлтых дней категорически запрещаются работы, характерные для сезона дождей и связанные с обработкой садов из фиговых деревьев и засеянных полей, что ещё допускалось во время «зелёных дней». Отныне главная забота — защитить созревающий урожай от грозящих ему опасностей (заморозки, птицы, саранча и тому подобное), для чего используют камни, шумы (ah’ah’i), пугала. Коллективные ритуалы по изгнанию (as’ifedh), к которым прибегают, чтобы выдворить злые силы за пределы охраняемой территории — в гроты, заросли кустов, кучи камней, предварительно «пригвоздив» их к предметам (куклам) или животным (например, к паре голубей), предназначенным для жертвоприношения, — есть не что иное, как схема переноса зла, которая применяется в лечении многих болезней: лихорадки, сумасшествия (как «одержимости» джинном), бесплодия, а также в ритуалах, исполняемых по установленным дням в некоторых деревнях. Согласно большинству информаторов, первый день лета приходится на семнадцатый день месяца magu. В мае не допускаются акты оплодотворения, точно так же в первый день лета исключён сон: остерегаются спать днём, опасаясь заболеть или потерять мужество и чувство собственного достоинства (вместилищем которого является печень). Безусловно, по этой же причине в магических обрядах, направленных на ослабление или лишение доблести (nif) y мужчин или на обуздание животных, не поддающихся дрессировке, используется земля, взятая именно в этот день. В последний день, iquranen, который определяется выражением «монета упала в воду» — что напоминает процесс закалки стали, то есть работу кузнеца, — все должны начать жатву (essaif), которая заканчивается приблизительно в insla, в день летнего солнцестояния (24 июля), когда повсюду жгут костры. Дыму приписывают свойства смеси влажного и сухого В отличие от периодов жатвы и молотьбы, lakhrif предстает мёртвым временем сельскохозяйственного года, или, вернее, циклом зерна. Это также период отдыха и развлечений, позволительных благодаря полученному урожаю. К недавно собранному зерну прибавляются финики, виноград и разные свежие овощи: помидоры, сладкий перец, тыквы и тому подобное. Иногда lakhrif устанавливается с середины августа, в thissemtith (от semti, «начало созревания»), с момента, когда появляются первые зрелые финики и когда на их сбор под угрозой штрафа налагается запрет (el h’aq). Когда приходит ichakhen (ichakh lakhrif, «lakhrif распространился»), сбор урожая идёт полным ходом, в нём участвуют и мужчины, и женщины, и дети. Первое октября определяется как lah’lal yife, момент, когда разрешается обрывать листья финиковых деревьев (achraw, от chrew, «обрывать листья») на корм быкам. Эта дата служит сигналом к «отступлению жизни», которому посвящают себя во время iqachachen («последние дни»): полностью убирают урожай с огородов, виноградников и полей, во время thaqachachth lakhrif снимают с деревьев последние фрукты, деревья очищают от листвы, а сады — от травы. Все следы жизни, продолжавшейся в полях после сбора урожая, исчезают; земля готова к пахоте. Порождающая формулаЦенность диаграммы и комментариев к ней заключается не только в том, что они удобны для быстрого и экономичного изложения. Они отличались бы от наиболее полных таблиц, составляемых прежде, лишь количеством и плотностью значимой информации, если их способность синтезировать и обобщать не позволяла бы продвинуться дальше в логическом контроле и вместе с тем в возможности выявить одновременно их согласованность и несогласованность. Действительно, если вознамериться довести до конца собственно «структуралистский» замысел по выявлению сети отношений, конституирующих систему практик и ритуальных объектов как «систему различий», парадоксальным следствием этого шага станет разрушение возлагаемых на него ожиданий: найти обоснование этого типа самоописания реальности в согласованности интерпретации и интерпретируемой реальности и их систематичности. Самый строгий анализ может явить всю возможную согласованность продуктов практического смысла, лишь обнаруживая одновременно пределы этой согласованности и вынуждая поставить вопрос о функционировании такого аналогизирующего смысла, который производит практики и продукты менее логичные, чем того хочет структуралистский панлогизм, но более логичные, чем то предполагает начинательное и неточное припоминание интуитивизма. Суть ритуальной практики заключается в необходимости либо соединить социологическим способом, то есть логическим и одновременно легитимным, данным в качестве установленного культурного произвола, противопоставления, которые социологика разделила (таковы, например, трудовые или брачные ритуалы), либо разъединить в социологическом духе продукт этого соединения (как, например, в ритуалах, связанных со сбором урожая). Видение мира есть деление мира, основанное на принципе основополагающего разграничения, при котором все вещи мира распределяются на два взаимодополнительных класса. Навести порядок означает ввести различение, разделить универсум на противостоящие единства, которые уже в примитивных спекуляциях пифагорейцев представлялись в форме «столбцов противоположностей» (sustoichaiai). Граница выявляет разные вещи и само различие «через произвольное установление», как говорил Лейбниц, используя «ex instituto» схоластики, акта сугубо магического, который предполагает и производит коллективное верование, то есть сокрытие собственного произвола. Граница отделяет вещи друг от друга через абсолютное различение, которое можно преодолеть лишь другим магическим актом — ритуальным нарушением. Natura non facit saltus («Природа не знает разрывов» (Лейбниц, лат.). Буквальный перевод: «Природа не делает скачков». — Смысл границы, которая отделяет, и сакрального, которое отделено, неразрывно связан со смыслом регламентированного, а следовательно, легитимного нарушения границы, являющегося идеальной формой ритуала. Принцип упорядочения мира лежит в основании ритуальных действий, направленных на узаконивание необходимых и неизбежных нарушений через их опровержение. Все акты, которые бросают вызов исходному diacrisis (Разделение, различение [греч.] — Устрашающий характер всякой операции по соединению противоположностей особенно очевиден на примере закаливания железа, asqi, что означает также «бульон», «соус» и «отрава»: seqi, «орошать», «увлажнять сухое» — значит соединять сухое и влажное, поливая соусом кускус; соединять сухое и влажное, горячее и холодное, огонь и воду при закаливании железа (seqi uzal); лить «зажжённую» и опаляющую воду, seqi essem, «яд» (или, по Далле, магическим образом обезвредить яд). Закаливание железа есть устрашающий акт насилия и хитрости, исполняемый существом ужасным и лицемерным — кузнецом, чей предок, Сиди-Дауд, был способен удерживать в руках расплавленное железо и наказывать должников, протягивая им с невинным видом одно из своих раскалённых добела изделий. Кузнец, исключаемый из матримониальных обменов (бытует оскорбление: «кузнец, сын кузнеца»), является создателем всех инструментов насилия: лемеха плуга, а также ножей, серпов, обоюдоострых топоров и тесел, — он не участвует в деревенских сходах, но его мнение принимается в расчёт, когда речь идёт о войне или насильственных действиях. На перекрестье антагонистических сил находиться небезопасно. Обрезание (khatna или th’ara, часто заменяемые эвфемизмами, основанными на dher, «быть чистым») обеспечивает защиту, необходимую, как считал Дюркгейм [10], для противостояния устрашающим силам, заключённым в женщине [11], и особенно силам, которые заключены в акте соединения противоположностей. Аналогичным образом землепашец надевает на голову колпак из белой шерсти и обувается в arcasen (кожаные сандалии, в которых нельзя входить в дом), словно для того, чтобы не стать местом встречи неба и земли, этих антагонистических сил, в момент, когда он их соединяет [12]. Что касается жнеца, то он также надевает кожаный фартук, который справедливо сравнивают с фартуком кузнеца (Servier, 1962, 217) и смысл которого полностью проясняется, если учесть, что, согласно Дево, его надевали также во время войны (Devaux, 1959, Самые основополагающие ритуальные акты в действительности являются опровергнутыми нарушениями. При помощи социально одобренных и коллективно осуществляемых действий, то есть в соответствии с объективной интенцией, порождающей саму таксономию, ритуал должен разрешить специфическое противоречие, которое исходная дихотомия делает неизбежным, конституируя в качестве разделённых и антагонистических начал, которые должны быть соединены, чтобы обеспечить воспроизводство группы. Через практическое отрицание, не индивидуальное, как то, которое описал Фрейд, но коллективное и публичное, ритуал нацелен на нейтрализацию опасных сил, высвобождаемых в результате нарушения сакральной границы, в результате насилия над h’ara женщины или земли, которая границей произведена. Для осуществления актов магической защиты, к которым обращаются во всех случаях, когда воспроизводство жизненного порядка требует нарушения границ, заложенных в самом его основании, и, в частности, каждый раз, когда требуется разрезать, убивать, короче, нарушать нормальное течение жизни, имеются амбивалентные персонажи, равно презираемые и устрашающие, агенты насилия, которые, как и применяемые ими инструменты насилия (нож, серп и тому подобное), способны отвести злые силы и от насилия уберечь. К их числу относятся чернокожие, кузнецы, мясники, учетчики зерна, старухи — все те, кто по природе своей, являясь частью отрицательных сил, которым следует противостоять или которые следует нейтрализовать, предрасположены к роли магических экранов, ибо находятся на скрещении группы с теми опасными силами, которые порождает противоестественное деление (разрезание) или соединение (пересечение). Чаще всего для выполнения кощунственных и сакральных актов разрезания, таких как заклание быка, приносимого в жертву, обрезание (либо, например, кастрация мулов), приглашается кузнец. Иногда ему же поручается открытие пахоты. В одной деревне Малой Кабилии персонаж, которому поручено открывать пахоту и который является последним потомком человека, нашедшего в воронке от снаряда кусок железа и сделавшего из него лемех для плуга, обязан также выполнять все насильственные акты, связанные с огнём и железом — обрезание, скарификация (Нанесение неглубоких царапин на кожу (в ритуальных или медицинских целях) или на оболочку семян (для их быстрого и одновременного прорастания). — Магическое нарушение границы, установленной в соответствии с магической логикой, не навязывалось бы с такой обязательностью, если соединение противоположностей не было бы самой жизнью, а их разъединение путём убийства — условием жизни, если бы они не представляли собой воспроизводство, сущность, существование, оплодотворение земли и женщины, которые именно с помощью соединения освобождаются от смертоносной бесплодности, каковой является женское начало, предоставленное самому себе. В действительности, соединение противоположностей не уничтожает оппозицию, а противоположности, когда они соединены, всё же противостоят, но совершенно иначе, являя двойную истину отношения, которое их объединяет: одновременно антагонизм и взаимодополнительность, neikos и philia — отношения, которое может показаться их двойственной «природой», если рассматривать их каждое в отдельности. Так, дом, который обладает всеми негативными характеристиками женского мира, тёмного, ночного, и который с этой точки зрения эквивалентен могиле или девственнице, меняет свой смысл, когда становится тем, чем он также является, а именно идеальным местом сосуществования и союза противоположностей, которое, подобно жене, «внутренней лампе», несёт в себе собственный свет [15]: когда заканчивают настилать кровлю нового дома, именно к супружеской лампе обращаются с просьбой дать первый свет. Таким образом, любая вещь приобретает различные свойства в зависимости от того, воспринимается она в состоянии соединения или разъединения, при том что ни одно из этих состояний не может считаться истиной вещи, поскольку в таком случае иное будет искажено или искалечено. Именно так окультуренная природа, это искажённое сакральное, женское-мужское, или омужествленное, как оплодотворённая земля или женщина, противопоставляется не только мужскому в его целостности — в состоянии соединения или разъединения, — но также, Эта оппозиция между женским-женским и женским-мужским проявляется множеством способов. Женская женщина — это такая женщина, которая не подчинена никакой мужской власти, которая, не имея ни мужа, ни детей, не имеет чести (h’urma). Бесплодная, она является составной частью целины (бесплодная женщина не должна ничего сажать в саду, не должна держать в руках семена) и дикого мира, она связана с непокорённой природой
Крайнее негативное проявление женщины — старуха, в которой сосредоточены все отрицательные свойства женскости (всего того в женщине, что вызывает у мужчин ужас, столь характерный для «мужских» обществ). В свою очередь, крайнее проявление старухи — старая колдунья (stuf), свирепый сказочный персонаж (Lacoste-Dujardin, 1970, Благодаря достоинствам, которыми наделено мужское начало и которые позволяют ему в любом браке навязывать свои условия, мужское-мужское, в отличие от женского-женского, никогда не осуждается открыто, несмотря на неодобрение, которое вызывают некоторые формы избыточности мужских доблестей, когда они проявляются в чистом виде, как, например, «доблесть (nif) дьявола». Одним из воплощений дьявола является «рыжий» [16]. Он повсюду сеет смуту, у него нет усов, с ним не хотят вместе торговать на базаре, а на последнем суде, когда всем прощаются все прегрешения, ему отказывают в отпущении грехов и так далее. Другим воплощением дьявола — совершенно в ином смысле — выступает amengur, мужчина, не оставивший потомков мужского пола. Социальный мир, каждую его часть, насквозь пронизывает основополагающее разделение, начинающееся с разделения труда между полами, переходящее далее в разделение сельскохозяйственного цикла на время труда и время производства и достигающее представлений и ценностей, опосредованных ритуальными практиками. В основе разделения труда, а также ритуалов или представлений, предназначенных для усиления или оправдания этого разделения [17], лежат одни и те же практические схемы, которые вписаны в самые глубинные телесные диспозиции. Эмпирическая работа по установлению «колонок оппозиций», на которых зиждется каждая культурная система в своём произвольном, то есть историческом своеобразии, позволяет выявить принцип основополагающего разделения, исходный nomos, который мыслится как расположенный у истока, в своего рода изначальном акте конституирования, установления, институирования, но который в действительности институирован в каждом обычном акте обыденной практики, наподобие тех, которые управляют разделением труда между полами, этой формой непрерывного творения, одновременно бессознательной и коллективной, что определяет её непрерывность и трансцендентность в отношении индивидуальных сознаний. Смысл распределения видов деятельности между полами (такого, каким оно выглядит в приведённой ниже сводной таблице) можно постичь, комбинируя три основные оппозиции: оппозицию между движением внутрь (а также вниз) и движением вовне (или вверх), оппозицию между влажным и сухим и, наконец, оппозицию между непрерывными действиями, направленными на длительное поддержание противоположностей и распоряжение ими в их единстве, и краткими, прерывистыми действиями, направленными на объединение существующих противоположностей или разделение соединившихся. Нет нужды вновь возвращаться к оппозиции между внутренним, домом, кухней, или движением внутрь (накопление запасов) и внешним, полем, базаром, сходом, или движением вовне, между невидимым и видимым, личным и общественным и так далее. Оппозиция между влажным и сухим, которая частично перекрывает предыдущую, даёт женщине всё то, что имеет отношение к воде, зелени, траве, саду, овощам, молоку, дереву, камню, земле (женщина пропалывает огород босиком, она лепит глиняные горшки и внутренние стены голыми руками). Но последняя оппозиция, наиболее важная с точки зрения ритуальной логики, отделяет мужские действия: непродолжительные и опасные столкновения с пограничными силами (пахота, жатва, заклание быка), для которых требуются инструменты, сделанные с помощью огня, и соответствующие предохранительные ритуалы — от действий женских: от вынашивания и ведения хозяйства, постоянных забот, направленных на обеспечение непрерывности, приготовления пищи (аналогичного вынашиванию), ухода за детьми и животными (включающего чистку, уборку навоза, от запаха которого чахнут скотина и дети, а также подметание), тканья (которое в одном из его аспектов рассматривается как поддержание жизни), заготовки продуктов или просто сбора плодов, а также других видов деятельности, которые сопровождаются простыми искупительными обрядами. Сама женщина, то есть её жизнь и способность к деторождению, в высшей степени уязвима («беременная женщина стоит одной ногой в этом мире, а другой — в ином», «могила для неё остаётся открытой с момента зачатия до четвёртого дня после родов»), уязвимы также и те жизни, за которые она несёт ответственность, то есть жизнь детей, скота, сада. Выступая хранительницей объединённых противоположностей (то есть жизни), женщина должна распоряжаться жизнью и защищать её как техническими, так и магическими средствами.
Подвергаясь постоянной опасности в качестве хранительниц жизни, женщины отвечают за все магические практики, направленные на сохранение жизни (например, все обряды asfel против сглаза). Все эти обряды направлены на продолжение жизни, за которую отвечают женщины, поддержание той способности к плодоношению, носителями которой они являются (бесплодие всегда вменяется им в вину). Чтобы уберечь от смерти ещё не родившегося ребёнка, беременная женщина совершает омовение рядом с сукой, у которой отобрали щенков. Когда женщина теряет ребёнка в младенчестве, она обливается водой в яслях, одежду ребёнка зарывают рядом с его могилой, помещая туда же заступ, которым закапывали могилу (существует выражение «продать заступ», а матери, потерявшей ребёнка советуют: «Надо немедленно зарыть заступ»). И наоборот, бесплодной женщине запрещается делать всё то, что имеет отношение к плодородию (сажать, красить хной руки жениха, isli, то есть причёсывать невесту, thislith, то есть прикасаться ко всему, что должно расти и множиться). Чтобы избежать опасности, женщине не следует произносить некоторых слов: о ребёнке, как Таким образом, оппозиция между прерывистым мужским и непрерывным женским обнаруживается как на уровне воспроизводства, в оппозиции зачатия и вынашивания, так и на уровне производства, в структурирующей сельскохозяйственный цикл оппозиции между временем труда и временем производства, где последнее отведено для вынашивания и регуляции природных процессов. «Занятия мужчины — не успел оглянуться, и всё кончено. А у женщины семь дней пройдёт, а она свои дела никак не закончит» (Genevois, 69); «Жена следует за своим мужем, она доделывает то, что он оставляет после себя»; «у женщины лёгкая работа (fessus), но она не имеет конца». Именно посредством разделения труда между полами, которое является одновременно и техническим, и ритуальным, структура практики и ритуальных представлений сочленяется со структурой производства. Наиболее важные моменты сельскохозяйственного года, которые Маркс называл трудовыми периодами [18], когда мужчины соединяют противоположности или разъединяют объединённые противоположности — то есть осуществляют собственно сельскохозяйственные действия (в противоположность простому сбору плодов, которым занимаются женщины), — сопровождаются коллективными ритуалами узаконивания, принципиально отличающимися по важности, торжественности и непреложности от предохранительных и искупительных ритуалов, которые в течение всего остального периода производства (когда зерно, как горшок, оставленный для просушки, или как ребёнок во чреве матери, подчинено процессу исключительно природного преобразования) выполняются в основном женщинами и детьми (пастухами) и имеют своей функцией содействовать природе в её работе (см. Нет нужды показывать, как посредством технического и ритуального разделения труда между полами таблица мужских и женских ценностей соотносится с основополагающей оппозицией сельскохозяйственного года. Цену таких качеств, как мужественность и бойцовость — когда речь идёт о мальчике, — легко понять, если знать, что мужчина, особенно во время пахоты, жатвы и полового акта, — это тот, кто, производя жизнь и средства удовлетворения жизненно необходимых потребностей, должен с помощью насилия, способного прекратить насилие, осуществить соединение противоположностей или разъединение объединённых противоположностей. И наоборот, женщина, которая предназначена для непрерывных дел вынашивания и упорядочения, естественно наделяется обратными свойствами: сохранения, накопления, утаивания — всем тем, что входит в понятие h’urma. 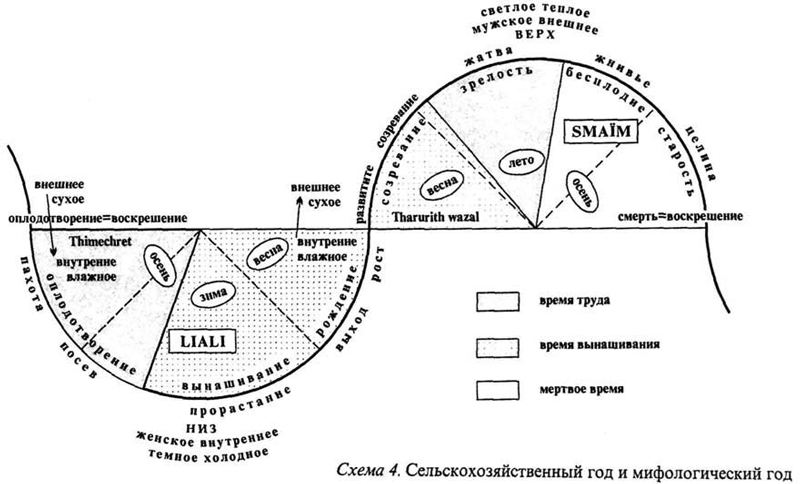 Магическая граница, как видим, пролегает повсюду: она одновременно в вещах «В этот день пастух уезжает рано утром, чтобы успеть вернуться к azal. Он собирает всех трав понемногу. Он сделает из них букет, который тоже называется azal и который будет подвешен над входом. В это время хозяйка дома готовит молочный крем…» (Hassler, 1942). Из каждой обычной фразы такого обычного описания нужно уметь не только вычленить смысл, который не осознается агентами, но также увидеть в ней банальную сцену повседневной жизни: старика, сидящего у своей двери, пока невестка готовит ему еду, возвращающийся скот, женщину, которая привязывает его, юношу, возвращающегося с букетом цветов, которые ему помогла собрать бабка, мать, которая берёт цветы и привешивает их над входом, услышать обычные слова (« И конечно, ничто так не даёт почувствовать практическую функцию и функционирование социальных принципов разделения, как реалистическое и одновременно образное описание внезапной и тотальной трансформации обыденной жизни, которая происходит при «возвращении azal». Все без исключения в деятельности мужчин, женщин, детей внезапно преображается, подчиняясь новому временному ритму: выгон скота, конечно, а также труд мужчин и домашняя работа женщин, место, где готовится еда (это момент, когда выносят огонь, чтобы установить kanum во дворе), часы отдыха, место, где едят, сама природа питания, момент и маршрут перемещений женщин и их работ вне дома, ритм собраний мужчин, церемоний, молитв, сходов, базаров, организуемых между деревнями. Во влажный период, по утрам, до doh’a все мужчины находятся в деревне: за исключением собрания, которое бывает иногда по пятницам после коллективной молитвы, именно в этот момент происходят сходы всего клана и всех советов по урегулированию дел по поводу разделов, расторжения браков и так далее); также в эти часы с минарета раздаются обращения к собраниям мужчин (например, призыв к коллективным работам). С наступлением doh’a пастух гонит стадо на пастбище, а мужчины отправляются в поле или в сады для выполнения либо крупных сезонных работ типа пахоты или обработки землёй мотыгой, либо небольших работ, которыми заполнено «мёртвое время» года или сельского дня (сбор травы, рытье и чистка канав, сбор хвороста или выкорчевывание пней и так далее). Когда дождь, снег или холод прерывают всякую работу в полях или когда невозможно обрабатывать слишком размокшую землю без ущерба для будущего урожая или для предстоящей пахоты, а плохие дороги и страх застрять вдали от дома прерывают традиционные связи с внешним миром, императив, предписывающий мужчинам находиться в середине дня вне дома, собирает их всех в общем доме, несмотря на все раздоры. В этот период года все до единого мужчины действительно находятся в деревне, куда начиная с thaqachachth (конец октября) подтягиваются жители azib — хутора. Вечерняя трапеза (imensi) подаётся очень рано — как только мужчины, сняв ботинки и рабочую одежду, присаживаются отдохнуть. Когда наступает ночь, все мужчины уже расходятся по домам, за исключением тех, кто по вечерам предпочитает молиться в мечети, где, как правило, последнюю молитву (el aicha) совершают раньше, чтобы она по времени совпадала с молитвой maghreb. Именно потому, что мужчины всегда едят дома (за исключением полдника), женщины, лишённые принадлежащего им пространства, стремятся присвоить другое место, занимаясь приготовлением пищи у стены дома, в тени, в послеобеденное время, пока мужчины отсутствуют, что позволяет им хлопотать, не привлекая к себе внимания, без опасения быть застигнутыми за бездельем. Работа у ткацкого станка — занятие, которое длится в течение всего периода дождей — позволяет выстраивать своего рода завесу, за которой можно уединиться, она служит своего рода алиби, поскольку к ней можно вернуться в любой момент. Эта же стратегия используется В противовес замыканию группы на самой себе, а также на своём прошлом — в форме историй и легенд, которые рассказываются долгими вечерами в помещении, предназначенном для мужчин, — с наступлением сухого сезона происходит открытие вовне [19]. Пробуждение деревни, затаившейся на период дождей, сопровождается, с возвращением azal, большим шумом и движением: стук копыт мулов сообщает о тех, кто отправляется на базар, он сменяется непрерывным топотом выгоняемого из хлевов скота, затем печатный шаг ослов оповещает о том, что мужчины выходят в поля и сады. Ближе к doh’a пастушок собирает своё стадо, а часть мужчин возвращается в деревню на послеполуденный отдых. Муэдзин зазывает на молитву Так этот двойной выход определяет границы azal, в прямом смысле слова мёртвого времени, которое должен уважать каждый: кругом звенящая тишина, пустота, на улицах — настоящая «пустыня». Большинство мужчин разбрелось: кто живёт на azib на хуторе), кто постоянно живёт вне дома Основополагающее разделениеТолько порождающая модель, очень мощная и одновременно очень простая, позволяет избежать альтернативы институционализма и позитивизма и не впасть в нескончаемую интерпретацию, которой предаётся структурализм, когда он, неспособный подняться до порождающих оснований, может лишь бесконечно воспроизводить логические операции, которые во многом являются случайными актуализациями этих оснований. Зная принцип основополагающего разделения (парадигмой которого является оппозиция между полами), можно заново произвести, то есть полностью понять, все ритуальные практики и символы на основании двух операциональных схем, которые, в качестве культурно конституированных внутри и посредством ритуальной практики природных процессов, являются неразрывно логическими и биологическими, как природные процессы, которые они стремятся воспроизвести (в двойном значении), будучи осмыслены в магической логике: с одной стороны, это объединение разделённых противоположностей, образцовыми актуализациями которых являются брак, пахота или ковка железа и которые порождают жизнь как собрание вновь объединённых противоположностей, с другой стороны, это разделение объединённых противоположностей, разрушение и предание смерти, например жертвоприношение быка и жатва как опровергнутые убийства [20]. Таковы две операции: объединять то, что основополагающее разделение (nomos, раздел и закон, закон разделения, принцип деления) разъединяет: мужское и женское, сухое и мокрое, небо и землю, огонь или орудия, созданные с помощью огня, и воду — и разделять то, что ритуальное нарушение: пахота или брак, как условие всякой жизни — объединяет. Общим у этих двух операций является их сущность — неизбежное кощунство, нарушения, одновременно необходимые и противоестественные, некий предел, одновременно необходимый и произвольный. Одним словом, достаточно воспользоваться принципом основополагающего разделения и этими двумя классами операций, чтобы воспроизвести систему существенных признаков в форме сконструированного описания, совершенно несводимого к нескончаемому и, тем не менее, всегда неполному перечислению ритуалов и их вариантов, что сообщает последующему анализу невразумительность и мистицизм. Исходное разделение, которое противопоставляет мужское и женское, сухое и мокрое, горячее и холодное, — это основание оппозиции, о которой всегда сообщают информаторы, оппозиции между двумя важными состояниями: с одной стороны, eliali, ночи, времени влажного и женского, вернее, объединённых противоположностей, мужского в женском, одомашненного женского, полного дома, плодородной женщины и земли, Если период, названный eliali, «ночи», упоминается всеми информаторами и всегда в связи с esmaim, «зноем», то это прежде всего потому, что в Именно во время первого дня еппауеr (приходящегося на середину eliali, на границе между «чёрными» ночами и «белыми» ночами) Плодородное поле, надлежащим образом охраняемое (наподобие женщины [21]): с помощью колючей изгороди (zerb), сакральной границы, которая производит сакральное, табу (h’aram), — является местом таинственной и непредсказуемой работы, которая внешне никак себя не проявляет и которую можно сравнить с процессом разваривания пшена и фасоли в горшке или с работой по вынашиванию, которая происходит в животе женщины. Это время как раз и есть зима зимы, ночь ночи. Аналог ночи, зима, — это время сна быков в хлеву, ночная и северная сторона дома, время сексуальных отношений: как для кабана [22], так и для перепёлки, яйца которой являются символом плодородия; eliali — время спаривания. Это момент, когда природный мир отдан женским силам плодородия, относительно которых никогда нельзя быть уверенным, что они будут вполне и окончательно омужествлены, то есть окультурены и приручены. Внезапные возвращения зимы, холодов и ночи словно напоминают о скрытом насилии женской природы, которая всегда угрожает обратиться к злу, налево, к целине, к бесплодию природной природы. В «споре между зимой и мужчиной» (Anonyme, F D B, 1947) зима представлена женщиной (название времени года, chathwc, трактуется как женское имя собственное) и старой женщиной, воплощающей все силы зла, насилия и смерти («Я зарежу твою скотину, — сказала она. — Когда я поднимусь, ножи примутся за дело»), беспорядка и разделения. И только поражение в поединке с мужчиной может вынудить её несколько умерить агрессивность и выказать больше умеренности и милосердия. Этот своего рода первородный миф напоминает, что зима, как женщина, двояка: есть в ней женщина чисто женская, не смешанная, не укрощённая, воплощённая в старой женщине, пустой, сухой, бесплодной, то есть женское начало, сведённое старостью к его чисто негативной истине (ухудшение погоды иногда открыто связывается с пагубными действиями старух в той или иной деревне клана, или старух соседских кланов, то есть колдуний, каждой из которых принадлежит определённый день недели). Но есть также женщина покорённая и приручённая, женщина полная и полностью женщина, плодородие, труд по вынашиванию и проращиванию, который выполняет природа, оплодотворённая мужчиной. Всякая окультуренная природа, земля, в которую брошены семена, или живот женщины есть место борьбы, подобной той, которая противопоставляет холод и зимние сумерки силам весеннего света, открытия, выхода из земли, из живота, из дома), силам, с которыми одной из своих сторон связан мужчина. Именно в такой логике следует понимать «дни старухи», момент перехода и разрыва между зимой и весной (или между двумя месяцами зимы): старуха, называемая Эта гипотеза находит своё подтверждение в том факте, что, согласно легенде, записанной в Аит Хишем, роль старухи отводится чёрному, персонажу презираемому и зловредному. Различая в периоде ah’ayan благословенный период, называемый ah’ayan u h’uri («ah’ayan свободного человека, белого»), когда можно сажать и сеять, и проклинаемый период, называемый ah’ayan bu akli («ah’ayan чёрного»), неделю холодов и морозов, в течение которой останавливаются все работы, информатор рассказал легенду о нарушении границ, устанавливающих социальный порядок. Чёрный хотел жениться на дочери белого человека. Стремясь избежать такого союза, отец потребовал: претендент в течение семи дней должен стоять под струей водопада, чтобы побелеть. Негр выдерживал испытание в течение шести дней, на седьмой день Бог, который был против этого брака, наслал дождь с радугой (как в случае свадьбы шакала) и заморозки, которые и убили негра (вариант этой легенды можно найти в: Bourilly, 1932). В соответствии с вариантом, записанным в Айн Ахбэль, старуха, переворачивая обычное разделение ролей и нарушая границу, закреплённую за различными возрастами, просит своих детей выдать её замуж. Дети ставят условием, чтобы она семь ночей провела на морозе, в результате чего она умирает. Ещё один противоестественный брак описан в легенде о «женитьбе шакала». Это животное, как и нечестивая старуха или нечистая коза, воплощает природный беспорядок, неприручённую природу («у него нет дома»), вступает в брак за пределами своего вида, в противоестественный брак с верблюдицей, и вдобавок не устраивает свадьбы. И на этот раз небо насылает град и бурю, как если бы нарушение временных границ, устанавливающих природный порядок, могло быть обосновано только необходимостью нарушить социальные границы или покарать за это. В большинстве вариантов старухе свойственна словесная невоздержанность, которая заставляет её бросать вызов, оскорбление, обвинение (то есть приводит её к своего рода hubris) в адрес будущего, нарушать границу как таковую, чем является граница временная («прощай, дядюшка Еппауеr, ты ушёл и ничего мне не сделал»). Но главным образом, старуха, будучи страшной, злой, бесплодной, дикой, нарушающей границы всякого приличия по легенде, старуха еппауеr мочится на детей, у её субститута, козы, всегда неприлично задран хвост, а живот плоский и пустой, страшные и острые зубы, которые все перемалывают), предрасположена к столкновению со злыми силами, частью которых она является и которые во время различных инаугураций следует вытеснять в прошлое и изгонять. Одним словом, походя в этом на чернокожего и кузнеца, она обретает своё назначение в том, чтобы с помощью зла побеждать зло (подобно тому, как она это делает, налаживая ткацкий станок), чтобы от имени всей группы вести борьбу против зимы, её alter ego, — борьбу, в которой она жертвует себя Es’maim, «жаркое время», является для сухого сезона тем же, чем eliali — для влажного: это мёртвое время, которое противостоит essaif, жатве, так же, как внутри влажного сезона eliali другое мёртвое время противостоит lah’lal, пахоте, и выражает в наиболее концентрированном виде все свойства сухого сезона. Начинается это чистое и бесплодное царство лета (то есть огня, сухости, солёного) с месяца мая, который считается неблагоприятным для разного рода оплодотворения, то есть для свадеб (майские браки обречены на распад и маету; «проклятая майская метла» является полной противоположностью благословенной метле «первого дня весны»: майская метла приносит разорение, опустошение и бесплодие в дом или хлев, где ей пользуются). В ритуалах «первого для лета» [23], а также в ритуалах, посвящённых летнему солнцестоянию, insla, приходящегося на начало es’maim, при татуировке, скарификации в лечебных или профилактических целях, производимой веточкой олеандра, извлечённой из букета azal, при обвязывании головы красной проволокой в целях защиты, прокалывании ушей у девочек, кровопускании у животных и людей и так далее, используют железо и огонь, а также инструменты, созданные с помощью огня или связанные с огнём: серп, лемех, чесальный гребень, нож, кузнечные щипцы для угля, кочерга, с помощью которых рубят, режут (в частности, перерезают горло приносимых в жертву животных и людей), колют, пускают кровь, а также изгоняют злые силы, принадлежащие царству влажного, как, например, djnun. Ночь insla, когда зажигают бесплодный очистительный огонь в доме, в ночном (среди стада), в виноградниках, в полях, на пасеках, на току и так далее, обречена на бесплодие. Считается, что в эту ночь женщина не может зачать, а рождающиеся в этот день дети (как и заключающиеся в этот день браки [24]) обречены на бесплодие. Время сухости — это и время соли, пищи острой и жареной, как сухие травы, которыми она сдабривается, пищи мужской и дающей мужскую силу, время лепёшки и растительного масла («солнце жжёт, как масло»), которое так же характерно для лета, как животное масло — для весны. Соль очень тесно связана с сухостью Es’maim, который представляет собой в чистом виде, без всяких примесей и смягчений, все характеристики лета, соотносится с остальным годом так же, как azal (самый жаркий момент дня), а точнее, «середина нааzal» соотносится с днём. Как и azal, es’maim, пустота (lakhla) скошенных полей, время железа и огня, насилия и смерти от s’emm, «лезвие ножа») является временем исключительно мужским. Пороги и переходыПереходные периоды обладают всеми признаками порога, то есть границы между двумя пространствами, где сталкиваются противодействующие основания и где мир переворачивается. Граница — это то место, где происходит борьба: границы между полями являются местом или поводом для вполне реальных битв (в народной песенке поётся о старцах, которые «сдвигают границы»); границы между временами года, когда борются, например, зима с весной; граница в виде порога дома, где сталкиваются антагонистические силы и где происходят все изменения, связанные с переходом внутреннего во внешнее (таковы все первые «выходы» роженицы, ребёнка, молока, телёнка и так далее) или внешнего во внутреннее (как первый вход в дом молодой жены, превращение нетронутого в плодоносящее); граница между днём и ночью (говорят о часе, «когда день борется с ночью»). Ритуалы, связанные с этими моментами, подчиняются принципу максимизации магической прибыли: они направлены на согласование мифической хронологии с хронологией климатической, со скачками и капризами последней, обеспечивая дождь в намеченный момент пахоты, сопровождая или ускоряя, когда нужно, переход от сухой погоды к сырой осенью, а весною от сырой погоды — к сухой. Короче говоря, ритуалы стремятся приблизить получение благ, которые несёт с собой начинающийся сезон, и при этом как можно дольше сохранить прибыль, полученную в уходящем сезоне. Осень — это место, где переворачивается ход мирового порядка, где всё опрокидывается сверху вниз: мужское — в женское, семена — в недра земли, мужчины и животные — в дом, свет (вместе с лампой) — во тьму, сухое — во влажное, — до нового переворота, который весной поставит на ноги этот опрокинутый мир, отданный во власть женского начала, живота, женщины, дома, ночи. Эта парадоксальная инверсия наглядно повторяется в приготовлении пищи: приготовляемая согласно схеме замачивания сухого осенняя еда состоит из сухих продуктов (крупа, сушёные овощи, сушёное мясо), которые развариваются в воде, без специй, в горшке или — что в конечном счёте одно и то же — варятся на пару либо подходят на дрожжах. Такая же объективная интенция заложена во всех осенних ритуалах, вызывающих дожди, а именно погружение мужского, сухого, плодоносного семени в женскую влажность земли: жертвоприношение быка, thimechreth, (который не должен быть рыжим, поскольку этот цвет ассоциируется с сухим: «рыжий бык не возделывает свою землю», — говорят о ленивом) или начало пахоты, awdjeb, которое, имитируя в ритуальной форме это грозное единство противоположностей, уже само способно вызывать дожди. В бедственных ситуациях, когда логика отчаяния действует с особой силой, практики, вызывающие переход от сухого к влажному, построенные на притяжении влажного к сухому (как в коллективном заклинании, когда старики берут поварешку, одетую куклой, и идут в деревню собирать муку (см. Picard, 1968, Если над осенью господствует разъединение, которое содержится в пахоте, и логика оплодотворения, которая пересекается с ритуалами увлажнения сухого, то весна — это нескончаемый переход (начинающийся вскоре после eliali), находящийся в неопределённости и под постоянной угрозой, между влажным и сухим. Или, говоря точнее, это своего рода смутная, неясная борьба, для которой свойственно состояние бесконечного опрокидывания двух начал. Перед этой схваткой, походящей на ту, которую ведут на рассвете свет и тьма, людей охватывает страх беспомощных наблюдателей. Отсюда, возможно, изобилие календарных терминов, почти каждый из которых обозначает состояние погоды и сельскохозяйственных культур. В это время ожидания, когда судьба сева зависит от женской и непостоянной природы, куда мужчина вторгается чрезвычайно осторожно, деятельность очень ограничена, поскольку мужчины бессильны перед процессом прорастания и вынашивания. На женщину возложена роль акушерки, которая оказывает природе-роженице своего рода ритуальную и техническую помощь в виде, например, прополки, этой единственной сельскохозяйственной работы, носящей исключительно женский характер. Этот сбор зелени (прополка называется waghzaz, от корня azegzaw, «зелень», «сырой», «свежая и Зелёная трава», например, одуванчики, которые женщины собирают во время прополки полей Момент, называемый «отделение ennayer» (el aazla gennayer), связан с идеей разрыва. Осуществляется «отделение» в поле: некоторые выполняют ритуальное изгнание Maras, белого червя, втыкая в землю ветки олеандра. В жизни «отделение» происходит с первой стрижкой мальчиков. Время разъединения выступает для зернового цикла тем же, чем для жизненного цикла являются ритуалы, удостоверяющие постепенное возмужание мальчиков по происхождению принадлежащих женщине), в частности, все церемонии, начиная с рождения, которые отмечают этапы перехода в мужской мир, как, например, первый выход на базар или первая стрижка — вплоть до обрезания. Совершенно очевидно, что все ритуалы разделения, за исключением некоторых деталей, аналогичны по той причине, что они следуют единой схеме, а именно разрезания и разделения, используют совокупность предметов, символизирующих эти операции (нож, кинжал, лемех, серебряная монета и так далее) [26]. Так, родившегося младенца кладут справа от матери, сама мать ложится на правый бок, а между ними размещают гребень, большой нож, лемех, камни из очага и горшок, наполненный водой (информатор, характеризуя некоторые из перечисленных предметов, называл их самые очевидные функции: нож — «чтобы он был бойцом», лемех — «чтобы он обрабатывал землю», — отмечая, что необходимой считается сама сталь, материал, из которого сделаны предметы, а не предметы как таковые. Согласно другому информатору, между матерью и младенцем укладывают деньги, черепицу, сталь, большой плоский камень и сосуд из тыквы, наполненный водой (Genevois, 1968). До своего первого выхода из дома мальчик находится под женской защитой, символом которой выступают балки, однако как только он перешагивает порог, он лишается этой защиты. Поэтому для его первого выхода выбирается наиболее благоприятный период: либо момент пахоты, когда ребёнка ведут в поле и дают ему дотронуться до ручки плуга, либо весну (желательно первый день весны). Важность первой стрижки связана с тем, что женские волосы являются одной из символических нитей, связывающих ребёнка с материнским миром. Первая стрижка волос доверяется отцу (который пользуется мужским инструментом — бритвой) в день «отделения в январе» (el aazla gennayer). Этот ритуал производится незадолго до первого выхода мальчика на базар, то есть в возрасте между шестью и восемью годами. Младшим детям отец выбривает лишь правый висок [27]. Когда ребёнок впервые сопровождает своего отца на базар — здесь возраст ребёнка варьирует в зависимости от семьи и положения ребёнка в семье, — его одевают во всё новое, отец обвязывает ему голову шёлковой лентой, ребёнок получает в подарок нож, замок и зеркальце, Все характерные черты этого трудного перехода в Двойственность вписана в само время года: весна — это рост и детство, следовательно, она предназначена для радости, как и первый день сезона. Thafsuth, «весна», связано с корнем FS, efsu, «разложить» (связки фиников), «развязать», «вить» (шерсть), Весна — это период огородов и бобовых культур (asafruri), в частности бобов, часть которых потребляется в зелёном виде; время молока, которое даёт в изобилии скот, откормленный зелёным кормом в хлеву или недалеко от дома, и которое употребляется во всех видах (сыворотка, простокваша, масло, сыр и так далее). В обряде в день azal самым очевидным образом выражено желание иметь все сразу, подобно Платоновым детям, одновременно удерживать одно и другое, как можно дольше поддерживать между противоположными силами равновесие, определяющее жизнь, становиться сухим, как того требуют ритуалы разделения, одновременно сохраняя влажное и не допуская, чтобы сухое дало иссякнуть молоку и маслу. Совершая обряд, женщина закапывает перед входом в хлев узелок с тмином, смолистым ладаном и индиго, произнося при этом: «О, зелень, храни равновесие, оно (масло) не уйдёт и не иссякнет». Это желание очень хорошо видно во всех обрядах, связанных с коровой и молоком, когда речь о том, чтобы дать дозреть и при этом уберечь от высыхания (сиеста azal, день дня, сухое сухого является наиболее благоприятным моментом для кражи молока у коровы). Так, борясь с сухим с помощью сухого, хозяйка дома, желающая защитить корову, телёнка и молоко от людей с «солёным» (дурным) глазом — то есть сухим и иссушающим (соль — синоним бесплодия: «сеять соль»), — набирает горсть земли в месте, куда упал телёнок при рождении, смешивает её с солью, пшеничной мукой Среди обрядов, которые совершают женщины для защиты детей, самыми типичными являются так называемые обряды совпадения по месяцу (thucherka wayur), защищающие ребёнка от порчи (aqlab), которую может наслать другая мать, родившая ребёнка в том же месяце. Женщины, говорит информатор, следят за теми матерями, которые рожали в том же месяце (icherqen ауиr). Каждая мать, опасаясь, чтобы другая не наслала на её ребёнка всяческие несчастья, торопится первой дотронуться до лба и произнести: «Обращаю на тебя порчу» (aqlab, «перемена»). О ребёнке, на которого таким образом наслана порча, мать говорит: «Мне его подменили, неправильно повернули». Чтобы защититься, две женщины могут разделить пополам хлеб, тем самым удостоверяя, что не предадут друг друга. Женщина, которая становится жертвой aqlab и которая обнаруживает причину своего несчастья, поджаривает зерна на bufrah’ (закопченное блюдо), перевёрнутом вверх дном, то есть повёрнутом неправильно, и тайком бросает их на крышу дома другой женщины, произнося при этом: «Возвращаю тебе, что ты мне дала». Обряд, называемый «thuksa thucherka wayur», то есть «стремление избежать совпадения по месяцу», выполняется на Точное расположение [временного] порога, где порядок вещей выворачивается наизнанку, «как лепёшка на сковороде», связывается с «возвращением azal» (tharurith wazal), точкой деления года между сухим и влажным сезонами. Ритм трудового дня, определяемый выгоном стада, меняется, Опровергнутое нарушениеЕсли в периоды разделения антагонистические начала предстают, можно сказать, в чистом виде, как, например, в период сильной жары, или грозят вернуться к таковому, как это происходит зимой, то в переходные периоды сухое обращается во влажное, в осень, а влажное обращается в сухое, в весну. Эти два типа периодов, будучи двумя противоположными друг другу процессами, в которых соединение и разделение осуществляется помимо какого бы то ни было человеческого вмешательства, в свою очередь, противопоставляются тому периоду, когда соединение противоположностей и разделение объединённых противоположностей приобретает критическую форму, поскольку полностью возлагается на человека. Оппозиция между, с одной стороны, искупительными ритуалами, которые, за небольшим исключением, носят сугубо женский характер и свойственны переходным периодам, и, с другой стороны, ритуалами узаконивания, которые обязательны для всей группы и прежде всего для мужчин в активные периоды (жатва и пахота), переводит в плоскость специфической логики ритуального оппозицию (определяющую структуру сельскохозяйственного года) между временем труда и временем вынашивания (то есть оставшейся части цикла воспроизводства), в течение которого зерно подвергается процессу исключительно природного изменения [29]. Функция обрядов, сопровождающих пахоту или свадьбу, состоит в том, чтобы разрешить — путём разведения в разные стороны — коллизию двух противоположных принципов, coincidencia oppositorum (Совпадение противоположностей (лат.) — В случае жатвы коллективно опровергаемая социальная истина носит совершенно недвусмысленный характер. Жатва (thamegra) — это умерщвление (thamgert’ означает «горло», «насильственная смерть», «месть», a amgar — «серп»), в результате которого земля, оплодотворённая пахотой, лишается тех плодов, которые в ней вызрели. Обряд последнего снопа, имеющий большое число вариантов, множество раз был описан после того анализа, который проделал Фрэзер [32]. Его смысл заключается прежде всего в том, чтобы символически опровергнуть неизбежное умерщвление поля или «духа зерна» (или «поля»), основы его плодородия, превращая его в жертву, способную обеспечить возрождение умерщвлённой жизни и сопровождая его всевозможными компенсационными мерами, которые предстают субститутами жизни самого «хозяина поля». Так же, как в случае тканья, когда жертвоприношение, предваряющее перерезание нити, обосновывается громко произносимой формулой «жизнь за жизнь», следующей логике кровной мести (thamgert’) — «горло за горло [gorge]», — «хозяин поля» обязуется оплатить своей жизнью жизнь, которую он отнимает у поля, срезая [egorgeant] его последний сноп. Исполнение этого акта остаётся за хозяином, даже когда этот обряд в его изначальной форме практически исчезает, как, например, в Большой Кабилии: именно хозяин поля всегда срезает последний сноп и приносит в дом, где подвешивает его к несущей балке. Это напоминает приёмы, которые часто применяются в отношении «хозяина поля», чтобы получить от того эквивалент diya — компенсацию, благодаря которой иногда прерывается цепь мести, отвечающей на месть. В качестве характерного примера можно назвать обычай, когда жнецы бросаются на хозяина поля в тот момент, когда он срезает последний сноп, связывают его и тащат в мечеть, где договариваются с ним о выкупе: мёде, масле, овцах, немедленно жертвуемых на трапезу, собирающую всех жнецов (Bourrilly, 126). Судя по тем именам, которые дают последнему снопу, представляется, что «дух поля» необходимо увековечить или практически отождествить, в зависимости от вариантов, либо с животным (говорят о «гриве поля», «хвосте поля»), либо с молодой женой, thislith, которая обречена умереть после того, как созреет её плод (говорят о «кудрях поля», о «косах поля»). Этим различным представлениям соответствуют различные ритуалы: согласно одним из них, срезать последний сноп считается грехом, поэтому его оставляют на поле в распоряжении бедных, быков или птиц, согласно другим, сноп срезают серпом (или собирают вручную, чтобы он не соприкасался с серпом), но всякий раз согласно определённому ритуалу. Ритуальное умерщвление поля может быть осуществлено через принесение в жертву (магическая компенсация неизбежного преступления) животного, которое представляет собой одновременно и инкарнацию, и субститут (вместе с мясом жертвенного животного участники трапезы усваивают его волшебные свойства; во многих случаях предметом особого внимания становится хвост жертвенного животного: хвост подвешивается к мечети, как если бы, подобно последнему снопу, называемому иногда «хвостом поля», он сообщал жизненную силу). Ритуальное умерщвление поля может быть исполнено также над самим последним снопом, выступающим в качестве жертвенного животного. В этом случае хозяин поля поворачивается к востоку, укладывает последний сноп на землю колосьями к востоку, наподобие быка, и как бы «зарезает» колосья, высыпая землю из левого кулака на середину раны, что должно изображать льющуюся кровь (Servier, 1962, Ритуал опровержения смерти дублируется искупительными действиями, благоприятствующими воскрешению, о чём сообщает Чтобы в полной мере понять другой ритуал, имеющий целью узаконить объединение противоположностей, а именно церемонию пахоты, следует знать, что период, следующий за жатвой и сопровождаемый ритуалами сохранения плодородия, есть время разделения, посвящённое мужским добродетелям, долгу чести и сражениям [34]. Lakhrif, от арабского глагола kherref (Dallet, 1953, С возвратом к обычному порядку, в ущерб поискам отдалённых союзов, предпочтение отдаётся укреплению кровного единства, отмеченного thimechreth, жертвоприношением «ворот года», то есть закланием быка, кровь которого орошает землю, вызывая дождь, и мясо которого делится между всеми членами общины. Разделение на равные части жертвенного быка превращает его в своего рода практическую метафору социального корпуса, схему деления на семьи. Оно устанавливает границы группы, торжественно подтверждает — путём раздачи каждой семье по одной части — реальное или официальное кровное родство, которое объединяет всех живущих членов (thaymats) клана (adhrum) в родню через общность происхождения (ihadjadith). В то же самое время это разделение устанавливает собственно политический закон такой родственной принадлежности, а именно изономию (Равенство перед законом (греч.) — Эта философия истории, которая в скрытом виде представлена в любой ритуальной практике, выражена в сказке в форме мифа о происхождении: «Пришли Жертвоприношение быка — акт опровергнутого насилия, призванного опровергнуть насилие, состоящее в навязывании человеческого порядка природе, плодоносящей, но дикой, девственнице или девушке — является совместной трапезой, коллективной клятвой, благодаря которой складывается группа, заявляющая чисто человеческий, то есть мужской порядок, против ностальгии по войне всех против всех, воплощённой, в частности, в шакале и его святотатственном коварстве (thah’raymith) или в женщине, которая исключена и из церемонии жертвоприношения, и из устанавливаемого этой церемонией политического порядка. Как и природный мир, приручённое плодородие которого таит в себе необузданные силы дикой природы (которые воплощает и которыми повелевает старая колдунья), социальный порядок, рождённый из клятвы, вычленяющей собрание людей из хаоса единичных интересов, неотвязно преследует подавляемая ностальгия о природном состоянии. Ритуал пахоты, который представляет собой кульминационный момент сельскохозяйственного года, обязан своей сложностью тому факту, что в соответствии с принципиально многофункциональной логикой магической практики, которая, будучи практикой, пренебрегает строгой дифференциацией функций, а будучи практикой магической, стремится охватить собой все благоприятные возможности, задействует разные порождающие схемы, относительный вес которых зависит от местных традиций, «городских законов», как говорил Монтень. Эти схемы, порождённые историей и часто увековечиваемые в целях различения, несмотря на то, что в конечном итоге могут быть сведены одна к другой, всё же обладают достаточной автономией для производства жестов или символов, частично несовпадающих или, по меньшей мере, переопределяемых полисемических и многофункциональных [38]. Таким образом, можно видеть, словно на едином изображении, созданном наложением нескольких, продукты нескольких практических схем. Среди них прежде всего встречавшаяся нам схема опровержения насилия, заложенная в пахоте или в дефлорации и затем в умерщвлении — жертвоприношении быка, которая в соответствии с логикой обмена дарами (do ut des) представляет собой компенсацию насилия, совершаемого над землёй. Затем схема, которая является изнанкой предыдущей, то есть схема объединения, со всеми символами пары и спаривания, от пары быков до свадебной лампы, а также схемы, направленные на успех объединения, омужествления мужского (выстрелы и стрельба в цель) и оплодотворения женского, включая все ритуалы, связанные с плодоношением (которые замкнуты в себе, когда бесплодная женщина осуществляет брачные ритуалы (Genevois, 1968, II, Ритуализация, которая делает нарушение официальным, превращает его в регламентированный и одновременно публичный акт, выполняемый на глазах у всех, коллективно принимаемый и одобряемый, даже если его осуществление делегировано одному человеку. Таким образом, она сама является самым мощным нарушением из всех, поскольку охватывает всю группу. Верование, которое всегда коллективно, складывается и легитимируется, становясь публичным и официальным, утверждая и обнаруживая себя, вместо того чтобы скрываться, как это делает нелегитимный обряд (то есть подчинённый, как, например, женская магия), который, скрываясь, тем самым признает — как веберовский вор — легитимность как таковую и свою собственную нелегитимность. В частном случае, когда необходимо узаконить нарушение [39], именно группа уполномочивает саму себя делать то, что она делает посредством работы по официализации, заключённой в придании некоторой практике коллективного характера и превращении её в публичную, делегированную и синхронизированную. Из этого следует, что степень легитимности (и социальной значимости) ритуала можно определить, исходя из формы коллективной организации, которую он принимает. Можно выделить основные ритуалы, обладающие всеобщей значимостью, которые собирают в одном и том же месте Так, обряды наслания порчи (asfel), как и ритуалы, сопровождающие рождение, обряды предсказания и тому подобные, основываются на очень простых и ясных связях между идеями (несколько похожими на сказки), поскольку их логика самым непосредственным образом выводится из их функции, которую им придаёт управляющая схема. Например, когда речь идёт о лечении подагры, qibla присыпает больной член землёй (с могилы чужака), совершает обряд вращения с использованием яйца и на В целом, степень свободы меняется в зависимости от полноты коллективного участия, а также от степени ритуализации, институционализации и соотносительной с ними официализации. Однако она зависит и от положения индивидов в официальной иерархии, которая всегда является иерархией относительно официального. Доминирующие привязаны к официальному (статусно признаваемая власть располагает к признанию и получению власти). И наоборот, доминируемые, то есть в данном случае женщины, склонны к неофициальному или к тайному, служащему орудием борьбы против официального, доступ к которому им закрыт. Как показывает анализ женской магии, символизм является одновременно общим кодом и орудием борьбы (что не противоречит одно другому): орудием внутренней борьбы между женщинами и, в частности, между свекровью и невесткой, и орудием борьбы между мужчинами и женщинами. Точно так же, как существует официальная, мужская истина брака и практическая истина, принадлежащая женщинам, существует официальное, публичное, торжественное, необычное применение символизма, являющееся мужским, и тайное, частное, стыдливое и ежедневное использование символизма, которое является женским. Институирование законных (lah’lal) периодов или моментов, назначение «уполномоченных-экранов» (семья, которой поручено открывать пахоту, кладущий начало брак между кузеном и кузиной по параллельной линии), а также организация больших коллективных церемоний, когда группа имеющейся у неё властью облачает себя властью — таковы три аспекта одной и той же операции, основополагающей для всякого легитимного ритуала (путаница возникает при отождествлении различия между легитимной и нелегитимной магией и различия между религией и магией, выступающего ставкой в социальной борьбе). Именно на власть, которую — путём самоосвящения — группа предоставляет самой себе, распространяя её либо на всю себя целиком, либо на одного из своих представителей, авторитетного уполномоченного, опирается имеющая иллокутивный характер сила, которая работает во всех социальных ритуалах. Собственно магический характер этой насквозь социальной силы может быть сокрыт до тех пор, пока она воздействует лишь на социальный мир, разделяя и объединяя индивидов или группы с помощью границ или связей (брак) не менее магических, чем те, которые устанавливает нож или магический узел, преобразуя социальную ценность вещей (как марка у кутюрье) или лиц (как диплом об образовании). Однако магический характер этой силы полностью обнаруживает себя, когда — вследствие простодушия, доверчивости, самоуничижения, вызванного крайним разочарованием и отчаянием — группы стремятся отправлять власть, препорученную ими самим себе путём самоосвящения, лежащего в основании этой в высшей степени эффективной магии коллективного, за пределами её действенности, то есть распространить власть на то, что от них не зависит — на природный мир, от которого они зависят сами. Например, когда они хотят сделать из тыквы карету, наподобие того как они делают короля из сына короля или из крещёного — христианина, когда, одним словом, они стараются установить с вещами отношения, принятые между людьми, то есть отдавая приказы или дары, изрекая пожелания или молитвы. При пахоте, как и при жатве, кощунственное символически отрицается самим ходом этого процесса: тот, кто уполномочен открывать пахоту, «свадебный мужчина», как его иногда называют, действует в качестве уполномоченного группы в момент, указанный группой, чтобы осуществить святотатственный союз огня, неба и влажной земли, лемеха, этого эквивалента грома небесного, название которого он носит (thagersa — одновременно «благословенный» и «страшный»; его не следует ни мыть, ни мочить в воде, ни вносить в дом в дни пахоты), и борозды [40]. В Сиди Аих открытие пахоты (а точнее, «выход на первую пашню»), то есть ритуальное проведение первой борозды, доверяется семье, называемой abrua, «приносящая счастье» (abrua означает также длинный хвост быка, выбираемого для осеннего жертвоприношения, и длинное платье женщины, переносящей семена. О нём упоминается в заклинаниях, в которых бесконечно повторяется образ женщины, работающей на огороде: «Дай парцелле, которой коснулись подол моего платья, abrite, и подошвы моих ног, богатый урожай» (Genevois, 1969). «Люди (то есть все члены клана) выходят из дома Юсефа» (который, как ещё говорят, «выходит по желанию других»). Объясняя функции этой семьи, которая также держит в руках монополию на все технические действия с применением огня или предметов, произведённых с его помощью (прижигание болячек, татуировка, заживление ран, обрезание), рассказывают, что Ритуалы пахоты должны также благоприятствовать такому парадоксальному единению противоположностей, в котором верх временно становится женским началом: семя, обречённое на сухость и бесплодие, может вернуться к жизни лишь через погружение в плодотворную влажность. Земля, как и овца, может не плодоносить (thamazgulth), она может вернуться к бесплодию или к дикому плодоношению целины, и будущее семян полностью зависит от женской стихии, которую должен обуздать акт оплодотворения. «Ворота года» — это не тот момент, когда год начинается (год вообще не имеет начала, поскольку он есть вечное начинание), это — «порог», период неуверенности и надежды (при каждом удобном случае говорят: «если Богу будет угодно…»), когда всё обновляется, начиная с договоров и союзов (Maury, 1939), момент вступления, когда год, наподобие дома, который должен быть всегда открыт навстречу благотворным лучам солнца, открывается мужскому началу, его оплодотворяющему и наполняющему. Пахота и сев отмечают окончание движения извне внутрь, пустого в полное, сухого во влажное, солнечного света в земные сумерки, мужского оплодотворяющего в женское плодородное. В этой связи можно вспомнить очень известную сказку о Хэб-Хэб-эр-Реман. В этой истории вокруг змеи, часто лежащей на вкопанных в землю кувшинах с зерном для готовки и сева, концентрируется вся символика плодородия, характерная также для свадебных ритуалов и ритуалов начала пахоты. Одна девушка, у которой было семь братьев и которая, таким образом, была семь раз благословенна, поскольку семь раз защищена, пала жертвой зависти своих невесток, которые заставили её съесть семь змеиных яиц, запечённых в тесте. Живот у сестры вспухает, все думают, что она беременна, её выгоняют. Один мудрец обнаруживает правду о содеянном зле: чтобы избавить девушку от напасти, нужно зарезать барана, зажарить его мясо и, сильно посолив, дать ей съесть. Затем девушку подвешивают за ноги, так чтобы её открытый рот оказался над водой. Змеи выходят изо рта, их убивают. Девушка выходит замуж, у неё рождается ребёнок, которого называют Хэб-Хэб-эр-Реман, «гранатовые зёрна». Она возвращается к братьям, которые прощают её, услышав всю историю и увидев семь змей, которых она засолила и высушила. Совершенно очевидно, что для того, чтобы создать этот рассказ или расшифровать, хотя бы частично, его содержание, достаточно владеть совокупностью схем, которые задействованы в производстве любого мифа об оплодотворении. Оплодотворить означает ввести, внедрить К союзу мужского и женского, сухого и влажного через брак или через пахоту обращён весь перформативный символизм ритуальности, призванный обозначать, то есть авторитетно утверждать единство начал, которые обречены на бесплодие, пока они находятся в разъединённом, непарном, несовершенном состоянии. Отсюда использование в ритуалах свадьбы или пахоты всего того, что символизирует сдвоенность, парность, спаривание, и прежде всего пары быков (thayuga или thazwij — от ezwej, «жениться», «быть женатым»), идеальной пары, поскольку бык сам по себе уже является символом и приметой процветания и полноты. Того, кому поручено начинать пахоту и кого иногда зовут «стариком на свадьбе», называют также «стариком с парой быков» (amghar natyuga). Именно бык говорит: «Там, где я лягу, не будет голода» или: «Эй, голод, выходи; заходи, сытость» (Genevois, 1968,1, 29). Вот почему введение в дом новой пары быков является благословением, сопровождаемым ритуалами, которые исполняет хозяйка дома. Перед тем как молодая жена войдёт в дом, она кладёт на порог alemsir, баранью шкуру, на которой происходит передача молотого зерна и которая называется «воротами товаров» ( Другой способ обозначить успешное соитие — это обработка, которой подвергается зерно. Согласно различным информаторам, зерно, предназначенное для посева, никогда не смешивается с зерном для готовки или продажи. В зерне для посева всегда попадаются зерна последнего сжатого снопа, иногда последнего обмолоченного снопа, пыль с последней сжатой парцеллы, зерна, взятые на току при обмолоте последнего снопа, или пыль, взятая из мавзолея святого (Servier, 1962, 229, 253), а также соль и тому подобное. Поэтому семенное зерно подготавливается в соответствии с обычаями и запретами, направленными на сохранение его свойств, и хранится дома, в ларях или в маленьких кувшинах, thikufiyin, установленных на разделительную стену. Иначе говоря, семена приручены благодаря длительному пребыванию в месте, исключительно благоприятном для зачатия, где мужское вступает в союз с женским, о чём свидетельствует — в самой архитектуре дома — единство женской распорки и мужской балки, которую та поддерживает, как земля — небо [42]. Но наиболее полно символическое единство воплощено в зажжённой лампе (mes’bah ’), которую несут перед свадебным кортежем (Devulder, 1957; Yamina, 1953) и которая горит всю ночь в спальне новобрачных. Согласно другой традиции, эта лампа сопровождает пахаря в первый день пахоты на поле, оставаясь зажжённой, пока не будет засеяна первая парцелла (thamtirth). Обычная лампа символизирует мужчину, от которого идёт свет (говорят: «Мужчина — это свет, женщина— это тьма»); в настенной росписи изображение лампы, напоминающей букву «М», символизирует лежащую с раздвинутыми ногами женщину и означает совокупление (Devulder, 1951). Но, как и очаг, лампа не лишена двусмысленности мужского — женского. Она — свет, идущий изнутри, мужское в женском, что, собственно, и воспроизводится в ритуалах [43]. В свадебную лампу, которую несёт кортеж, сопровождающий невесту из её дома в дом жениха, старуха, наряжающая невесту, кладёт соль, мёд, а также продукт, встречающийся в ритуалах «совпадения по месяцу» под названием «орех совпадения» (Devulder, 1957). Погасшая в дороге лампа считается плохим предзнаменованием, потому старуха пытается это предотвратить заговором. Лампа должна гореть в течение всей первой брачной ночи, а также в последующие дни, пока не кончится масло — её ни в коем случае нельзя гасить. Мотив настенной росписи, который называют «свадебная лампа», включает в себя одновременно изображение, походящее на букву «М», квадрат и thanslith от корня «NSL», «начинать», «порождать»). Этот мотив образован двумя треугольниками, соединёнными между собой острыми углами, что является «началом всякого тканья и любой жизни» (Chantreaux, 1942, Символ единства и света изнутри, лампа, обозначая также мужчину и его мужественность, является, помимо всего прочего, символом возмужания, наподобие парных выстрелов, сопровождающих невесту, и, в частности, выстрелов, которые мужская родня жениха, эти стражи и гаранты его мужественности, делают по мишени, выставленной на их пути (этот же обычай сопровождает рождение мальчика или операцию обрезания). Рассказывают, что Камень (женское) или сырое яйцо, символ живота женщины и её плодовитости, укладывались в углубление насыпи или в ствол дерева, а участникам шествия предлагалось пари, удастся ли им сбить мишень. Кортеж останавливался и стоял до тех пор, пока Выстрелы, которые в ритуалах заклинания дождя символизируют мужское окропление, могут развязать то, что связано, а потому естественным образом подразумевают запрет на завязывание узлов, противостоящее как мужскому действию «открыть», так и женскому «быть открытым», «открыться», «раздуться». Ритуал, всегда подчинённый поиску максимальной магической выгоды, можно сказать, убивает двух зайцев одним выстрелом, играя на совпадении, хорошо выраженном двусмысленностью соответствующих глаголов «открывать» и «открыться», чтобы наложить запрет на действия, препятствующие открытию, женскому — в его пассивной форме, и мужскому — в активной (Точно так же в ритуалах, направленных на лишение мужчины или женщины способности к сексуальным отношениям, используют схему отрезания). Молодая жена должна оставаться без пояса в течение семи дней, и только на седьмой день женщина, имеющая много сыновей, завязывает ей пояс. Точно так же женщина, несущая зерно, не должна туго затягивать на себе пояс; она должна также носить длинное платье со шлейфом (abrua), которое приносит счастье. Волосы молодой должны быть распущены в течение семи дней, так же должна распустить волосы женщина, которая несёт зерно [45]. Кроме как на закрытие, запреты, действующие во время свадьбы или пахоты, распространяются на все действия по очищению и удалению: запрещается подметать, белить дом, бриться, стричься, подрезать ногти, вступать в контакт с любыми сухими или связанными с сухостью вещами, например, нельзя подводить глаза басмой, красить ладони хной, также нельзя употреблять в пищу специи. Акты оплодотворения, то есть воссоздания: свадьба и пахота, — практически трактуются [46] как мужские действия открытия и осеменения, призванные вызвать женское действие набухания. В ритуальном спектакле используется вся доступная двусмысленность предметов или практик: с одной стороны, применяется всё, что открывает (ключ, отверстие), и всё, что раскрыто (распущенные волосы и пояса, шлейф), всё сладкое, лёгкое и белое (сахар, мёд, финики, молоко), Ритуалы, сопровождающие первую пахоту или приход молодой жены в её новый дом, когда в первый раз вводят пару быков, дают наглядное представление о продуктах практического чувства, которые, будучи ориентированы на реализацию множества слабо разделённых функций, извлекают максимум возможного из полисемии действий и вещей, чтобы производить символические и функционально переопределённые действия, направленные на устойчивое достижение поставленной цели. Сито, которое преподносят невесте на пороге дома, напоминает сито, используемое при пахоте (Servier, 1962, 141): в него кладут зерна пшеницы, орехи, сушёный инжир, финики (символы мужской плодовитости), яйца, оладьи, гранаты. Но как мы видели в других случаях (например, в ритуалах введения в дом пары быков или ритуалах azal), практический смысл этих всегда доступных замене и двусмысленных предметов полностью раскрывается только через их использование — только тогда обнаруживается подобие ритуалов, пускай и различающихся внешне, но осуществляемых в соответствии с одними и теми же схемами и ориентированными на одни и те же функции. Так, невеста разбивает яйца о голову мула, вытирает руки о его круп, затем бросает назад содержимое сита, а дети, которые, толкаясь (множество означает изобилие), бегут вслед за ней, стараются поймать разбрасываемые продукты (Genevois, 1955,49). По другой версии, в сито кладутся ветви гранатового дерева, зеркало, яйца и зерно; невеста брызгает водой позади себя и разбивает яйцо о притолоку двери, в это время свекровь обмазывает яйцом стояк ткацкого станка (Yamina, 1953). Согласно другому информатору (Аит Хишем), мать мужа расстилает перед дверью циновку на alemsir, «воротах товаров» (очевидна аналогия с ритуалом «первого входа пары быков», обеспечивающим полноту), она выкладывает на неё зерно и бобы (ajedjig), приготавливает яйцо и горшок с водой; невеста делает то же самое (несколькими днями позже она выбросит ajedjig в фонтан). Сито, которое также называют «сито обычаев» (laawayed), кроме зерна, бобов и яиц может содержать блины, пищу, которая разбухла, как, например, ajedjig, и которая способствует разбуханию (Boulifa, 1913). В целом же молодую жену опрыскивает qibla или мать мужа, которая также, по крайней мере в одном случае (Сиди Аих), даёт невестке выпить воды (в других местах — молока) из своих ладоней, как делает отец в момент отъезда (но бывает также, что обрызгивает невестку свекровь); она же бросает назад содержимое сита (орехи, блины, крутые яйца), за исключением зерна и бобов (обещание мужской плодовитости), она по три раза берёт их в руки, целует и кладёт обратно в сито (эти зёрна останутся на циновке, на которой молодая будет сидеть три последующих дня, пока не зачнет). В целом проведённый анализ вариантов указывает на свободу, обеспеченную тем, что импровизация ведётся в соответствии с не сформулированными явным образом практическими схемами, а не с одной эксплицитной моделью: везде обнаруживаются одни и те же предметы и действия, общим является и глобальный смысл практики, но присутствуют всяческие субституты — как агенты (например, qibla, «свекровь», «невеста») и предметы, так и выполняемые ими действия (это и предопределяет поиск [этнографами] самого хорошего, наиболее полного варианта, чем руководствовался Точно так же в «пахотное сито» (agherbal elh’erth, откуда название ритуала thagerbalt), которое приносит жена пахаря, сопровождаемая детьми, символизирующими размножение, в разное время дня, в зависимости от регионов (утром, когда пахарь уходит из дома, или когда он, прийдя на поле, запрягает волов, или во время обеденного перерыва), всегда кладутся блины, сухие бобы, пшеничные зёрна, гранат. Согласно обычаю, пахарь останавливает работу, кормит скот, затем встаёт перед волами и разбрасывает сначала зерно, затем блины, которые дети стараются поймать на лету, на волов, на плуг и даже на землю, что является выражением щедрости, обеспечивающей изобилие, а также жертвоприношением. Наконец, отослав детей подальше, он бросает гранат, который должен поймать самый ловкий из них. Так дети бегают от поля к полю. Согласно другой записи этого ритуала (Henine, 1942), в сито кладётся, помимо всего прочего, ткацкий гребень. Произнеся несколько молитвенных слов, жена закапывает два свежих яйца в последнюю борозду, а муж вспахивает новую, затем останавливает и кормит волов: если волы не соприкасаются друг с другом, год будет хорошим. После того как жена закопала амулет на краю поля, участники едят содержимое сита. Из всех многочисленных вариантов укажем следующий: пахарь разрезает лемехом два граната, несколько лепёшек, оладьев, остальное раздаёт присутствующим; приношения закапываются в первую борозду. Можно было бы до бесконечности приводить примеры сходства двух ритуалов: молоком обрызгивают молодую (и сопровождающий её кортеж), которая в свою очередь сама окропляет водой или молоком свой новый дом. Точно так же хозяйка дома обрызгивает водой или молоком плуг перед тем, как его вывезут на поле, невесте дарят ключ, которым она ударяет по перемычке двери (в других случаях ключом проводят под одеждой невесты, когда её наряжают); в мешок с семенами кладётся ключ, который иногда бросают в борозду. Отрицание убийства и обещание воскрешения, которым заканчивается ритуал жатвы, выражается здесь в отрицании насилия, являющегося условием воскрешения зерна [47]. Заклание и последующее коллективное поедание быка может быть понято как подражательное представление цикла зерна, которое должно умереть, чтобы накормить группу — жертва тем более примечательная, что касается животного, наиболее близкого человеку, наиболее тесно связанного с его жизнью, его работой и особенно с его страхами перед неопределённостью космических ритмов от которых бык зависит и частью которых он является в той же мере, что и человек). В день зимнего солнцестояния, когда земля, которая покоится на рогах быка, переходит с одного рога на другой, делается большой шум, слышный только испуганным быкам, которые переставали бы принимать пищу и дохли бы, если бы вся семья не собиралась бы в хлеву, производя много шума и приговаривая: «Не бойтесь ничего, быки, это солнце садится». В день весеннего равноденствия, когда «солнце поворачивает», а дни становятся длиннее, чтобы быки не услышали, что их рабочее время должно удлиниться, в хлеву также устраивают шум (согласно некоторым информаторам, до восхода солнца в день «готовности» в конце еппауеr входят в хлев и кричат быкам на ухо: «Радуйтесь, быки, еппауеr кончился!»). Опровергнутое убийство, жертвоприношение почти человеческого существа, посредника и медиатора между природным и человеческим мирами, чьё тело трактуется как образ и субститут социального тела, пресуществляется в коллективной трапезе, которая практически реализует воскрешение из мёртвых благодаря тому, что она в полной мере является практическим воплощением аксиомы «жизнь за жизнь», которая [в своё время] приводила к допустимости принесения в жертву старика — самого близкого к предкам — в обмен на дождь и выживание группы. Этот смысл тем более выражен, что коллективная трапеза, объединяющая всю группу, заключает в себе и обращение к мёртвым. Статус постороннего (aghrib), который не может «вызвать» никакого предка и которого не «вызовет» (asker, «оживлять» и «называть») никакой потомок, напоминает о принадлежности к группе, утверждаемой посредством собрания и сотрапезничества, которая предполагает власть называть и вызывать предков и обеспечивает уверенность быть названным и вызванным потомками [48]. К воскрешению мёртвых через живых обращается любая символика и, в частности, кулинарная. Так, боб, ярко выраженное мужское и сухое зерно, в сочетании с костями, которые являются убежищем для души, ожидающей воскрешения, вместе с турецким горохом и пшеницей представляет собой ufthyen (или ilafthayen), зерна, которые размножаются, увеличиваются в объёме при варке [49] и которые едят во время первой пахоты (а также накануне еппауеr и, в частности, в Achura); боб входит также в состав abisar, блюда, предназначенного только мужчинам; он также относится к числу тех предметов, которые бросают в первую борозду. Почти прозрачный символ мёртвых (загадка о мёртвом: «я посадил боб в землю, а он не взошёл» (Genevois, 1963, 10), пищей которых он является («я видел, как мёртвые грызут бобы: я едва не умер»), боб предназначен нести в себе символ смерти и воскрешения, являясь высушенным зерном, которое, будучи помещено во влажное лоно природы в соответствии с ритуалами, разбухает, чтобы воскреснуть, размножиться, и оказывается первым проявлением растительной жизни весной. В случае тканья (см. 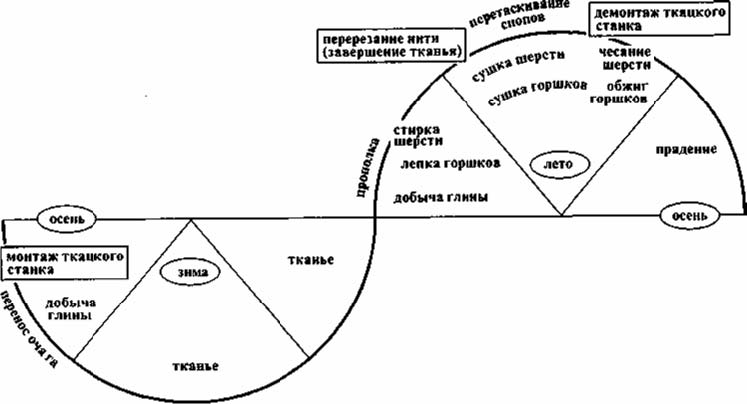 Помимо структурной гомологии, очень большое число признаков прямо указывает на соответствие сельскохозяйственного цикла циклу ткацких работ: наладка станка производится, пока на осеннем небе остаётся молодой месяц («созрели финики и ежевика, Решающий момент опасной операции объединения противоположностей и, в частности перекрещивание нитей — порождающее erruh’, «душу» (эвфемизм, обозначающий опасность), всегда поручается старухе, менее ценимой, но одновременно менее уязвимой (Chantreaux, ПО). Согласно одному информатору, вход в дом, где установлен ткацкий станок (то есть рождение нового человека), должен быть оплачен жизнью. Чтобы отвести эту угрозу, на пороге дома закалывают курицу, кровью обрызгивают один из стояков ткацкого станка, а саму курицу вечером съедают (можно также прополоскать в воде кусок шерстяной ткани, «которая не видела воды», и этой водой смочить станок). Точно так же, как хозяин поля собственными руками вяжет последний сноп, хозяйка дома иногда должна сама снимать ткань со станка, не пользуясь при этом железными предметами и предварительно смочив ткань водой, как поступают с умирающими, исполняя при этом песни времени жатвы (Basset, 1963, 70); в других местах эта опасная операция поручается старухе, которая, как говорят, «перерезает горло» нити с помощью ножа, предварительно смочив его и произнеся chahada (Basset, 1963, 70; Genevois, 1967, 71). Эти разные способы опровергнуть убийство и уклониться от закона взаимной мены жизней, закона «душу за душу», вынуждающего избегать отрезания ткани в присутствии мужчины, также направлены на воскрешение, как, например, ритуалы заклинания дождя периода жатвы, которые вызывают орошение, призывая с небес изобильный дождь на станок, который к тому моменту возвращается, как и скошенное поле, к состоянию бесплодной сухости. Льну и глине, натуральным продуктам, соответствует приблизительно один и тот же цикл. Изготовленные из земли гончарные изделия принадлежат жизни поля, а глину собирают осенью. Но с глиной никогда не работают ни осенью, ни зимой (когда удобренная земля полна), а только весной. Сырая глина (azegzaw) медленно сохнет в темноте (сухое— влажное), пока созревает зерно (сухой период — влажный период) (Servier, 1962, Перенос схем и гомологииНа примере тканья хорошо видно, что использование практически взаимозаменяемых схем лежит в основе выявляемых анализом гомологии между различными сферами практики. Так, например, чтобы понять в общих чертах чередование обычных или необычных блюд, которые в зависимости от назначения миметических ритуалов, посвящённых употреблению пищи [50], связаны с разными периодами сельскохозяйственного года (см. 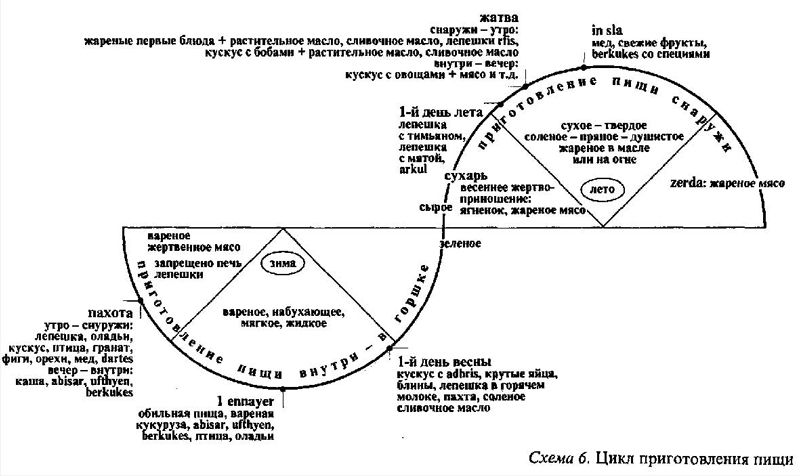 В целом зимняя еда носит более женский характер, а летняя — более мужской. Понятно, что женская пища во всякий период представляет собой влажный вариант соответствующей мужской еды: в основе сытной и питательной пищи мужчин лежит лепёшка (aghrum) и кускус; гостю (конечно, мужского пола), которого хотят уважить, непременно подадут кускус (abulbul) с ячменем и, если возможно, с мясом, но никогда — суп или кашу. Женская еда жиже, менее питательна, приправлена меньшим количеством специй, готовится на отварах, бульонах и соусах; кускус женщин делается из ячменя или даже из отрубей или муки (abulbul) [52]. Конечно, не все так просто: лепёшки из манной крупы, будучи сварены на воде, могут считаться женской едой, но являются также самой мужской из всей женской еды, иногда употребляемой мужчинами, поскольку к ним может прилагаться мясо, и наоборот, berkukes, мужская еда, может употребляться и женщинами, поскольку она варится в воде, в отличие от кускуса, который только смачивается. Не увлекаясь подробным описанием, которое так же бесконечно, как бесконечны варианты праздничных блюд, характерных для того или иного времени года, можно вкратце напомнить наиболее устойчивые черты, помня о том, что блюда отличаются не столько ингредиентами, из которых они состоят, сколько различной обработкой, которой подвергаются те или иные ингредиенты, — что, собственно, и составляет значение кухни. Так, некоторые полисемичные продукты можно встретить в различные моменты года 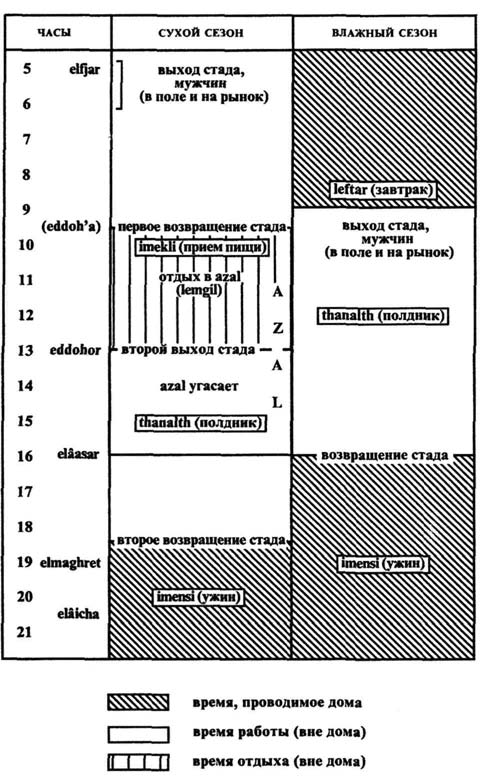 Начиная с первого дня весны, в то же самое время когда женщины начинают красить хной ладони, помимо традиционной сытной пищи — кускуса, сваренного на пару с adbris, яиц, сваренных вкрутую, которыми следует наедаться досыта, и так далее — появляются пшеничные хлопья, которые на улице едят дети, сырые и зелёные продукты (бобы и другие овощи), а также молоко (которое пьют в горячем или топлёном виде). Возвращение azal сопровождается сухой и мужской летней пищей: thasabwath, сухие блины, измельчённые и смоченные горячим молоком, thiklilth, сыр, который делают из кислого молока и который едят только в этот день (согласно Хасслеру), манная каша со сливочным маслом. Характерным для праздничной еды сухого сезона является сочетание лепёшки с жареным мясом, к которому может подаваться кускус (в зависимости от того, едят ли дома или в поле), обычная же пища состоит из лепёшки, пропитанной растительным маслом (сухая и мужская еда, которая противопоставляется сливочному маслу, влажному и женскому) и сушёные фиги, а также — если едят дома — жареные овощи. Структура дня (которая самым естественным образом сообразуется с пятью мусульманскими молитвами) представляет собой другой, с лёгкостью считываемый продукт применения тех же принципов. Во влажный сезон день сохраняет ночные свойства даже в своей светлой части. По причине того, что в это время стадо выходит и возвращается лишь один раз, такой день предстаёт как незавершённая форма дня сухого сезона (см. Точно так же, как год движется от осени к лету, направляясь с запада на восток, день (as) движется от вечера к полудню: вечерняя трапеза (imensi) — это первый и основной приём пищи за день. Хотя система организована в соответствии с замкнутым циклом вечного возврата, где вечер и осень, старость и смерть являются также местом зачатия и посевов, время ориентировано на кульминационную точку, которую представляет собой полдень, лето или зрелый возраст (см. 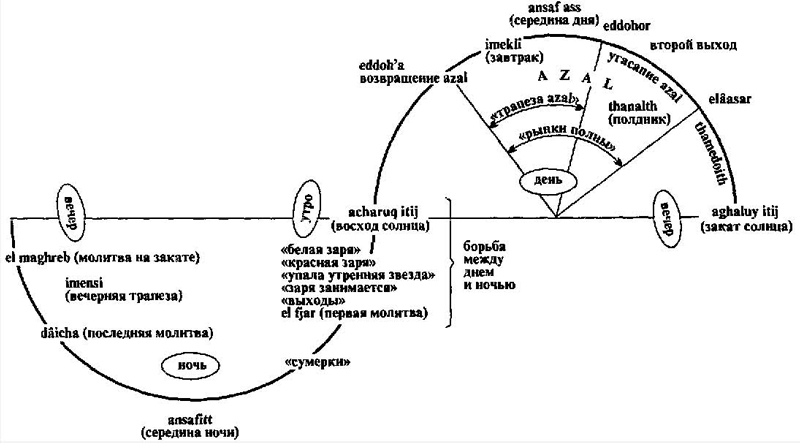 Утро представляет собой момент перехода и разрыва, порог. В часы, предшествующие восходу солнца, когда день вступает в борьбу с ночью и побеждает её, совершаются ритуалы изгнания (asfel) и очищения (например, утром, под отдельно растущим ежевичным кустом младенца, на которого наслана порча или сглаз, aqlab, посыпают манной крупой, поставленной накануне у его изголовья; точно так же, в соответствии с некоторыми ритуалами изгнания, с вечера следует отправиться на место разрыва, как, например, граница между полями, а рано утром покинуть его, оставляя на этом месте зло). Речь идёт о том, чтобы, как Следует подробнее остановиться на этой логике, которая остаётся непонятной до конца, поскольку она слишком хорошо понятна наполовину, на основании квазимагического опыта мира, который, например, в виде эмоций, навязывается даже тем, кого материальные условия существования и институциональная среда, способные этот опыт свести на нет, наилучшим образом защищают от этой «регрессии». Когда мир воспринимается как некая система фатума, где за причину принимается исходная точка, происходящее или совершаемое в настоящем мира отсылает к тому, что должно в нём произойти. Такое будущее, которое уже вписано в настоящее в форме предзнаменований, следует расшифровывать не для того, чтобы подчиниться этому как неизбежности, но чтобы уметь при необходимости его изменить. Это противоречие только видимое, поскольку именно из предположения о фатализме системы пытаются переделать предсказанное настоящим будущее, заново переделывая настоящее. Против магии борются с помощью магии, против магической действенности настоящего-предзнаменования борются с помощью поведения, направленного на изменение исходной точки во имя веры (дающей силу этому предзнаменованию) в то, что причиной в системе является её начало. К знакам (esbuh’, «первая встреча с утром»), указывающим на действие злых сил, Azal и, в частности, середина azal (thalmas’th uzal) — момент нахождения солнца в зените, когда «azal становится самым жарким», разгар дня — противостоит ночи так же, как и утру, началу дня, ночной части дня. По подобию самого жаркого дня, самого сухого, самого светоносного в году, azal — это день дня, сухое сухого, обладающее достигшими полного расцвета свойствами сухого сезона. Это исключительно мужское время, момент, когда базары, дороги и поля полны людей (мужчин), когда все мужчины находятся вне дома и заняты своими мужскими делами. (В обряде, помогающем девушке выйти замуж, колдунья зажигает лампу, mes’bah’, символ суженого, в час azal.) Сон во время azal (lamqil) является идеальной границей мужского отдыха, подобно тому как поля являются привычными местами сна, как, например, гумно, самое сухое и самое мужское из всех близких к дому мест, где часто спят мужчины. Понятно, что azal, который сам по себе является частью сухого и бесплодного, тесно связан с пустотой (lakhld) скошенных полей. Eddohor, вторая молитва, более или менее совпадает с концом отдыха azal: это начало «заката azal», конец большой жары (azghal), момент второго выхода стада на пастбище и второго за день выхода на работы. С третьей молитвой, elaasar, совпадает конец azal и начало thameddith (или thadugwath): это время, «когда пустеют базары» и вступают в силу вечерние запреты. Закат солнца, которое «склоняется к западу», выступает своего рода парадигмой всех форм заката и, в частности, старости и всех видов политического упадка («его солнце закатилось») или физического упадка: идти на запад, к закату (ghereb, в противоположность cherraq, «идти на восток»), означает направляться к темноте, ночи, смерти, подобно тому как дом, у которого дверь смотрит запад, может пустить внутрь только потёмки. Можно было бы, продолжив анализ различных полей, где находит приложение система порождающих схем, выстроить также сводную схему жизненного цикла, какой она предстаёт, будучи структурирована ритуалами перехода: являясь продуктом той же системы схем, всё человеческое существование организуется гомологично системе схем сельскохозяйственного года и других больших временных «радов». В результате зачатие (akhlaq, «создание») самым очевидным образом ассоциируется с вечером, осенью и ночной, влажной частью дома. Точно так же беременность соответствует подземной жизни зерна, то есть «ночам» (eliali): табу беременности, табу плодородия — это табу вечера и траура (нельзя смотреться в зеркало с наступлением ночи и так далее); беременная женщина, похожая на набухшую по весне землю, составляет часть мира мёртвых (juf, что означает «живот беременной женщины», означает также «север», что равнозначно «ночи» и «зиме»). Беременность, как и прорастание, тождественна процессу тушения в кастрюле: роженице подаётся горячая пища, относящаяся к зиме, мёртвым, а также к пахоте, в частности abisar (пища мёртвых и похоронных церемоний), которую, кроме как по этому случаю, женщины никогда не едят. А в период послеродового выздоровления, на сороковой день, подают жирный кускус, сваренный на воде (abazin), символ плодородия, приумножения, который едят Многие ритуалы перехода совершенно очевидно ассоциируются с соответствующим моментом года: например, для обрезания подходит начало осени, но не зимы, a elaazla gennayer, момент разделения, является благоприятным моментом для первой стрижки волос, одним из важных моментов перехода в мужской мир; осень и весна (после elaazla) подходят для свадьбы, которая категорически запрещается в последний день года, в h’usum и nisan, a также в мае или июне. Ритуалы весны ( Жатва, несмотря на то, что она описывается как преждевременное разрушение (anaadam), не является смертью, после которой не остаётся наследников (maadum, «холостяк, который умер, не оставив наследников») — предполагается, что магия, которая позволяет непротиворечивым образом аккумулировать выгоды от противоречивых действий, произведёт воскрешение в самом новом акте оплодотворения и его посредством. Точно так же старость, ориентированная на запад, заход солнца, тьму и смерть, в этом исключительно роковом направлении, одновременно повёрнута к востоку, к оплодотворению в новом рождении. Цикл завершается смертью — то есть на западе — только для чужого (aghrib): в универсуме, где социальное существование предполагает, что связь с предками будет осуществляться через потомков и что человек будет помянут и «вызван» его потомками, смерть чужого, человека запада (el gharb) и изгнания (el ghorba), лишённого наследников (anger), есть единственная форма абсолютной смерти. 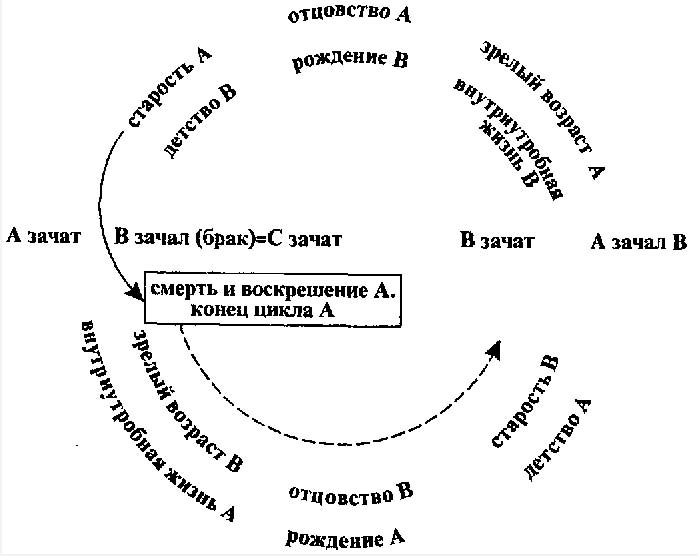 В таком цикле разные поколения занимают различные позиции: диаметрально противоположные — поколения, следующие одно за другим, отцы и сыновья (поскольку первые зачинают вторых и вступают в старость, когда те ещё пребывают в детстве), одинаковые же позиции занимают поколения, следующие через одно — деды и внуки (см. Таким образом, практическая логика обязана своей эффективностью тому, что всякий раз, через отбор основополагающих схем, которые она претворяет в жизнь, и умелого использования полисемии символов, которыми она оперирует, она подстраивается к частной логике любой области практики. Подобно тому как одно то же слово, приобретая различный смысл в различных областях его употребления, всегда остаётся в рамках «семейства значений», основополагающие структуры реализуются в значениях, которые очень разнятся в зависимости от поля, однако, несмотря на это, у них всегда есть Только когда перенос схем, осуществляемый по эту сторону дискурса, становится метафорой или аналогией, можно вслед за Платоном задаться вопросом: «Земля ли подражает женщине, когда она становится беременной и являет миру живое существо, или женщина подражает земле?» (Менексен, 238а). Медленной эволюции, которая ведёт от религии к философии, как говорили Корнфорд и Кембриджская школа, то есть от аналогии как практической схемы ритуального действия к аналогии как объекту рефлексии и рационального метода мышления, сопутствует изменение функции. Ритуал и особенно миф, которые «воздействовали» на способ верования и выполняли практическую функцию коллективных инструментов символического воздействия на природный и социальный мир, постепенно сводятся к единственной функции, которую они обретают в конкурентных отношениях между книжниками [lettres], исследующими и толкующими букву в связи с исследованиями и толкованиями прежних или нынешних толкователей. Лишь тогда они в явном виде становятся тем, чем они всегда были, но только в скрытом или практическом состоянии, а именно системой решений космогонических или антропологических проблем, которые, как верит книжная рефлексия, она открывает и существование которых она действительно обеспечивает благодаря ошибке прочтения, заложенной во всяком прочтении, не знающем истины о самом себе. Именно так антропология, не сумев осмыслить всего, что определяет её как учёное прочтение практик, Умелое использование неопределённостиВ практической логике нет ничего от логического расчёта, который сам в себе содержит конечную цель. Практическая логика действует в режиме неотложности, отвечая на вопросы жизни или смерти. Это означает, что она непрерывно жертвует заботой о согласованности в пользу поиска эффективности, извлекая из двойных соглашений и двойных свершений всё, что возможно извлечь благодаря неопределённости практик и символов. Так, обряд искупления, с помощью которого ритуальное действие стремится создать условия, благоприятные для воскрешения зерна, символически их воспроизводя в совокупности миметических актов, к коим следует причислять и брак, представляет собой определённое число двусмысленностей, что особенно полно проявляется в ритуале последнего снопа. Словно колеблясь между циклом смерти и воскрешением зерна и циклом смерти и воскрешением поля, последний сноп практически трактуется — в зависимости от местности — или как женская персонификация поля («сила земли», «невеста»), на которое насылают мужской дождь, иногда выступающий под именем Anzar [56], или как мужской (фаллический) символ «духа зерна», временно находящегося в сухом и стерильном состоянии, прежде чем откроется новый жизненный цикл, изливаясь дождём на пересохшую землю. Те же двусмысленности обнаруживаются в ритуале пахоты, несмотря на то, что составляющие его действия, направленные на возвращение мира к его влажному состоянию, Приведём перечень разрозненных обозначений, которые подтверждают вышесказанное:
Всё указывает на то, что практика колеблется между двумя видами использования [предметов]: предмет может трактоваться как нечто, требующее орошения, как женщина или земля, которые взывают к мужскому дождю, или как то, что само орошает, например небесный дождь. Действительно, для практики различение, о которое спотыкаются даже лучшие из интерпретаторов, не имеет значения: оросители или орошаемые, орошаемые оросители, старики и старухи, которые исполняют ритуалы заклинания дождя, предметы, которые они носят, а также сами оросители и орошаемые имитируют ожидаемый эффект, обозначая дождь, который орошает сам и одновременно орошается, в зависимости от того, на какую точку зрения — мужскую или женскую — встать, поскольку и то и другое по определению допустимо, когда речь идёт о том, чтобы достичь объединения противоположностей. Ритуальная практика, направленная на символическую реализацию коллективного желания и, таким образом, на участие в его практическом удовлетворении, вдохновляется совпадениями, которые, как в данном случае, позволяют иметь все сразу, и ей совершенно незачем подвергать анализу двойственную реальность, которая её вдвойне устраивает. Особенно в таких ситуациях, как засуха, когда важность ставки — урожая целого года — заставляет ещё более занижать уровень логических требований, чтобы «пустить в ход все средства». Смысл символа полностью определяется лишь в действиях и через действия, в которые он привносится, а логика ритуала, кроме той свободы, которой она пользуется для максимизации магической прибыли, часто бывает по своей сущности двойственна, поскольку она может использовать предмет либо для того, чтобы произвести характеризующее его свойство (например, сухое), либо для того, чтобы это свойство нейтрализовать (например, устранить сухое), наподобие серпа, который может быть применён как для того, чтобы иссушить молоко у коровы, так и для того, чтобы вернуть его ей. Поэтому неопределённость интерпретации лишь отражает неопределённость того практического использования, которое доступно самим агентам в отношении настолько переопределённого символа, что он становится неопределённым даже с позиций тех схем, которые его определяют [57]. Ошибкой было бы в данном случае пытаться решить нерешаемое. Другой фактор неопределённости заключён в самом основании практического знания: поскольку, подобно всякому знанию, оно опирается, как мы видели, на основополагающую операцию разделения, и поскольку тот же принцип разделения может быть приложим не только к системе в целом (которая может быть непрерывным распределением), но Среди предметов, свойства которых противоречат классифицирующей системе, наиболее характерными являются, безусловно, тлеющие угли (tintes, слово-табу, в присутствии мужчин заменяемое эвфемизмом): женский огонь, который горит и тлеет под золой, как страсть (thinefsith, уменьшительное от nefs), потайной огонь, коварный, как неутоленная месть («такое не прощается»), тлеющие угли напоминают женский пол (в отличие от пламени, ah’ajaju, которое очищает, сжигает, как солнце, красный огонь, порох) [58]. Можно было бы также привести в пример лунный свет (tiniri), ночной свет, символ неожиданной надежды, или серп, который, будучи предметом, сотворённым с помощью огня, а также орудием насилия, убийства, носит ярко выраженный мужской характер, но который одновременно, будучи изогнутым, кривым, хитрым, указывает на раздор и ссору («они как серпы» означает, что они не ладят между собой, что выражается также жестом в виде двух растопыренных пальцев обеих рук) и является частью женского. Даже такой чётко определяемый предмет, как яйцо, этот идеальный символ женской плодовитости, не лишён двусмысленности, как свидетельствуют некоторые из его употреблений, по той причине, что оно является частью мужского благодаря своему цвету (белому), а также наименованию (thamellalts, «яйцо»; imellalen, «белый», «тестикулы взрослого мужчины»; thimellalin, «белки», «яйца», «тестикулы мальчика»). Представляется, что все факторы неопределённости сошлись воедино в таком техническом объекте, как ткацкий станок, который, ещё более чем thislith, созданная для специфических нужд ритуала, может быть использован различными способами, что придаёт ему различные и даже противоположные значения в зависимости от того, рассматривается ли этот станок в целом или по частям, каждой из которых также могут быть приданы различные (в известных пределах) значения, соответствующие практическому (синтагматическому) контексту, в который она включена, наконец, в зависимости от того, подчёркивается ли форма станка или его назначение и тому подобное. Так, если сконцентрировать внимание на внешнем виде станка, то с учётом его вертикальности, жёсткости, устойчивости можно превратить его в символ прямоты (Lefebure, 1978). Сделать это тем более просто, что благодаря тому месту, которое он занимает в доме, а именно у восточной стены (внутренней), «стены света», «стены ангелов», расположенной напротив входа, к которой прислоняются входящие гости (в некоторых случаях сам станок воспринимается как радушно встречаемый гость), станок напоминает осанку почтенного, «прямого» человека, который сам открыто встречает других и которого другие встречают открыто. Благодаря этим качествам, а также тому, что станок производит полотно, прикрывающее наготу и прячущее интимные места (жена, которая ткёт, прикрывает своего мужа, «в отличие от Хама, который обнажил своего отца»), он напоминает «крепость ангелов», то есть пристанище, приют, магическую защиту, его упоминают как гарантию данных обещаний («клянусь полотном, сотканным на станке…», «нитью о семи душах» и так далее (Genevois, 1967, 25), к нему обращаются («именем ткацкого станка…»), убеждая кого-либо не таиться. Но, само собой разумеется, наиболее важные из определений станка вытекают из его функций и особенно из гомологии между пахотой и тканьем, между ткаческим циклом или циклом станка и циклом зерна или поля. Все символические функции ткацкого станка отмечены двойственностью, вытекающей из того, что как практическое определение сельскохозяйственного цикла колеблется между циклом поля и циклом зерна: некоторые практики предполагают, что ткацкий станок — это человек, который рождается, растёт и умирает, другие — поле, которое засевают, а потом опустошают — ткаческий цикл отождествляется с циклом зерна или человеческой жизни (о шерсти также говорят, что она «созрела»). Можно сосредоточиться также на самом ткацком станке, а точнее, на его налаживании и на начале тканья, то есть на опасном действии, состоящем в переплетении, завязывании, соединении противоположностей, наподобие пахоты, закалки железа или свадьбы. Можно обратиться к результату этого действия — к Опасные свойства ткацкого станка, который совмещает в себе два вида мужского насилия — сочленение и расчленение, — ещё более усугубляются свойствами, приписываемыми некоторым его частям, как, например, ремизной нити (Uni), этой двусмысленной вещи, которая, указывая на расчленение и на узел, используется в ритуалах наслания порчи точно так же, как На этом и остановимся, хотя на примере этого предмета, чрезвычайно нагруженного и перегруженного смыслом Действительно, практическая логика может функционировать, лишь совершенно свободно обращаясь с самыми элементарными принципами логической логики. Практическое чувство, как практическое овладение смыслом практик и предметов, позволяет аккумулировать всё, что обеспечивает нужное направление, что хорошо согласуется и вполне стыкуется — хотя бы на самом общем уровне — с преследуемыми целями. Нельзя иначе объяснить присутствие идентичных предметов и символических действий в ритуалах, связанных с такими различными событиями в жизни человека или поля, как похороны, пахота, жатва, обрезание или свадьба. Частичному совпадению значений, которые практические таксономии сообщают этим событиям, соответствует частичное совпадение ритуальных действий и символов, полисемия которых идеально отвечает многофункциональным по своей сути практикам. Так, не овладев символически понятиями разбухания (длительного) и воскрешения, блюдо, называемое ufthyen, смесь пшена и бобов, набухающих в процессе варки, тем не менее можно связать с церемониями бракосочетания, с пахотой или похоронами благодаря тому, что они отчасти подчиняются функции «воскрешения». И наоборот, можно исключить это блюдо из [ряда] событий вроде роста зубов (в пользу thibuajajin, особого вида блинов, которые в процессе выпечки покрываются быстро лопающимися пузырями) или обрезания, этого ритуала очищения и возмужания (то есть разрыва с женским миром), который находится в регистре сухого, огня, насилия и который сопровождается блюдами из жареного мяса. При этом не исключено, что в случае такой многофункциональной церемонии, как бракосочетание, где объединяются «интенции» возмужания (открыть) и оплодотворения (набухать), блюдо ufthyen может связываться со стрельбой в цель. Свобода и принуждения, присущие ритуальной логике и дающие совершенное владение этой логикой, приводят к тому, что один и тот же символ может отсылать к взаимоисключающим реальностям с точки зрения самой аксиоматики системы. Следовательно, строгая алгебра ритуальных логик может быть когда-нибудь создана лишь при понимании того, что логическая логика, которая всегда негативно говорит о ритуальных логиках самой операцией их отрицания, посредством которой она учреждается, не может описывать эти ритуальные логики, не подвергая их разрушению. Нужно восстановить расплывчатую, гибкую и частичную логику этой частично интегрированной системы порождающих схем, которая, будучи частично использована в каждой конкретной ситуации, производит — всякий раз вне логического дискурса и контроля, которые она делает возможными — практическое «определение» ситуации и функций действия, почти всегда множественных и налагающихся друг на друга. Такая система, построенная на простом и одновременно неисчерпаемом комбинировании, порождает действия, способные наилучшим образом обеспечить эти функции, которые при этом остаются в границах доступных средств. Достаточно сравнить схемы, соответствующие различным областям практики, такие как сельскохозяйственный год, приготовление пищи, женские работы, ритм дня, чтобы увидеть, что основополагающая дихотомия в каждом отдельном случае определяется различными схемами, которые являются формой, действенной в определённом пространстве: оппозиция между влажным и сухим, холодным и горячим, полным и пустым — для сельскохозяйственного года; между влажным и сухим, варёным и жареным, пресным и острым (как двумя вариантами варёного) — для приготовления пищи; между тёмным и светлым, холодным и жарким, внутренним (или закрытым) и внешним — для суток; между мужским и женским, мягким (зелёным) и твёрдым (сухим) — для цикла жизни. Достаточно добавить сюда другие структурированные универсумы, такие как пространство дома или части тела, чтобы увидеть действие других оснований: верх и низ, запад и восток, правый и левый и так далее. Эти различные схемы являются частично независимыми и одновременно частично взаимозаменяемыми, то есть более или менее взаимосвязанными. Например, от оппозиции переднее/заднее можно очень естественно перейти к оппозиции мужское/женское — не только через реальное разделение задач, в соответствии с которым женщине предназначено собирать то, что мужчина срезал или уронил, или через правило, которое требует от женщины, чтобы она следовала за своим мужем на расстоянии нескольких шагов. Мужчина отличается от женщины именно своей передней частью: в настенных росписях женщина изображается двумя ромбами, соответствующими анусу и матке, мужчина — одним ромбом (Devulder, 1957); мужчина — это тот, кто идёт грудью вперёд, кто всё встречает с открытым лицом (и здесь объединяются все коннотации, которые содержатся в слове «qabel»). Точно так же на основании относительно второстепенной оппозиции, такой как оппозиция между правым и левым, правой рукой и левой, прямым и кривым (или искривлённым), можно было бы установить всю совокупность связей, конституирующих систему. Плохо одетый, неловкий, левша (что близко к косолапому Иначе говоря, все образующие систему оппозиции связаны со всеми другими, но посредством более или менее длинных цепочек (которые могут быть или не быть обратимыми), то есть вплоть до конца ряда соответствий, которые постепенно освобождают отношение от его содержания. Более того, всякая оппозиция через отдельные соотнесения может быть связана со многими другими, различными по интенсивности и смыслу отношениями (например, оппозиция острое/пресное может быть непосредственно связана с оппозицией мужское/женское и горячее/холодное и, более косвенно — с оппозициями сильное/слабое или пустое/полное, в последнем случае — через мужское/женское и сухое/влажное, которые, в свою очередь, связаны между собой). Из этого следует, что разные оппозиции в сети связей, которые их объединяют, имеют разный вес и что можно выделить второстепенные оппозиции, которые в Вот почему, рискуя быть иногда понятым как возврат к интуитивизму (который в лучшем случае имитирует практическое овладение системой схем, которым не овладел теоретически), описание через конструирование, позволяющее овладеть порождающей формулой практик, должно оставаться в границах, которыми практическая логика обязана тому факту, что её основанием является не эта формула, а то, что служит её практическим эквивалентом, то есть система схем, способных направлять практики, осознаваемая не всегда и не полностью [60]. Теоретическая модель, которая позволяет воссоздать весь универсум зафиксированных практик, рассматриваемых с точки зрения того только, что в них может быть социологически определённого, отделена от того, чем владеют в практическом состоянии агенты. Именно благодаря этой дистанции, бесконечно малой и одновременно бесконечно большой, простота и сила такой модели даёт верную идею, которая определяет осмысление или — что в конечном счёте одно и то же — выявление того, что было неявным [l’explication]. | ||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
Оглавление | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||