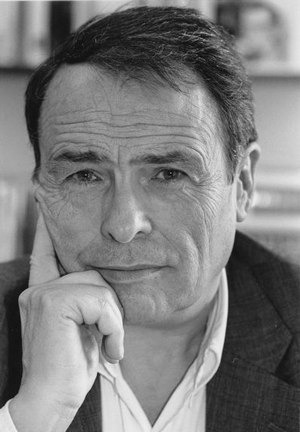 Настоящая работа французского Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
Предисловие редактора русского изданияНа пути к практической теории практикиВпервые русскому читателю, изучающему социологию, антропологию и социальную философию, предоставляется возможность ознакомиться с одним из основополагающих сочинений живого классика социологии, французского исследователя Пьера Бурдьё. До сих пор изданные в России переводы Бурдьё представляли собой сборники статей либо отдельные статьи, опубликованные, главным образом, в альманахе Российско-Французского центра социологии и философии «Socio-Logos» «Практический смысл» не случайно был выбран для перевода и освоения русскими читателями. Он состоялся как классический труд социологии XX века потому, что Пьер Бурдьё с универсализмом, характерным для истинного исследователя, дерзнул синтезировать разнородное. Автор использовал палитру несопоставимых на первый взгляд средств: антропологию Леви-Строса и социологию Дюркгейма и Вебера, метафизику Лейбница и диалектику Гегеля и Маркса, афоризмы Паскаля и логические исследования Витгенштейна, феноменологию Гуссерля и лингвистику де Соссюра. Он писал так, как будто до него настоящей рефлективной социологии вообще не было и как будто её главное открытие совершалось прямо в присутствии читателя. Не будем отрицать, что текст местами получился непростым для восприятия, требующим мобилизации интеллектуальных сил читателя. Пьер Бурдьё не побоялся взять себе за правило не заигрывать с читателем и «писать непопулярно». Он не ищет читательской любви, а безбоязненно погружает читателя в методологические глубины своих исследований. Фактически читатель становится соучастником работы автора, преодолевая вместе с ним все препятствия и трудности, свойственные тем или иным этапам социологического исследования. Трудности в передаче всей полноты парадоксальной мысли Пьера Бурдьё начинаются уже с перевода названия книги. В нём автор сконцентрировал всю сущность своего подхода к практике, пытаясь отмежеваться одновременно от экономизма, логицизма и психологизма и показать ту нерасчётливую рациональность, что ей свойственна. В самом деле: «sens «pratique» — что это? «Л огика практики» воздавала бы дань объективизму, структурализму и пассивной роли агента, производящего практики. Если же это перевести как «Практическое чувство», то тем самым обозначился бы, с одной стороны, частичный возврат к «Философии духа» Д. Юм одним из первых указал, что привычка (habit) способна обосновывать мышление и поступки людей [1]. А в «Философии духа» Гегеля термин «практическое чувство» раскрывает диалектику объективно и субъективно обусловленного в жизни человека: «Практическое чувство содержит в себе долженствование, своё самоопределение как в себе сущее, отнесённое к сущей единичности, которая имеет значение лишь в своей соразмерности с упомянутым самоопределением. Практическое чувство, с одной стороны, знает себя, правда, как объективно значимое самоопределение, как нечто в-себе-и-для-себя-определённое, но Пьер Бурдьё настаивает на том, что для социальных наук в целом настало время преодолеть фиктивную альтернативу субъективизм — объективизм. Здесь имеется в виду оппозиция между твердолобым субъективизмом, упорно ищущим место, где возникают «акты чистого творчества» индивидов, несводимые к их структурной детерминации (то есть сознание), и противостоящим ему «объективизмом» («структурализмом»), полагающим, что структуры возникают сами собой, посредством «некоего рода теоретического партеногенеза». Отдавая должное структурализму, но не идентифицируя себя с ним, Пьер Бурдьё считает высшим его достижением «реляционный способ мышления», изображающий социальный мир как совокупность отношений, а не как «позитивную субстанцию», представимую как система «вещей». С другой стороны, его исследовательская установка позволяет избежать субъективизма, благодаря введению концепции габитуса, который есть «продукт интериоризации объективных предпосылок» и только при таком условии может существовать и осуществляться на практике. Автор стремится десубстантивировать представление о социальном мире и переносит взгляд наблюдателя «с неделимого атома индивидуального сознания» на организованные системы, целостность которых (чисто идеальная) держится на их различиях. В «Практическом смысле» он, используя данные антропологических исследований, анализ структур родства и ритуальных практик, а также аппарат статистики, критически переосмыслил современные ему воззрения известных антропологов и лингвистов: Э. Бенвениста, М. Мосса, К. Леви-Строса, Ф. де Соссюра, Дж. Дж. Фрэзера, Н. Хомски и других. Пьер Бурдьё построил собственную систему анализа родственных и матримониальных обменов, представив их как основанные на практическом смысле и чувстве игры, а не на правилах и моделях, которые нашли в них структурные антропологи. Не ставя перед собой задачи дать в кратком послесловии целостный анализ книги «Практический смысл» и, тем более, общую характеристику творчества Пьера Бурдьё, хотелось бы подробнее остановиться лишь на самых важных проблемах, которые могут послужить ключом к прочтению не только представляемой книги, но и других трудов этого автора. Итак, обратимся к рассмотрению основной триады: практика — сознание — габитус. ПрактикаЕсли попытаться кратко выразить основную тему «Практического смысла», то придётся констатировать, что книга посвящена «практике». Практика всегда единична и экстериорна. С практикой агент либо сталкивается — и тогда это практика другого, либо овнешняет её — и тогда это собственная практика агента. Понятие «практика» — общее и как бы само собой понятное, но оно уже требует объяснения. С помощью практик ничего нельзя понять, если только вы не производите их сами. Однако если агенты непрерывно производят практики, то возникает вопрос, что же это даёт социологическому анализу, в том числе как социологическое понятие. Практика — это всё то, что социальный агент делает сам В 1960–1970-е годы, до пионерской работы Пьера Бурдьё «Эскиз теории практики» (1972 год), социологи недостаточно занимались практикой как социологическим конструктом, «располагающимся» — в отличие от понятия «действия» — между Сциллой объективизма (в облике структурного функционализма и системного подхода) и Харибдой субъективизма (в виде феноменологии и этнометодологии). Социологи предпочитали рассматривать практику либо как «фактически данное», либо как нечто, выводимое из «природы социальной действительности». Но «практика» не дана социологу a priori, a должна быть ещё определена как предмет социологического исследования. Вместе в тем её нельзя сконструировать «из ничего», она не только определяется исследователем, но и самоопределяется. Субъективное в социологии — практика — оказывается и объективным, автономным и необходимым. То, что практика производится агентом в рамках объективных и субъективных структур, означает, что она всегда Не бывает простых или элементарных практик. В практике всегда есть составляющие её моменты, то есть переходящие друг в друга компоненты; это множество элементов, но не всегда они могут быть концептуализированы исследователем. В одной практике могут наличествовать моменты других, тех, что были произведены в иных условиях и так далее. Здесь напрашивается вывод, что несмотря на единичность практики, её сингулярность в пространстве и времени, у неё может быть более или менее долгая история, указывающая на отношения с социальными структурами, понимаемыми как её необходимые условия и предпосылки. Собственно это и пытается показать Пьер Бурдьё своим въедливым и тщательным анализом ритуальных практик на примере кабильского общества. Вместе с тем практика характеризуется всеми отношениями с другими практиками, тем, что можно назвать «историческим становлением». У каждой эмпирической практики «неидеальные» формы, задаваемые её моментами, поэтому сущность её кроется в различении. Любая практика есть различие: когда агент Сознание«Сознание» не есть «практика». Практика сталкивается с сознанием, но остаётся внешней ему, а сознание Гетерогенно ансамблю практик, однако необходимо как выражение «предельного случая». В роли экстремально «внутренней» и «идеальной» сознание демонстрирует некоторые сущностные характеристики «внешней» социальной практики. Однако, будучи как бы внутренней составной частью совокупности практик, сознание отрицает его универсальный принцип — пространственно-временную локализацию в социальном мире, сингулярность, не говоря уже о многом другом. Парадоксально, но обнаруживаемый разрыв между «внешней» практикой и «внутренним» сознанием есть конститутивный элемент совокупности социальных практик, фиксируемых социологией. Чтобы понять Что же такое сознание? Сознание не есть предмет социального мира наряду с другими. Оно не устанавливает связи между агентом и предметом социального мира, поскольку эти связи суть практики агента. Нельзя утверждать, что сначала у агента сознание отсутствует, а затем наступает В большинстве бытующих до сих пор концепций речь идёт о том, чтобы произвести сознание при помощи рефлексии, сделать рефлексию гарантом и необходимым условием существования сознания. В подобных подходах сознание представляет собой некую производную от рефлексии. Между тем рефлексия есть не что иное, как обращение сознания на себя самоё. Подчеркнём особо, что в момент, когда агент пытается «отрефлектировать себя», «осознать себя» и так далее, он не идёт к «себе», а исходит из себя. Следуя Э. Гуссерлю, будем различать акт мышления, в котором мыслится предмет, и предмет, мыслимый в мышлении. Когда мышление агента направлено на мыслимый предмет социального мира, то агент мыслит при этом не себя, но этот предмет социального мира, мыслимый в мышлении. Можно сказать, что предмет социального мира, мыслимый в акте мышления, и есть содержание сознания агента. После этого мыслительный акт агента может обратиться с предмета социального мира, который в нём мыслился, на того, кто собственно осуществлял акт мышления, то есть на самого мыслящего агента. Дальнейший анализ подталкивает нас к выводу, что «Я» агента, его сознание — такой же мыслимый в акте мышления предмет, как и все другие, как внешние сознанию предметы социального мира. Но этого не может быть «по определению», поскольку сознание не является предметом социального мира, существующим в пространстве-времени наряду с другими внешними сознанию предметами. Получается, что описание сознания через рефлексию содержит логический круг. А это значит, что его нельзя применять в научной практике. Ни один исследователь не сможет приложить его к социологическому исследованию: если допускается существование сознания, В самом деле, каким образом социальный агент может узнать, что мыслимый им в акте мышления предмет и есть сам осуществляющий акт мышления агент? Ведь агент в акте мышления обнаруживает лишь предмет, о котором ему известно исключительно то, что о нём до рефлексии не было ничего известно. Это только мыслимый в мышлении предмет, который никоим образом не может дать знать агенту, что этот предмет — сам осуществляющий акт мышления агент! Чтобы разрешить это противоречие, можно постулировать «непредметное сознание», или «нететическое самосознание», или дорефлективное cogito — «Я» или «самость» социального агента как некую изначальную для него действительность [1]. «… Я — то Я, которое мы все знаем, которое подразумевает обыкновенный язык… — не создаёт ни внешнего объекта, ни себя самого, но тот и другой полагаются»… [5] или производятся механизмами, порождающими социальные явления — социальными структурами. Пропасть между сознанием и социальными структурами оказывается пропастью внутри социальных структур. Социальная структура должна проявиться не просто как множество разнообразных элементов, она должна явить себя как «самость» агента, в форме такой структуры, которая парадоксальным образом воплощает не-социальную-структуру. Как это происходит? Все значимые практики, с которыми сталкивается сознание в социальном мире, становятся моментами «самости» агента, трансформируют её. Эта «внутренняя» «самость» вбирает в себя «внешний» социальный опыт агента и наряду с другими социальными структурами служит основанием для последующего опыта. Социальные структуры суть позитивные сущности. Понять, что за поверхностью социального мира не скрывается никакого трансцендентного сознания, означает понять, что дорефлективное cogito есть необходимая позиция в совокупности взаимодействующих общественных отношений, структурный эффект, заключающийся в противоречиях социальных структур друг другу. По ту сторону чувственных эмпирических явлений, по ту сторону «феноменальной репрезентации» в духе И. Канта ничего нет. «Самость» агента есть явление как явление, а не некая эмпирически не проявляющаяся «духовная» сущность. «Самость» агента в качестве позиции в ансамбле социальных структур обнаруживается в том, что она должна проявиться как явление социального мира. Это означает всего лишь несоответствие явления «самости» агента самому себе, его изменение по мере накопления опыта и социально обусловленное различение от других «самостей». Чтобы конкретная практика оказалась возможной, она должна быть вписана в определённые объективные и субъективные социальные структуры, которые всегда предшествуют ей во времени. Это входит в определение структуры: если бы практики и их условия производства возникали одновременно, мы не смогли бы различить их. Для того чтобы произвести определённую практику, необходимо «принять» заранее предпосланное агенту состояние социального мира как условие производства этой практики. То есть агент как бы просто воспринимает существующее состояние социального мира как действительность, порождаемую практиками: он принимает, присваивает и воспроизводит как собственную практику то, что с большой долей вероятности произойдёт в данных социальных условиях и предпосылках. В зависимости от занимаемой социальной позиции агенты Габитус как дорефлективное cogitoЧто же составляет содержание «самости» агента? Это содержание должно быть связано с тем, что существует в социальном мире независимо от сознания и воли агентов, то есть с социальными отношениями. В то же время дорефлективное cogito агента не может быть сведено непосредственно к этим объективным структурам, поскольку оно в сущности есть универсальная опредмечивающая деятельность (см. [6]). Опыт сознания производится агентом, а не сознанием. Дорефлективные предзнания не являются свободным выбором чистого разума, здравого и расчётливого, но функционируют как диспозиции, выросшие из привычек, и склоняют действовать определённым образом в той же мере, что и думать (см. [7]). Отсюда, «самость» агента представляет собой ансамбль интериоризированных социальных отношений, который Пьер Бурдьё называет габитусом. Это означает, что габитус есть необходимое условие возможности практик, их инкорпорированная «модель», совокупность схем производства практик агентом. Можно представить «габитус» агента как ансамбль субъективных значений совокупности объективных структур, в которые агент был интегрирован в процессе своей социализации. Выступая причиной практик агента, габитус остаётся недоступен непосредственному социологическому измерению и выводится лишь опосредствованно, на основании производных от него практик. Другими словами, концепция габитуса практически однозначно определяется совокупностью социологических наблюдений, но никакое логическое обобщение с однозначностью не ведёт от измерений к базовым построениям этой концепции. Лежащий в основании «габитуса» принцип «предустановленной гармонии» между объективными и субъективными структурами, гармонии, проистекающей из особенностей генезиса субъективных структур, — важный, но логически недоказуемый принцип социологической теории. Пьер Бурдьё постулирует, что объективные социальные структуры интериоризируются в форме социально структурированных ансамблей практических схем или инкорпорированных структур — «габитусов», предрасположенных функционировать как структурирующие структуры, порождающие практики и представления (см. [8, С одной стороны, как совокупность практических схем, выступающих в качестве принципов практической классификации, видения и деления, габитус есть «социальное чувство», то есть нечто спонтанное и нерациональное. С другой, будучи совокупностью интериоризированных моделей практик, он обеспечивает структурированность импровизаций агента, упорядоченность его непреднамеренной изобретательности, которая находит точки отсчёта и опоры в полностью готовых «формулах». К ним относятся, например, такие бинарные оппозиции, как доминирующее/подчинённое, форма/содержание, сила/слабость, центр/периферия, высокое/низкое [9, Габитус — это способность свободно производить практики, но Социологическое сообщество считает «Практический смысл» манифестом «теории практики» Пьера Бурдьё. В нём аргументирована невозможность создания «теории» практики, поскольку она не конструируется практически. Сам Бурдьё формулировал свою концепцию в ходе этнологических экспедиций, работая в беарнских деревнях Несколько моих встреч с Пьером Бурдьё помогли составить личное впечатление об этом Результаты его научных работ, в разное время трактовавших разнообразные предметы — от алжирских эмигрантов и кабильских крестьян до профессуры самых престижных ВУЗов Франции, от спорта до политики, от литературы до высокой моды, — подтверждают правоту авторского подхода, исходящего непосредственно из самих исследуемых практик и из анализа стратегий осуществляющих их агентов. Пьер Бурдьё неоднократно высказывал при личных встречах сожаление, что его концепцию искажённо воспринимают как неомарксистскую. Конечно, он — не марксист ни в каком виде и никогда не принадлежал ни к одной из марксистских школ или партий. Если и возможно сравнение Бурдьё с Марксом, то оно должно скорее относиться к масштабу воздействия на современную им науку: «Будущее… социологии, несомненно, пост-бурдьевское, точно так же как оно было до Бурдьё — пост-марксистским. Начиная с этого момента следует считать вклад Бурдьё, наряду с Марксом, опорной точкой развития социальных наук, позволяющей им осваивать новые области» [10]. Н. А. Шматко. | |
Примечания | |
|---|---|
| |
Библиография | |
| |
Оглавление | |
| |