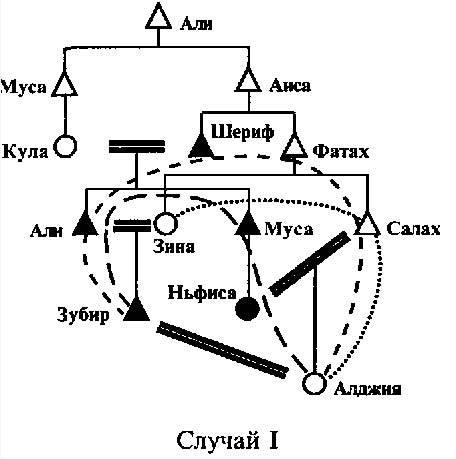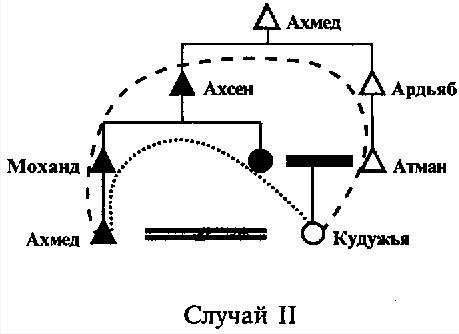Существуют банальные ответы, исходящие из кодифицированной повседневности, они заключены в кратком своде нравов и обычаев, общепринятых ценностей, представляющем собой своего рода инертное пассивное знание. Сверх того, существует уровень творчества, эта епархия amusnaw (мудреца), способного не только практически пользоваться принятым кодексом, но и приспосабливать его, модифицировать и даже коренным образом его изменять. Мулуд Маммери. Диалог об устной поэзии Кабилии. Брак с кузиной по параллельной отцовской линии (bent aam, «дочь брата отца») [1], этот легитимный квазиинцест, может рассматриваться, говоря словами Леви-Строса, как «своего рода скандал» [2] лишь с точки зрения таксономии традиционной этнологии. Пересматривая понятие экзогамии, являющейся условием воспроизводства раздельных родов, а также условием непрерывности и свободной идентификации последовательных общностей, Леви-Строс подвергает критике чреватую опасностями приверженность как теориям однородных групп, так и теории брачного альянса, представляющей брак как обмен одной женщины на другую и подразумевающей табу на инцест, то есть обязательность обмена. В то время как правила экзогамии чётко разграничивают группы, построенные на альянсах, и группы, основанные на родстве, которые не могут совпадать по определению, — генеалогический род оказывается, таким образом, вполне ясно определённым, поскольку власть, привилегии и обязанности передаются как по материнской, так и по отцовской линии, но эндогамия стирает различия между родами. Так, в крайнем случае системы, которая реально была бы основана на браке с кузиной по параллельной линии, определённый индивид оказался бы связан с дедом по отцовской линии не только по отцу, но Неадекватность языка предписаний и правил столь очевидна при патрилатеральном браке (Брак по боковой отцовской линии. — Состояние исследованийСамые последние теории брака с кузиной по параллельной линии, принадлежащие Ф. Барту, а также Р. Марфи и Л. Каздану, несмотря на их диаметральную противоположность друг другу, сходятся в том, что они вводят функции, которые структуралистская теория игнорирует или заключает в скобки, идёт ли речь о таких экономических функциях, как сохранение наследства внутри рода, или о политических функциях, как укрепление интеграции рода [5]. Ясно, что эти теории не могут действовать Жан Кюизенье лишь делает выводы из этого утверждения, выстраивая конструкцию, в которой пытается учесть уже установленные всеми исследователями расхождения между «моделью» и практиками, а также принимает в расчёт внешние, по меньшей мере экономические функции матримониальных обменов: «Само аборигенное мышление подталкивает к такой объяснительной модели. Оно представляет альянсы, складывающиеся в группе, опираясь на фундаментальную оппозицию между двумя братьями, одного из которых, чтобы сохранить прочность группы, ориентируют на эндогамный брак, другого же, чтобы добыть для группы союзников, — на экзогамный брак. Эта оппозиция между двумя братьями обнаруживается на всех уровнях агнатической группы. На языке генеалогии, привычном арабскому мышлению, она выражает альтернативу, которую можно представить схемой дробного порядка, где порядковые величины А Однако стремление подчинить генеалогии статистическому анализу имеет, по меньшей мере, то достоинство, что позволяет обнаружить основополагающие свойства генеалогии, этого аналитического инструмента, который сам никогда предметом анализа не был. И сразу весьма странным представляется намерение выразить эндогамию в процентах, тогда как в данном случае следует ставить под сомнение само понятие эндогамной группы, лежащей в основе расчёта. Жан Кюизенье, который в данном случае следует Клоду Леви-Стросу, отмечавшему, что «с точки зрения структурализма женитьбу на дочери брата отца можно считать эквивалентной браку с дочерью сына отца» [10], пишет: «Бывает и наоборот, что Эго вступает в брак с внучкой своего дяди по отцу, или с дочерью двоюродного деда по отцовской линии. С точки зрения структурализма, эти союзы эквивалентны: один — женитьбе на двоюродной сестре, дочери дяди по отцовской линии, другой — браку с внучкой деда по отцовской линии» [11]. Когда этнолог берёт номинализм, принимающий согласованную систему наименований за практическую логику диспозиций и практик, комбинируя его с формализмом статистики, основанной на абстрактных разбиениях, он вынужден производить генеалогические манипуляции, практический эквивалент которых заключается в процедурах, применяемых агентами, чтобы замаскировать разногласия между их матримониальными практиками и тем идеальным представлением о них, которое они создают, или тем официальным образом, которые они стремятся им сообщить. Так, если того требует дело, они могут назвать кузиной по параллельной линии не только дочь дяди по отцовской линии, но также и двоюродных и троюродных сестёр по отцовской линии, то есть сестёр второй или даже третьей степени родства, как, например, дочь сына брата отца, или дочь брата отца отца, или дочь сына брата отца отца и так далее. Известно также, какие манипуляции эти агенты могут производить со словарём родства, когда, например, они используют понятие aamm в качестве вежливого обращения к любому старшему родственнику по боковой отцовской линии. Расчёт «процентов эндогамии» по генеалогическим уровням, ирреальное пересечение абстрактных «категорий» приводит к тому, что в результате абстрагирования второго порядка этнолог трактует как идентичных таких индивидов, которые, хотя и находятся на одном уровне генеалогического древа, могут существенно отличаться друг от друга по возрасту, и их браки, уже по этой причине, могли быть заключены в различных условиях, соответствующих различным состояниям матримониального рынка. Либо, наоборот, он трактует как различные браки, генеалогически разделённые, но хронологически совпадающие, когда, например, племянник женится в то же самое время, что и один из его дядьев. Следует ли довольствоваться абстрактными делениями, построенными на бумаге, то есть основанными на генеалогиях, имеющих такую же протяжённость, что и память группы, которая по своей структуре и по своей протяжённости сама зависит от функций, приписываемых группой тем, кого она увековечивает или предает забвению? Функции связей и основание группНедостаточно, как делают некоторые наиболее осведомлённые информаторы, аккуратно перейти от понятия преференциального брака с параллельной кузиной к понятию «родовой эндогамии» и попытаться с помощью этой расплывчатой и отвлечённой терминологии уйти от проблем, которые ставит понятие эндогамии, — тех самых проблем, что скрывает в себе слишком знакомый концепт группы. Прежде всего следует спросить себя, кто заинтересован в том, чтобы определять группу через генеалогическую связь, объединяющую её членов, и только таким образом и трактовать её, а следовательно, рассматривать (имплицитно) родство как необходимое и достаточное условие целостности группы. В самом деле, как только реально ставится вопрос о функциях родственных связей или — в более жёсткой форме — об пользе родни, так очень скоро обнаруживается, что использование родственных связей, которые можно назвать генеалогическими, закрепляется за официальными ситуациями, в которых они выполняют функцию упорядочения социального мира и легитимации этого порядка. Этим оно и противостоит другим способам практического использования традиций родственных связей, которые в свою очередь являются частным случаем использования связей. Генеалогическая схема семейных связей, которую конструирует этнолог, лишь воспроизводит официальное представление о социальных структурах, произведённое путём приложения принципа структурирования, который является доминирующим только в некотором отношении, то есть в определённых ситуациях и относительно определённых функций. Напомнить о том, что родственные связи — это Говорить об эндогамии и даже желать — в похвальном стремлении к строгости — измерить её степень, означает поступать так, как если бы существовало чисто генеалогическое определение рода, в то время как каждая взрослая мужская особь, на каком бы уровне генеалогического древа она ни находилась, представляет собой потенциальную точку сегментации, которая может актуализироваться при конкретном социальном использовании обычая. Чем далее мы удаляемся от точки происхождения во времени Сватовство и церемония бракосочетания дают хороший повод увидеть всё то, что в реальности отделяет официальную родню, единую и неделимую, определённую раз и навсегда протокольными нормами генеалогии, от практического родства, границы и дефиниции которого столь же многочисленны и разнообразны, как его пользователи и случаи использования. Если практическое родство создаёт браки, то именно официальное родство совершает церемонию бракосочетания. При обычных браках контакты, предшествующие официальному предложению (akht’ab), а также не предназначенные для огласки переговоры, касающиеся того, что оставляет в неизвестности официальная идеология, а именно: экономических условий брака, статуса жены в доме мужа, отношений с матерью мужа, — осуществляют участники, менее всего наделённые властью представлять всю группу и мобилизовать её, то есть те, кого можно в любой момент лишить полномочий: либо старуха, своего рода профессионал таких тайных контактов, либо повивальная бабка, либо В конечном счёте, самые почётные и самые дальние родственники невесты ходатайствуют перед отцом и матерью девушки от имени самых близких и самых знатных родственников жениха, которые прежде ходатайствовали перед ними. Наконец о согласии (aqbal) сообщается максимально большому числу людей, и оно доводится до сведения самого почётного родственника молодого человека самым почётным родственником девушки, которого просили поддержать ходатайство. По мере того как переговоры успешно продвигаются и близятся к завершению, практическая родня уступает место официальной родне, поскольку иерархия полезности почти диаметрально противоположна иерархии генеалогической легитимности. Так происходит, Упрощая, можно сказать, что представительская родня противопоставляется родне практической наподобие того, как официальное противостоит неофициальному (включающему одиозное и скандальное), коллективное — единичному, публичное, эксплицитно кодированное в магических или квазиюридических формах, — частному, сохраняемому в имплицитном и даже в тайном виде; как коллективный обряд, то есть бессубъектная практика, исполняемая взаимозаменяемыми агентами, получившими коллективный кредит доверия, противостоит стратегии, ориентированной на удовлетворение практических интересов какого-либо агента или отдельной группы агентов. Абстрактные единицы, являясь продуктом простого теоретического деления, как в данном случае — линия одного основоположника (или, в другом случае, возрастная группа), открыты всем функциям, то есть ни одной функции в отдельности, и обретают практическое существование только посредством и для наиболее официального использования родства: представительская родня есть не что иное, как представление, которое группа составляет о себе самой, и почти театральное представление о самой себе, которое группа даёт для себя, действуя в соответствии с имеющимся у неё представлением о себе. Напротив, практические группы существуют только посредством и для особого рода функций, ради выполнения которых они эффективно мобилизуются, и сохраняются только потому, что постоянно поддерживаются на ходу, благодаря собственно их использованию и целой работе по поддержке (частью которой являются матримониальные обмены, осуществляющиеся действиями этих групп), а также благодаря тому, что они основаны на той общности диспозиций (габитус) и интересов, что формирует неделимость материального и символического состояния. Если случается, что официальная совокупность индивидов, определяемая по одной связи с одним и тем же предком, располагающаяся на одном (каком бы то ни было) уровне генеалогического древа, составляет одну практическую группу, то в этом случае деление, основанное на генеалогии, перекрывается структурными единицами, сформированными по другим принципам: экологическим (соседство), экономическим (неделимость) и политическим. Пусть даже дескриптивная ценность генеалогического критерия оказывается тем выше, чем ближе общие предки и чем теснее социальное единство, это всё же необязательно означает, что его унифицирующая эффективность соответственно возрастает. В действительности мы увидим, что самая тесная генеалогическая связь, например, та, что объединяет братьев, является в то же время местом сильнейшей напряжённости, и только не прекращающаяся ни на мгновенье работа помогает поддерживать солидарность. Короче, простая генеалогическая связь никогда полностью не предопределяет связь, объединяющую индивидов. Протяжённость практического родства зависит от способности членов официальной структуры преодолевать напряжённость, которую порождает столкновение интересов внутри неделимого предприятия по производству, потреблению и поддержанию практических связей, соответствующих официальному представлению, которое даёт о себе любая группа, считающая себя спаянной, и, следовательно, аккумулировать преимущества, получаемые от всякой практической связи, а также символические прибыли, обеспечиваемые социальным одобрением практик, которые соответствуют своему официальному представлению, то есть социальному идеалу родства. Все стратегии, с помощью которых агенты стремятся соответствовать правилам и таким образом обратить эти правила в свою пользу, указывают на то, что представления и, в частности, таксономии родства обладают действенностью, которая, будучи чисто символической, не становится от этого менее реальной. В качестве инструмента познания и конструирования социального мира структуры родства выполняют политическую функцию на манер религии или любого другого официального представления). Различные формы обращения прежде всего являются категориями родства, Символическая власть категорем лучше всего видна на примере имён собственных, которые, будучи эмблемами, содержащими весь символический капитал престижной группы, являются ставкой в интенсивной конкурентной борьбе: присвоить Как правило, новорождённым не дают имя ещё живущего родственника, поскольку это означало бы «воскресить» его до его смерти, бросить ему оскорбительный вызов и, хуже того, наложить проклятие. Этого же правила придерживаются, когда раздел неделимого освящён торжественной процедурой деления наследства либо когда семья распадается по причине эмиграции в город или во Францию. Отец не может дать своё имя сыну — и если сын носит его, то потому, что «был ещё в утробе матери», когда отец скончался. Однако и здесь, как и повсюду, существует множество уловок и способов нарушить данный обычай. Случается, что ребёнку меняют первоначально данное ему имя и присваивают имя отца или деда, «освободившееся» после смерти последнего (мать и женская часть семьи продолжают называть его первым именем, сохраняя, таким образом, его для семейного пользования). В других случаях одно и то же имя присваивается нескольким детям в несколько видоизменённых формах, получаемых с помощью прибавления или изъятия отдельных звуков (Моханд урабах вместо Рабах, или наоборот) или незначительных перестановок (Беза вместо Моханд Амезьяне, Хамини или Дахмане вместо Ахмед). Поскольку нежелательно — по тем же причинам — называть ребёнка одним именем со старшим братом, часто подбирают имена, близкие по звучанию или значению (Ахсен и Эльхосин, Ахмед и Мохамед, Мезиане и Мокране и так далее), особенно если одно из имён носил какой-нибудь предок. Самые престижные имена, как и самые плодородные земли, являются предметом регламентированной конкурентной борьбы, и «право» на присвоение самого желаемого имени (поскольку оно указывает на непрерывную генеалогическую связь с предком, память о котором хранится группой и за её пределами) распределяются в соответствии с иерархией, аналогичной той, которая определяет долг чести в случае мести либо права на наследственные земли в случае продажи. Так, в силу того, что имя передаётся по прямой мужской линии, отец не может дать сыну имя своего собственного aamm или своего родного брата (aamm ребёнка), если после их смерти у них остались женатые сыновья, способные передать имя отца одному из своих сыновей или внуков. Здесь, как Категории родства формируют реальность. То, что обычно называют конформизмом, является своего рода чувством реальности (или, если угодно, следствием того, что Дюркгейм называл «логическим конформизмом»). Существование официальной истины — которая, распространяясь на всю группу, как это бывает в случае слабо дифференцированного общества, обладает объективностью общепризнанного — определяет специфическую форму интереса, связанную с соответствием официальному. Брак с кузиной по параллельной линии обладает для него всей полнотой реальности идеала. Если слишком доверять местным речам, то можно принять норму практики за официальную истину; а если слишком пренебрегать ими, то возникает опасность недооценки специфической эффективности официального и непонимания стратегий второго порядка, посредством которых, например, стремятся извлечь выгоду от конформизма, скрывая стратегии и интересы под видимостью подчинения норме [16]. Истинный статус таксономии родства — основ структурирования социального мира, которые в качестве таковых всегда выполняют определённую политическую функцию — становится особенно понятен при рассмотрении того, как Именно такого официального прочтения придерживается этнолог, когда, например, уподобляет браку между кузеном и кузиной по параллельной линии отношения между кузенами по отцовской линии второй ступени, из которых один — а тем более оба, если состоялся обмен женщинами между сыновьями двух братьев — в свою очередь рождён от брака с кузеном по параллельной линии. Мужское, то есть доминирующее толкование навязывается с особой силой во всех публичных, официальных ситуациях, иначе говоря, во всех торжественных ситуациях, когда порядочный человек разговаривает с порядочным человеком, вычленяя из всех видов весьма многогранных связей самый благородный аспект, наиболее достойный того, чтобы быть представленным публично. Мужское толкование связывает каждого индивида, место которому нужно определить, с его предками по отцовской линии и, через их посредство, с предками по предкам по отцовской линии, общими для обоих индивидов. Оно отказывается от другого возможного пути, иногда более прямого и часто более удобного, того, что устанавливается между женщинами. Так, в соответствии с правилами приличия в генеалогии, принято считать, что Эубир взял в жёны в лице Алджии дочь сына брата отца своего отца, или дочь дочери брата своего отца, но никак не дочь брата своей матери, хотя в действительности именно эта связь лежит в основании данного брака (случай 1). Точно так же в другом случае, заимствованном из той же генеалогии, Кедуджья является дочерью сына брата отца своего мужа Ахмеда, вместо того чтобы считаться перекрёстной кузиной (дочь сестры отца), кем она и является (случай 2). Еретическая интерпретация, которая отдаёт предпочтение связям по женской линии, исключена из официального дискурса и сохраняется в частных отношениях или же в магии: например, мужчину, на которого хотят наслать порчу, оскорбительно называют «сыном своей матери». Помимо случаев, когда женщины говорят о родственных отношениях одной женщины с другими и когда язык женского родства разумеется сам собой, он может использоваться в самой интимной сфере семейной жизни: в разговорах женщины со своим отцом, братьями, мужем, сыном или, в крайнем случае, братом мужа, демонстрируя установление особо доверительных отношений в группе собеседников.
Однако множественность прочтений находит объективное обоснование, поскольку браки, идентичные с точки зрения генеалогии, могут иметь различные и даже противоположные значения и функции, в зависимости от стратегий, в которые они включены и которые могут быть переосмыслены лишь в результате воссоздания системы обменов между двумя соединившимися группами, а также состояния этих отношений в данный момент времени. Стоит только отвлечься от сугубо генеалогических характеристик браков и обратить внимание на стратегии и объективные условия, которые делают их возможными и необходимыми — то есть на индивидуальные и коллективные функции, которые они выполняют, — как обнаруживается, что два брака между кузенами и кузинами по параллельной линии могут не иметь ничего общего между собой, в зависимости от того, были ли они заключены при наличии здравствующего общего дедушки по мужской линии и, возможно, им самим (с согласия обоих отцов или «за их спинами»), или же, наоборот, в результате непосредственного соглашения между двумя братьями. В последнем случае несходство двух браков зависит от того, были ли они заключены, когда будущие мужья были ещё детьми или, наоборот, когда они уже достигли возраста, позволяющего жениться не говоря уже о случае, когда девушка «пересидела в девках»); работают ли братья порознь или они сохраняют единое хозяйство (земли, скот, другие блага) и живут ли они одним домом («общий стол»), не говоря уже о случае, когда сохраняется лишь видимая целостность; отдаёт ли старший брат (dadda) замуж свою дочь за младшего сына брата или, наоборот, старший берёт в жёны сыну дочь младшего брата, поскольку возраст и особенно порядок рождения может быть связан с различиями социального положения и престижа; имеет ли брат, который отдаёт свою дочь, наследника мужского пола или он не имеет мужского потомства (amengur); живы ли оба брата в момент заключения брака или жив только один из них, а точнее, является ли один из живущих отцом мальчика, назначаемым защитником дочери, которую он берёт для своего сына (особенно если у неё нет взрослого брата), или же, наоборот, он отец девочки и может воспользоваться своим доминирующим положением, чтобы заполучить в свою семью зятя. Ещё более усиливает двусмысленность такого брака то, что нередки случаи, когда обязанность пожертвовать собой, «скрыть срам» или защитить обиженную судьбой девушку выпадает на долю мужчины из самой бедной ветви рода. Заполучить от такого человека согласие выполнить долг чести по отношению к девушке своего aamm или даже реализовать своё «право» мужского представителя рода [17] — дело довольно простое, полезное и одновременно похвальное. На практике брак с кузиной по параллельной линии совершенно необходим лишь в чрезвычайных обстоятельствах, когда, например, речь идёт о дочери amengur’a, то есть того, кто «не справился», кто так и не обеспечил себе мужского потомства. В этом случае интерес и долг пересекаются: брат amengur’a и его дети в любом случае станут наследниками не только земли и дома того, кто «не справился», но и обязательств относительно его дочерей (в частности, в случае вдовства или расторжения брака). С другой стороны, такой брак является единственным способом избежать бесчестия, которое угрожает группе, и, возможно, потери состояния в случае брака с чужим (awrith). Обязанность жениться на кузине по параллельной линии возникает также в случае, когда девушка не нашла мужа, во всяком случае, мужа, достойного её семьи. «Стыдно должно быть тому, у кого есть дочь и кто не выдаёт её замуж». Отношения между братьями не допускают того, чтобы один брат отказался отдать свою дочь сыну своего брата, особенно старшего. В крайнем своём выражении, когда дающий и берущий — одно лицо, выступающее эквивалентом и субститутом отца, уклонение от брака практически немыслимо, точно так же, как в случае, когда дядя просит свою племянницу выйти за Сама неточность и противоречивость информаторов постоянно указывает на то, что невозможно полностью определить брак в терминах генеалогии и что он обретает различные и даже противоположные смыслы и функции в зависимости от того, воспринимается ли он как добровольный или как вынужденный. Так, брак с кузиной по параллельной линии может быть злом или благом в зависимости от позиции семей друг относительно друга в социальной структуре. Он может стать благом (жениться на дочери aamm означает «как сыр в масле кататься»), и не только в мифическом смысле, но Достаточно привести один пример, чтобы дать представление об экономическом и символическом неравенстве, которые могут скрываться за классифицирующими генеалогическими отношениями между кузенами по параллельной линии, и показать сугубо политические стратегии, которые прикрываются легитимностью этих отношений. Оба супруга принадлежат к одному и тому же «дому Белаида» — большой семье как с точки зрения численности (всего около сорока человек, из них — дюжина мужчин трудоспособного возраста), так с точки зрения её экономического капитала. Поскольку неделимость есть не более чем отказ от деления, то неравенство между виртуальными «частями» и предшествующими вкладами различных родов ощущается очень остро. Так, ветвь потомков Ахмеда, которой принадлежит [взятый нами для примера] мальчик, неизмеримо богаче представлена мужчинами, чем ветвь Юсефа, из которой происходит девочка и которая более богата землёй. Обилие мужчин, расценивающихся как репродуктивная сила, то есть надежда на ещё большее увеличение числа мужчин, коррелирует с целой системой преимуществ (при условии, что этот капитал умеют использовать), главным из которых является право ведения внутренних и внешних дел дома; недаром говорится: «Дом, полный мужчин, превосходит дом, полный быков». Исключительная позиция этой ветви подчёркивается и тем, что он сумел присвоить себе имена далёких предков семьи, а также тем, что к членам семьи принадлежат Ахсен, представляющий группу на всех важных внешних встречах семьи, во всех конфликтах и на всех торжествах, и Ахмед, «мудрец», тот, кто своими рассуждениями и советами поддерживает единство группы. Отец девушки, Юсеф, полностью отторгнут от власти не столько 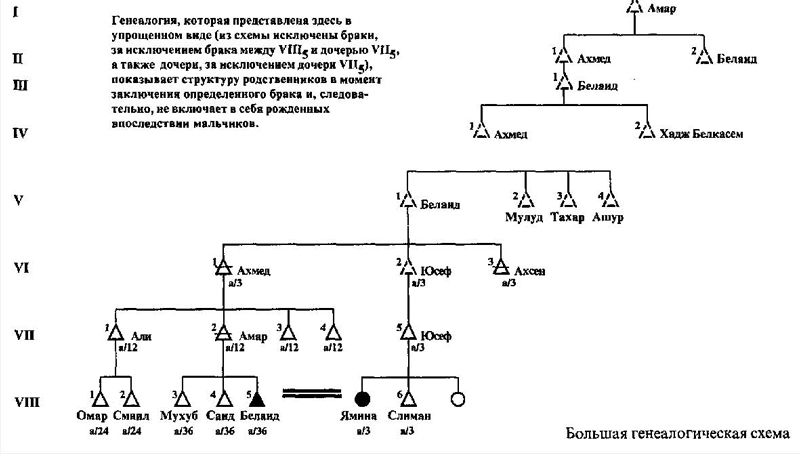 Конечно, речь не идёт о том случае, когда объективный смысл брака так очевиден, что не оставляет места для символических переодеваний. Так, случай, когда так называемый mechrut («некто в плохом положении»), отец, лишённый потомства мужского пола, получает возможность отдать свою дочь за «наследника» (awrith), при условии, что тот переселится в его дом, только в сказках или книгах по этнографии может быть завуалирован и может скрывать суть этой разновидности покупки зятя, принимаемого за его производительную силу и способность к воспроизводству, которые механически применяемые принципы официального видения мира хотели бы здесь увидеть [21]. В каком бы регионе это не происходило, те, кто говорят, что такая форма брака им незнакома, что она встречается лишь в других краях, не лукавят. Действительно, более углублённый анализ генеалогий и семейных историй не позволил обнаружить ни одного случая, который бы полностью соответствовал этому определению («я тебе даю свою дочь, но ты поселишься у меня»). Тем не менее можно точно с такой же уверенностью утверждать, что нет такой семьи, в которой не было бы хотя бы одного awrith, но замаскированного под официальный образ «компаньона» или «приёмного сына»: слово awrith, «наследник», есть не что иное, как официальный эвфемизм, позволяющий благопристойно назвать неназываемое, то есть человека, который в принимающем его доме может быть определён лишь как муж своей жены. Само собой разумеется, что человек чести, искушённый в этих делах, всегда может рассчитывать на поддержку своей группы в попытках представить как усыновление такой союз, который — в циничной форме контракта — представляет собой извращение любых уважаемых форм брака Стратегии второго порядка, которые всегда стремятся обратить полезные связи в связи официальные, то есть сделать так, чтобы практики, подчиняющиеся в действительности другим принципам, казались вытекающими из генеалогического определения, достигают сверх того непредусмотренной цели, поскольку создают такое представление о практике, которое как бы специально подтверждает то, что спонтанно рисует себе этнолог, этот «специалист по ритуалам». Обращение к правилу, этому приюту незнания, освобождает от необходимости всестороннего учёта материальных и особенно символических расходов и доходов, который содержится в основании и смысле бытия практик. Обычное и необычноеДалеко не подчиняясь норме, которая внутри системы официального родства назначала бы того или иного обязательного супруга, заключение брака находится в непосредственной зависимости от состояния практического родства, от родственных связей, установленных и используемых как между мужчинами, так и между женщинами, а также от соотношения сил внутри «дома», то есть между родами, объединёнными браком в предыдущем поколении, которые склоняют и обязывают разрабатывать то или иное поле связей. Если допустить, что одна из главных функций брака состоит в воспроизводстве социальных отношений, чьим продуктом он и является, то легко понять, что различные типы брака, которые можно выделить, выбрав в качестве критерия как объективные характеристики соединившихся групп (их положение в социальной иерархии, их разнесённость в пространстве и тому подобное), так и характеристики самой свадебной церемонии и, в частности, степень её торжественности, тесным образом соответствуют самим характеристикам социальных связей, благодаря которым эти браки стали возможными и их же воспроизводят. Официальное родство, коллективно назначаемое и социально признанное, есть то, что делает возможными и необходимыми официальные браки, которые дают ему единственную возможность практической мобилизации в качестве группы и тем самым подтверждения своего единства, столь же торжественного и одновременно искусственного, как и поводы для его празднования. Именно в практическом родстве, то есть в поле связей, беспрерывно используемых и таким образом обновляемых для нового использования, замышляются обычные браки, обречённые, по причине их частоты, на заурядность ничем не примечательного и на банальность обыденного. Общий закон обменов предполагает, что часть своей работы по воспроизводству группа посвящает воспроизводству официальных связей, тем более значительную, чем выше группа расположена в социальной иерархии, а следовательно, чем она богаче связями такого сорта. Из этого следует, что бедные, у которых нет ничего, что можно было бы потратить на торжества, стараются ограничиться обычными браками, которые обеспечивают им практическое родство, в то время как богатые, то есть имеющие более всего родни, требуют большего и жертвуют большим ради разного рода более или менее институционализированных стратегий, направленных на поддержание социального капитала, в котором самым важным, безусловно, является чрезвычайного типа брак с высокопрестижными «чужими». Среди искажений, присущих спонтанной этнологии местных информаторов, самое коварное состоит, несомненно, в том, что они уделяют несоразмерно большое место таким необычным бракам, которые отличаются от обычных позитивным или негативным образом. Помимо разного рода curiosa (о которых этнографу часто сообщают добровольные информаторы), как, например, брак типа обмена (abdal, когда двое мужчин «обмениваются» между собой своими сёстрами), брак по типу «присоединения» (thirni, когда два брата женятся на двух сёстрах, при этом вторая сестра «присоединяется» к первой, или когда сын женится на сестре или даже дочери второй жены своего отца) либо особый тип брака — «брак по репарции», женитьба на вдове умершего брата (thiririth, от err — отдавать, возвращать), местные информаторы предпочитают экстремальные случаи: либо наиболее полноценный в мифологическом отношении брак между кузеном и кузиной по параллельной линии, либо наиболее полноценный в политическом отношении брак, объединяющий старейшин двух племён или двух разных кланов. Таким образом, сказка — этот полуритуализированный дискурс, наделённый дидактической функцией, простой парафраз в иносказательной форме поговорки или пословицы, выполняющих роль морали — отбирает исключительно браки, так или иначе отмеченные и отмечающие. Прежде всего различные типы женитьбы на кузине по параллельной линии, чья цель в сохранении политического наследства или предотвращении вымирания рода (в случае единственной дочери). Затем наиболее явные мезальянсы, как, например, брак между филином и дочерью орла, этот наиболее очевидный случай брака «по восходящей» (как в социальном, так Вопреки подобным официальным представлениям, наблюдения и статистика показывают, что во всех исследованных группах «дальние» браки — это чаще всего просто обычные браки, затеваемые, как правило, женщинами для поддержания родства или практических связей, благодаря которым они становятся возможными и чьему усилению способствуют. Так, например, в большой семье деревни Агбала в Малой Кабилии из 218 браков мужчин (первого для каждого из них) 34 процента были заключены с семьями, не входящими в состав племени; и лишь 8 процентов браков, заключённых с самыми удалёнными как пространственно, так и социально группами, обладают всеми чертами престижных браков: они касаются только одной семьи, которая стремится дистанцироваться от других родов с помощью оригинальных матримониальных практик; оставшиеся 26 процентов далёких браков лишь возобновляют ранее установленные отношения (связи «через женщин» или «через дядьев по материнской линии» постоянно поддерживаются по случаю свадеб, отъездов и возвращений из путешествий, похорон и иногда даже в связи со строительными работами). Две трети браков (66 процентов) заключаются внутри племени (состоящего из девяти деревень): если исключить союзы с оппозиционным кланом, которые составляют всего 4 процента и всегда имеют политическое значение (особенно для старших поколений) по причине традиционного антагонизма, противопоставляющего обе группы, остальные браки входят в разряд обычных. В то время как насчитывается 17 процентах случаев, где браки связаны с выбором в других родах, и 39 процентах — с выбором в области практических связей, только 6 процентов союзов заключено внутри рода, из которых 4 процента с кузиной по параллельной линии и 2 процента с кузиной другого типа (две трети рассматриваемых семей к тому же нарушили неделимость состояния) [22]. Об обычных браках между семьями, связанными между собой частыми и давними обменами, ничего особенного не говорят, кроме того, что так было всегда, и всегда было одинаково, и что их единственной функцией, помимо биологического воспроизводства, является воспроизводство социальных отношений, которые и делают их возможными [23]. Необычные (экстраординарные) браки, заключаемые по инициативе мужчин из различных деревень или племён, одним словом, за рамками обычного родственного окружения, и, как правило, празднуемые с большой помпой, соотносятся с обычными (ординарными) браками, заключение которых обычно не сопровождается особыми торжествами, так же как обмены в обычной жизни с необычными обменами, представляющими чрезвычайные возможности, выпадающие на долю представительской родни. Все необычные браки похожи друг на друга тем, что исключают участие женщин. Но в отличие от брака между кузеном и кузиной по параллельной линии, сговор о котором происходит между братьями или другими мужчинами рода с благословения старейшины (этим только необычные браки и отличаются [24] от обычных, немыслимых без вмешательства женщин), брак, заключаемый вдали от отчего дома, официально предстаёт как политический. Такой брак заключается вне поля обычных семейных связей, сопровождается пышной свадебной церемонией, вовлекает большие группы людей, и единственным его оправданием является обоснование политического характера: например, скрепить мир или установить союз между «главами» двух племён [25]. Обычно решение о таком браке принимается на базаре, в каком-либо нейтральном месте, куда не допускаются женщины и где роды, кланы и племена встречаются между собой, оставаясь всегда начеку. Весть о свадьбе разносится специальным глашатаем — «крикуном», в отличие от другого типа свадеб, куда собираются лишь родственники и нет торжественных приглашений. В таком браке женщина предстаёт лишь как политический инструмент, своего рода залог или разменная монета, могущая принести символические барыши. Такой брак — возможность публично и официально, то есть совершенно легитимно, выставить напоказ символический капитал семьи, организовать, так сказать, представление своей родни и тем самым приумножить этот капитал ценой очень больших затрат. Этот брак подчиняется логике накопления символического капитала: так, если брак с чужеземцем, оторванным от своей группы и нашедшим убежище в другой деревне, не вызывает никакого уважения, то брак с чужеземцем, живущим вдалеке, престижен, поскольку свидетельствует о широко распространившейся известности рода. Точно так же, в отличие от обычных браков, которые идут давно «проторёнными путями», политические браки не повторяются и не могут повторяться, иначе союз был бы обесценен, стал бы обычным. В этом также проявляется сугубо мужской характер политического брака, он часто противопоставляет отца невесты её матери, менее заинтересованной в символической выгоде, которую может принести этот брак, но более чувствительной к трудностям такого брака для дочери, обречённой жить на чужбине (thagbhribth — ссыльная, заброшенная на восток) [26]. В той мере, в какой, через посредничество непосредственно заинтересованных семей и родов, политический брак устанавливает связи между широкими группами, он становится целиком и полностью официальным, а потому нет ничего в его церемонии, что не было бы строго ритуализировано и чудесным образом стереотипизировано: несомненно, потому, что ставка в таких браках очень велика, а опасности разрыва столь многочисленны и разнообразны, что нельзя целиком полагаться на отрегулированную импровизацию согласованных габитусов. Интенсивность и торжественность ритуальных акций возрастает по мере того, как мы переходим от браков, заключённых в единой семье или в кругу практической родни, к необычным бракам, где можно наблюдать во всей полноте церемониал, который при обычном браке сводится к самой упрощённой форме. Браки, заключённые в привилегированном секторе рынка (секторе akham), который властью старейшины и солидарностью агнатов образует свободную зону, где по определению исключены пустые обещания и какая-либо конкуренция, отличаются значительно более низкой ценой, чем необычные браки. Часто союз устанавливается сам собой, либо для его установления бывает достаточно незаметного посредничества женщин этой семьи. Приготовления к свадьбе ограничиваются самым необходимым. В первую очередь сводятся до минимума расходы (thaqufats) на свадебный кортеж семьи невесты; на церемонии imensi, где заключается брачный контракт, собираются лишь самые почётные представители двух семей (порядка 20 мужчин). Приданое невесты (ladjaz) составляет не более трёх платьев, двух платков и нескольких обычных принадлежностей (пара обуви, hank); «вдовье наследство» — сумма, получаемая в случае смерти супруга, обговаривается заранее, в зависимости от того, какое приданое должны купить на базаре родители невесты (матрас, подушку, сундук, к которым прилагаются также одеяла — предметы семейного рукоделия, передающиеся от матери к дочери) — всё вручается без особой торжественности, никого не обманывают и ничего не скрывают. Что касается расходов на свадьбу, то их также стремятся свести к минимуму, стараясь, чтобы она совпала с праздником Аид. Тогда барашек, традиционно приносимый в жертву по случаю праздника Аид, служит угощением к свадебному столу, а многие приглашённые присылают извинения, что не могут быть по причине всё того же праздника. Таким обычным бракам, восхваляемым традиционной крестьянской моралью по контрасту с «замужеством вдовьих дочерей», которые нарушают границы социально допустимого для каждой семьи), необычные браки противостоят во всех отношениях. Для того чтобы пробудилось амбициозное желание искать невесту в чужом краю, нужно иметь особую предрасположенность в виде привычки поддерживать неординарные контакты, то есть обладать необходимыми для этого способностями, в частности лингвистическими. Нужно иметь большой капитал исключительно дорогостоящих связей в отдалённых краях, которые одни только и могут предоставить точную информацию, а также посредников, необходимых для заключения соглашения. Одним словом, чтобы суметь мобилизовать этот капитал в нужный момент, надо долго и помногу вкладывать. Приведём один пример, когда глав сообщества марабутов попросили послужить посредниками, за их работу им оплатили множеством способов: «талеб» деревни, самое высокопоставленное духовное лицо, состоящее в кортеже (iqafafen), обут и одет с иголочки «хозяином свадьбы», а дары, которые ему традиционно преподносятся в виде денег — во время религиозных праздников, и натурой — во время сбора урожая, некоторым образом соответствуют величине оказанной услуги: барашек на праздник Аид — лишь один из видов компенсации за то унижение, которое он испытал, ходатайствуя перед мирянином (который, сколь бы ни был могуществен, не несёт учение Корана «в своём сердце»), и за то, что он благословил свадьбу с высоты своей веры и своего учения. После того как соглашение достигнуто, церемония «обязательства» (asarus, внесения залога, thimristh), выполняющая функцию обряда присвоения (aaayam — назначение, или, иначе, avlak — указание, сходная с церемонией первой распаханной борозды; или, ещё точнее, amlak — освоение, в том же смысле, что и освоение земли), сама по себе есть уже как бы свадьба. На эту церемонию приходят с подарками не только для невесты (которая получает предназначенный для неё «залог» в виде драгоценностей и денег от всех мужчин, которых она встречает в этот день, — thizri), но и для всей женской части семьи: с продуктами (крупа, мёд, масло и так далее), с домашним скотом, который будет прирезан и съеден гостями или передан невесте. На церемонию приходит много людей, мужчины демонстрируют свою силу, стреляя из ружей, как в день свадьбы. На всех торжествах, сопровождающих весь этот период вплоть до свадьбы, невеста (thislith) будет получать свою «долю»: большие семьи, живущие далеко друг от друга, не могут ограничиться обменом несколькими блюдами кускуса — подарки делаются соразмерно объединяющимся группам. Девушка, о которой уже сговорились, которая уже «отдана», «присвоена» и «должна сохранить память» с помощью множества подарков, тем не менее ещё не приобретена. Её семье предоставляется почётное право ждать и заставлять ждать других столько времени, сколько она пожелает. Конечно, свадьба представляет собой кульминацию символического столкновения двух групп, а также момент самых больших расходов. В семью невесты thaqufats посылается два центнера крупы, как минимум, полцентнера муки, в изобилии мяса (в живом виде), которое, как все понимают, не будет съедено полностью, 20 литров мёда, 10 литров масла. Рассказывают, что на одной свадьбе в семью невесты пригнали бычка, пять баранов и послали в придачу тушу ещё одного барана (ameslukh). Правда, делегация iqafafen состояла из 40 мужчин с ружьями, к ним ещё следует добавить всех родственников и почётных лиц, возраст которых освобождает их от необходимости стрелять — то есть всего 50 человек. Приданое невесты, которое в таком случае может насчитывать до 30 предметов, дублируется подарками другим женщинам из семьи невесты. И если часто можно слышать, что между большими людьми нет chrut (то есть условий, выполнения которых требует отец дочери прежде, чем дать своё согласие), то это потому, что статус семей сам по себе выступает гарантией выполнения с лихвой заранее оговорённых явным образом «условий». Обряд передачи «вдовьего наследства» (douaire), представляет собой случай полного столкновения двух групп, в котором экономическая ставка является также показателем символического капитала, а потому может стать предлогом столкновения. Требовать для своей дочери больших «вдовьих» или назначать выплату большого douaire, чтобы женить сына, — значит в обоих случаях утвердить или же обрести высокий престиж. Обе группы стремятся доказать, чего они «стоят»: одна — показывая, какую цену люди чести, знающие цену всему, назначают за союз с собой; другая — с блеском демонстрируя, насколько они ценят себя, выказывая готовность дорого заплатить за то, чтобы иметь дело с партнёрами, достойными их самих. В результате своего рода торга «наоборот», скрывающегося под видимостью обычного торга, обе группы незаметно сходятся на том, чтобы поднять ценность «вдовьего наследства», понимая, что оно является безусловным показателем символической ценности их продукции на рынке матримониальных обменов. И нет похвальнее поступка, чем поступок отца невесты, который, завершая ожесточённый торг, торжественно возвращает значительную часть полученной суммы. Чем более существенна возвращённая сумма, тем больше почёта она приносит, как если бы завершение сделки таким щедрым жестом должно было конвертировать в честь весь этот торг, который не был бы столь откровенно жёстким, если бы за поиском максимизации материальной выгоды не прятались поединок чести и попытка увеличить символическую прибыль [27]. Что касается брака с кузиной по параллельной линии, то своей исключительной позицией в местном и, как следствие, в этнографическом дискурсе этот брак обязан тому, что наилучшим образом соответствует мифоритуальному представлению о разделении труда по половому признаку и, в частности, о тех функциях, которые предписываются мужчине и женщине во взаимоотношениях между группами. Прежде всего он содержит самую радикальную формулировку отказа от признания отношения родства как такового, а следовательно, оно представляется как простое удвоение отношений преемственности: «женщина ни объединяет, ни разъединяет» (известна свобода, которая теоретически предоставлена мужу разводиться с женой, и практически неведома ситуация, когда такой же свободой располагала бы пришлая жена, по крайней мере до тех пор, пока она не родит наследника мужского пола, а то и дольше, а также амбивалентность отношения между племянником и дядей по материнской линии). Часто брак между параллельными кузеном и кузиной восхваляют за то, что дети от такого брака («чьё происхождение без примесей, чья кровь чиста») могут относиться к одному и тому же роду, по отцовской или по материнской линии («Он взял себе дядьев по материнской линии там, откуда идут его корни», — ichathel, ikhawel; или Нет ни одного информатора, ни одного этнолога, который не считал бы, что у арабов и берберов каждый мальчик имеет «право» на свою кузину по параллельной линии: «Если мальчик хочет дочь брата своего отца, он имеет на неё право. Но если он её не хочет — его не спрашивают. Это как земля». Несмотря на то, что эти слова информатора гораздо ближе к реальности практик, чем к этнографическому юридизму, который даже не подозревает, что существует гомология между отношением к женщинам рода и отношением к земле, тем не менее они скрывают бесконечно более сложную реальную связь, которая объединяет индивида с его кузиной по параллельной линии. Ведь пресловутое право на дочь брата отца может оказаться долгом, подчиняющимся тем же принципам, что и обязанность отомстить за родственника или выкупить семейные земли, на которые позарились чужие, и возлагающимся со всей своей полнотой лишь в исключительных обстоятельствах. Тот факт, что право преимущественной покупки (achfaa) земель сформулировано и закреплено законом в учёной юридической традиции (обладающей институционализированной властью и гарантированной судами), а также подкреплено «обычаем» (qanun), ни в коей мере не подразумевает, что формальное или обычное право может стать основами практик, реально существующих в отношении оборота земель. Продажа унаследованной земли — это прежде всего внутреннее дело рода, а обращение к власти, которая превращает долг чести в правовое обязательство (будь то собрание клана или деревни), является исключением; за обращением к праву или обычаю chafaa (’или achafaa) чаще всего кроются основания, ничего общего с правовыми не имеющие (например, намерение объявить о недоверии покупателю и потребовать отмены продажи земли как незаконной), но движущие большинством практик купли-продажи земель. Обязательство взять в жёны женщину, положение которой можно сравнить с положением невозделанной земли, покинутой её хозяином (athbur — девушка; bur — целина), — это такое же обязательство, что и выкупить землю, выставленную на продажу одним из членов группы, или перекупить землю, попавшую к чужим людям, которые её плохо защищают и возделывают, но только навязывается оно с меньшей настойчивостью Вопреки всей этнологической традиции, которая лишь воспроизводит официальную (отвечающую мужским интересам) теорию, в соответствии с которой всякий мужчина обладает своего рода преимущественным правом на кузину по параллельной линии (согласно официальному представлению, приписывающему мужчине превосходство, а следовательно, инициативу во всех отношениях между полами), следует напомнить, что женитьба на кузине по параллельной линии в некоторых случаях выступает как необходимость, продиктованная отнюдь не генеалогическим правилом. Действительно, на практике этот идеальный брак выступает часто как вынужденный выбор, который иногда стараются представить как выбор идеала, делая, таким образом, из нужды добродетель, что встречается в самых бедных родах либо самых бедных ветвях доминирующих родов (клиенты). В любом случае такой брак характерен для групп, которые отличаются ярко выраженным стремлением утвердить своё отличие, ибо его объективным результатом всегда является усиление интеграции минимальной структурной единицы и, соответственно, её отличия от других структурных единиц. Такой союз, предназначенный, благодаря своей амбивалентности, играть роль удачного брака для бедных, представляет собой элегантный выход для тех, кто, наподобие разорённого аристократа, способного защищать свою честь лишь в пространстве символического, стремится найти в напускном ригоризме средство подкрепить своё отличие; как та ветвь, что отделилась от группы, из которой она происходит, и озабочена поддержанием своей оригинальности; как семья, что старается подтвердить благородные черты, отличающие её род, прибегает к чрезмерной строгости (этим особенно отличаются семьи в сообществах марабутов); как клан, подчёркивающий своё отличие от оппозиционного клана посредством более строгого следования традициям (таков случай Аит Мадхи и Аит Нихем) и так далее. Именно потому, что брак с кузиной по параллельной линии может быть представлен как высшее благо и, при некоторых обстоятельствах, как самый «благородный», он представляет собой форму необычного брака, который можно себе позволить с наименьшими расходами, не тратя средств на свадебную церемонию, минуя опасные переговоры и избегая выплаты слишком больших «вдовьих». Как не заметить, что такой брак является наиболее удачным способом превратить нужду в добродетель и соблюсти все нормы приличия. Но каков бы ни был брак, он обретает свой смысл лишь относительно всей совокупности других возможных браков (говоря точнее, относительно поля возможных партнёров). Иными словами, любой брак помещён в континуум, на одном полюсе которого находится брак кузена с кузиной по параллельной линии, а на другом — брак между представителями различных племён. Оба эти брака обозначают точки наивысшей концентрации двух ценностей, которые всякий брак стремится максимизировать: с одной стороны, интеграция слабых структурных единиц и безопасность; с другой стороны — альянс и престиж, то есть открытие во внешний мир, к чужим. Перед каждым браком возникает проблема выбора между слиянием и расщеплением, между внешним и внутренним, между безопасностью и риском. Если брак с кузиной по параллельной линии и обеспечивает максимум интеграции слабой группы, то он лишь дублирует родственные связи союзными, понапрасну растрачивая в этой избыточности возможности создавать новые альянсы, представляемые браком. Дальний брак, наоборот, может обеспечить престижные альянсы лишь ценой отказа от интеграции рода и братских отношений, этой основы агнатической структуры. Именно об этом постоянно твердит местный дискурс. Центростремительная сила, то есть фетишизация внутреннего, безопасности, автаркии, чистоты крови, агнатической солидарности, всегда вызывает — хотя бы для того, чтобы себя противопоставить — центробежное движение, восхваление престижных союзов. Под видимостью категорического императива всегда скрывается расчёт максимума и минимума, поиск максимума альянса, совместимого с сохранением или усилением интеграции между братьями. На это указывает синтаксис дискурса, который всегда является синтаксисом предпочтительности: «Лучше скрыть своё достоинство, nif, чем выпячивать его перед другими»; «Я род (adhrrum) на лепёшки (aghrum) не меняю», «Внутри лучше, чем снаружи», «Первое безумие — отдавать дочь aamm чужим мужчинам; второе безумие — идти на рынок без денег; третье безумие — вступать в схватку со львами на горной вершине». Эта последняя поговорка наиболее показательна, поскольку она, внешне полностью осуждая дальний брак, безусловно признает его логику, а именно логику подвига, героизма, престижа. Нужно обладать сумасшедшим авторитетом и наглостью, чтобы осмелиться прийти на рынок без денег, намереваясь Матримониальные стратегии и социальное воспроизводствоХарактеристики брака и, в частности, та позиция, которую он занимает в определённой точке континуума между политическим браком и браком с кузиной по параллельной линии, зависят от целей и средств коллективных стратегий заинтересованных групп. Исход матримониальной игры каждой участвующей в ней стороны зависит, с одной стороны, от материального и символического капитала, которым располагают данные семьи, от степени свободы выбора орудий производства, от людей, выступающих одновременно Коллективная стратегия, которая в результате приводит к тому или иному «ходу» (как в случае брака, так В социальном образовании, ориентированном на простое, то есть биологическое, воспроизводство группы, на производство благ в количестве, необходимом для выживания, и, в неразрывной связи с этим, на воспроизводство структуры социальных и идеологических отношений, в которых и посредством которых осуществляется и легитимируется производственная деятельность, основаниями стратегий различных категорий агентов — чьи интересы могут быть противоположными внутри семейной структуры по разным вопросам и, в частности, в отношении брака — могут выступать системы интересов, которые им объективно предписывает система диспозиций, характерных для определённого способа воспроизводства. Эти диспозиции, которые ориентируют рождаемость, родственные связи, дом, наследство и брак в конечном счёте на одну и ту же функцию, а именно функцию биологического воспроизводства, объективно согласованы между собой [31]. В экономике, характеризующейся относительно равномерным распределением средств производства (чаще всего являющихся неделимой принадлежностью ветви рода), а также слабостью и стабильностью производственных сил, которые исключают производство и накопление существенных излишков и, следовательно, развитие сильной экономической дифференциации, семейное хозяйство имеет целью сохранение и воспроизводство семьи, но не производство прибавочного продукта. В таких условиях изобилие мужчин представляется безусловно излишним, если с сугубо экономической точки зрения видеть в них только «руки» и, соответственно, «рты» (тем более что в Кабилии всегда имелась достаточная временная рабочая сила: беднота во время сезонных работ собиралась в бригады, которые кочевали из деревни в деревню). В действительности, в основании оценки мужчин как «оружия», то есть не только как рабочей, но и военной силы (земля ценится не только теми, кто её обрабатывает, но и теми, кто её защищает), безусловно, лежит политическая нестабильность, которая подпитывает себя тем, что формирует диспозиции, требующие нанесения ответного удара в виде войны, драки, насилия или мести. Если наследство рода, который символизирует имя, определяется не только владением землёй и домом — что является очень ценным, а потому уязвимым, — но и владением средствами по обеспечению их сохранности, то есть мужчинами, то это лишь доказывает, что земля и женщины никогда не сводятся к роли простого инструмента производства или воспроизводства и ещё менее — товара или даже «собственности». Посягательство на эти блага, одновременно материальные и символические, является посягательством на хозяина, на его nif, то есть его «доблесть», его «сущность», как их определяет группа. Отчуждённая земля, как и кража или не отмщенное убийство, представляет собой разные формы одного и того же оскорбления, которое призывает во всех случаях к одному и тому же ответному удару со стороны долга чести: равно как «выкупается» убийство, только в логике символического повышения цены, с помощью нанесения удара по человеку, ближе всех стоящему к убийце, или по самому почётному члену группы, также «выкупается» любой ценой и земля предков, даже если она неплодородна, чтобы ответить на вызов, постоянно бросаемый чести группы. Как, по логике вызова, лучшей с технической и символической точки зрения землёй считается земля, наиболее интегрированная в наследство, так и мужчина, поражая которого можно наиболее демонстративно, то есть наиболее жестоко отомстить всей группе, — это наилучший её представитель. Этика чести есть преобразованное выражение этой экономической логики, а обобщая, можно сказать, что она есть этика интереса тех социальных образований, групп или классов, в чьём наследстве, как в данном случае, символический капитал составляет значительную часть. Существует чёткое разграничение между понятиями nif, «доблесть», и h’urma, «честь», совокупность того, что составляет h’aram, что запрещается, что составляет уязвимость группы, что есть в ней самого святого (и соответственно между обидой, которая задевает только долг чести, и кощунственным оскорблением). Простой вызов, брошенный долгу чести (thizi nennit, состояние, в котором находится тот, кому брошен вызов: sennif посредством nif: «a тебе слабо, спорим?»), отличается от оскорбления, которое задевает честь. Реакция какого-нибудь нувориша, который, пытаясь загладить покушение на h’urта, вызывает обидчика померяться силой или деньгами, смешивая понятия оскорбления и понятие обиды, подвергается осмеянию. Посягательство на h’urma исключает уловки или улаживания типа diya, компенсации, выплачиваемой семьёй убийцы семье жертвы. О человеке, который её принимает, говорят: «Это тот, кто согласился пить кровь своего брата, для него важен только желудок». В случае оскорбления, даже если оно нанесено косвенно или случайно, воздействие мнения таково, что не остаётся иного выбора, кроме мести — иначе грозит бесчестие и ссылка. Только лишь пунктуальное и деятельное соблюдение доблести (nif) может гарантировать целость чести (h’urma), которая самой своей природой сакрального открыта для кощунственного осквернения, и обеспечить выражение уважения и почтения тому, кто имеет достаточно доблести, чтобы не допустить нападок на свою честь. H’urma в смысле сакрального (h’aram) и nif, h’urma в смысле достоинства неотделимы друг от друга. Чем более уязвима семья, тем больше она должна иметь nif для защиты своих святынь и тем больше почестей и уважения выражает ей общественное мнение. Так, бедность отнюдь не противоречит и не исключает достоинство, она лишь усиливает заслуги того, кто, несмотря на то, что он открыт оскорблениям, способен вызвать к себе уважение. И наоборот, доблесть имеет значение и играет Мужчины составляют политическую и символическую силу, выступающую условием сохранения и увеличения наследства, защиты группы и её благ от насильственного захвата, а также условием установления своего господства и удовлетворения своих интересов. Единственной угрозой могуществу группы, помимо бесплодия женщин, является дробление материального и символического наследства вследствие раздора между мужчинами. Отсюда стратегии многодетности, направленные на рождение как можно большего числа детей мужского пола и как можно скорее (за счёт ранних браков), а также воспитательные стратегии, внушающие чрезмерное уважение к своему роду Брать взаймы между женщинами считается антитезой обмена чести, хотя фактически это женское одалживание гораздо ближе к экономической сути обмена, чем коммерция у мужчин. В отличие от мужчины чести, беспокоящегося прежде всего о том, чтобы не «разбазарить» свой «кредит доверия», о человеке, который легко позволяет себе брать взаймы, особенно деньги, и при этом не только не сгорает от стыда, но даже не краснеет, говорят, что «одолжить для него значит то же, что для женщин». Разница между такими двумя «экономиками» столь велика, что словосочетание err arrt’al, выражающее также факт свершившейся мести, обозначает на языке мужчин «возвращение дара», тогда как на языке женщин оно значит «отдать долг». Практика одалживаний, действительно, более распространена и более естественна у женщин, которые одалживают и берут взаймы что угодно и для чего угодно. Из этого следует, что экономическая истина, содержащаяся в отношении давать — отдавать, более явственно проявляется в обменах между женщинами, которым свойственны конкретность («до родов у дочери»), а также строгий учёт размера долга. Итак, символические и материальные интересы, связанные с единством земельной собственности, с обширностью союзов, с материальной и символической силой группы агнатов Объективно соединённые — как в несчастье, так Связь между братьями, будучи краеугольным камнем семейной структуры, является одновременно её самым слабым местом, закрепить и усилить которое стремится целая система механизмов [35] начиная с брака между кузеном и кузиной по параллельной линии, этого идеологического разрешения (иногда реализуемого на практике) специфического противоречия данного способа воспроизводства. Если брак с кузиной по параллельной линии является мужским делом [36], отвечает интересам мужчин, то есть высшим интересам рода, и решается часто без ведома женщин или против их воли (если жены двух братьев плохо уживаются между собой, поскольку одна не желает впускать в свой дом дочь другой, а та не желает отдавать свою дочь в руки свояченицы), то это потому, что такой брак нацелен на практическую нейтрализацию принципов деления между мужчинами. Это настолько само собой разумеется, что обычный наказ отца своим сыновьям: «Не слушайтесь ваших жён, будьте едины», — естественным образом воспринимается как «пусть ваши дети женятся между собой». Всё происходит так, как если бы данное социальное образование должно было официально предоставить себе эту возможность (которая запрещена большинством обществ как инцест), чтобы идеологически разрешить конфликт, заложенный в самой его сердцевине. Безусловно, превозношение брака с bent aamm (с кузиной по параллельной линии) становится понятнее, если помнить о том, что bent aamm в конечном счёте стал обозначать врага или, во всяком случае, личного врага, и что слово thabenaammts употребляется для обозначения неприязни между детьми дяди по отцовской линии. Нельзя недооценивать вклад системы ценностей и схем мифоритуального мышления в символическое снятие напряжённости, в частности, той, что пронизывает агнатические структурные единицы — идёт ли речь о конфликтах между братьями или между поколениями. Нет необходимости доказывать, что мифоритуальная система, полностью подчинённая мужским ценностям, выполняет функцию легитимации разделения труда и власти между полами, однако намного менее очевиден тот факт, что социальное структурирование темпоральности, организующей представления и практики (самым ярким подтверждением чего служат ритуалы посвящения), выполняет политическую функцию: здесь и символическая манипуляция возрастными границами, то есть границами между возрастами, и ограничения, накладываемые на поведение различных возрастных групп. Мифоритуальное деление вносит в непрерывное течение лет абсолютные прерывности, которые формируются социально, а не биологически (как, например, физические признаки старения), и отмечены символическими атрибутами в виде косметики, одежды, украшений, орнаментов и отличительных знаков. Именно через посредство подобных атрибутов выражает себя и напоминает о себе представление о пользовании телом, которое пристало или, наоборот, не пристало каждому социальному возрасту, поскольку способно разложить систему оппозиций между поколениями (так, ритуалы молодости — это полная противоположность ритуалам перехода). Социальные представления о различных возрастных этапах жизни и приличествующих им по определению качествах выражают, в их собственной логике, соотношение сил между возрастными группами. Эти представления способствуют воспроизводству одновременно единства и разделения, действуя через посредство временных делений, способных производить одновременно непрерывность и разрыв. На этом основании представления являются составной частью институциональных инструментов по поддержанию символического порядка и тем самым механизмов воспроизводства социального порядка, само функционирование которых служит интересам обладателей доминирующей позиции в социальной структуре — а именно мужчин зрелого возраста [37]. В действительности техническая и символическая сила сплочения воплощается личностью старейшины, djedd, чей авторитет основан на власти лишать наследства и налагать проклятие, а главное — на причастности к символическим ценностям через thadjadith от djedd, отец отца, совокупность предков, общих для тех, кто объявляет себя потомками одного и того же предка, реального или мифического), то есть на общности происхождения и истории, которая лежит в основании официальных объединений. Патриарх самим своим существованием обеспечивает равновесне между братьями, поскольку концентрирует в своих руках всю власть и весь престиж, а кроме того, конечно, поддерживает между ними (и их женами) самое строгое равенство как в труде (например, женщины по очереди занимаются домашней работой, готовят пищу, носят воду и так далее), так Несмотря на то, что брак представляет собой одну из главных возможностей сохранить, увеличить или сократить (в результате мезальянса) капитал авторитета, который обеспечивает глубокую интеграцию, а также капитал престижа, обеспечивающий расширенную систему союзников (nesba), — всё же все члены семейной ячейки, которые участвуют в заключении брака, далеко не в равной степени признают коллективные интересы рода как свои собственные. Традиция наследования, исключающая из наследства женщину; мифологизированное мировоззрение, признающее за ней лишь ограниченное существование и никогда не обеспечивающее ей полноценного участия в символическом капитале принявшего её рода; разделение труда между полами, обрекающее женщину на домашний труд, сохраняя за мужчиной представительские функции, — всё это способствует идентификации интересов мужчины с материальными и символическими интересами рода, причём тем полнее, чем больше их авторитет внутри группы агнатов. Действительно, мужские браки — к коим относят брак с кузиной по параллельной линии и политический брак — недвусмысленно свидетельствуют, что интересы мужчин более непосредственно отождествляются с официальными интересами рода и что их стратегии более непосредственно подчиняются заботе об усилении интеграции единичной семьи или сети семейных союзов. Что же касается женщин, то не случайно браки, инициаторами которых они выступают, принадлежат к классу обычных, или, точнее говоря, только такие браки им доверяются [39]. Исключённые из представительской, женщины оказываются отнесены к практической родне и практическим функциям родства; они вкладывают в поиски партии для своих сыновей или дочерей больше экономического реализма (в узком смысле слова), чем мужчины [40]. Безусловно, именно в том случае, когда речь идёт о замужестве дочери, мужские и женские интересы расходятся в наибольшей степени. Прежде всего, мать менее отца чувствительна к «семейному резону», согласно которому дочь трактуется как инструмент усиления интеграции группы агнатов или как монета при символическом обмене, позволяющем заключать престижные союзы с чужими группами. Кроме того, выдавая свою дочь замуж внутри своего рода и укрепляя таким образом обмены между группами, мать стремится укрепить свою позицию в доме. Женитьба сына ставит перед старшей хозяйкой дома вопрос о её господстве в домашнем хозяйстве таким образом, что её интересы согласовываются с интересами рода лишь в отрицательном смысле: если девушку выбирают оттуда, откуда Женитьба сына часто является поводом для столкновения между матерью и отцом, столкновения, обязательно замаскированного, поскольку женщина не может иметь своей официальной стратегии. Отец склонен поощрять брак внутри рода, который мифологизированное представление — идеологическая легитимация мужского господства — представляет как наилучший; мать же направляет свои тайные хлопоты в пользу её собственного рода, предоставляя мужу в нужный момент официально санкционировать их результаты. Женщины не стали бы вкладывать столько изобретательности и столько усилий в матримониальные поиски, на которые их направляет разделение труда между полами — по крайней мере, до того момента, когда может начаться официальный диалог между мужчинами, — если бы в женитьбе сына не таился подрыв их власти. Действительно, вошедшая в семьи женщина, в зависимости от того, связана ли она с отцом своего мужа (через своего отца, или, в более общем виде, через какого-либо мужчину, или же через свою мать) или же она связана с матерью своего мужа, может обладать весьма разным весом при распределении сил с матерью своего мужа (thamgharth). Кроме того, это распределение зависит от генеалогической связи «старой хозяйки» с мужчинами рода (то есть с отцом своего мужа). Так, параллельная кузина по отцовской линии изначально занимает более сильную позицию в отношениях со «старой хозяйкой», пришедшей из другого рода, и наоборот, позиция «старой хозяйки» в её отношениях с thislith (невесткой), а также косвенно — с её собственным мужем, может быть усилена, когда thislith является дочь её собственной сестры или, более того, её собственного брата. В самом деле, интересы «старого хозяина» не обязательно антагонистичны интересам «старой хозяйки»: отдавая себе отчёт в той выгоде, которую представляет выбор девушки, полностью доверяющей «старой хозяйке», которая в свою очередь полностью доверилась роду, «старый хозяин» может разрешить поиски в роду своей жены какой-либо послушной девушки. Более того, поскольку в каждой отдельной связи представлена вся структура практических отношений между родителями, он может обдуманно выбрать в жёны своему сыну дочь своей сестры (кузину по перекрёстной отцовской линии) или даже, не показывая виду, подтолкнуть свою жену к женитьбе их сына на дочери её брата (кузине по перекрёстной материнской линии), вместо того чтобы укреплять власть и без того доминирующего брата (в силу его возраста или престижа), соглашаясь взять его дочь (параллельную кузину по отцовской линии). Интересы мужчин преобладают тем полнее, чем больше сплочённость группы агнатов (именно на это косвенно намекают, когда среди других аргументов в пользу неделимости указывают на тот факт, что она позволяет лучше контролировать женщин) и чем менее род отца удалён в социальной иерархии от рода матери. Не было бы слишком большим преувеличением считать, что вся матримониальная история группы представлена во внутренних дискуссиях относительно каждого предполагаемого брака. Согласно интересам рода, то есть мужскому интересу, мужчина не может быть поставлен в подчинённое положение внутри семьи вследствие его женитьбы на девушке, стоящей явно выше (считается, что муж может воспитать жену, но не наоборот); девушку можно выдать за стоящего выше или равного по положению, можно взять дочь у стоящего ниже по положению. Соответственно, интересы рода могут быть легче навязаны в том случае, если тот, на кого возложена ответственность по крайней мере официальная) за брак, сам не женат на женщине, стоящей выше него по положению. Целая система механизмов, в которые включаются и размеры вдовьего наследства, и расходы на свадьбу, которые тем более велики, чем престижнее брак, стремится исключить альянсы между слишком неравными группами с точки зрения экономического и символического капитала. Случаи, когда семья одного из двух супругов богата каким-либо одним капиталом, например мужчинами, тогда как другая семья богата Одним словом, структура объективных отношений между родственниками, отвечающими за принятие решение о браке: будь то мужчина или женщина, представитель того или иного рода — способствует определению структуры отношений между родами, объединёнными намечающимся браком [41]. В самом деле, правильнее было бы говорить, что определяющая связь между родом индивида, которого хотят женить, и родом, предоставляющим возможного партнёра, всегда опосредована структурой отношений домашней власти. Чтобы полностью охарактеризовать многомерную и многофункциональную связь между двумя группами, недостаточно учитывать только пространственную, экономическую и социальную дистанцию, установленную между ними в момент заключения брака с точки зрения экономического и символического капитала (измеряемого числом мужчин и почётных лиц, степенью интеграции семьи и так далее), нужно, кроме того, учесть состояние баланса материальных и символических обменов на текущий момент времени, иначе говоря — всю историю официальных и экстраординарных обменов, осуществлённых или, по крайней мере, освящённых мужчинами (то есть собственно браки), а также историю неофициальных и повседневных обменов, постоянно поддерживаемых женщинами при содействии мужчин, а зачастую и без их согласия, то посредничество, благодаря которому подготавливаются и осуществляются объективные отношения, которые определяют предрасположенность двух групп к объединению. Если экономический капитал относительно стабилен, то символический — более подвижен: часто достаточно исчезновения главы семьи, пользующегося престижем, не говоря уже о разделе неделимого состояния, чтобы символический капитал оказался сильно поколеблен. Соответственно, всякое представление, которое семья стремится дать о самой себе, а также цели, которые она намечает заключаемым ей бракам — альянс или интеграция, — следуют колебаниям символического богатства группы. Так, одна большая семья, несмотря на то, что её экономическое положение постоянно улучшалось, на протяжении смены двух поколений перешла от мужских браков (союзов внутри близких родственников по мужской линии), или экстраординарных союзов, к ординарным бракам, чаще всего затеваемым женщинами в их собственной сети связей. Это изменение матримониальной политики совпало со смертью двух самых старших братьев, с длительным отсутствием взрослых мужчин по причине их отъезда во Францию) Структурные характеристики, которые в целом определяют ценность продуктов рода на рынке матримониальных обменов, разумеется, уточняются второстепенными характеристиками, такими как матримониальный статус вступающего в брак индивида, его возраст, пол и тому подобное. Так, матримониальные стратегии группы и брак, который в результате заключается, зависят в конечном счёте от того, является ли вступающий в брак холостяком «брачного возраста» или, наоборот, он уже вышел из него; или это женатый мужчина, который ищет вторую супругу ( Это лишь один из аспектов асимметрии в положении женщины и мужчины относительно брака; недаром говорится, что «мужчина всегда мужчина, каково бы ни было его положение — он всегда выбирает». Поскольку стратегическая инициатива находится в его руках, он может ждать: он уверен, что найдёт себе жену, даже если он заплатит за задержку, женившись на женщине, уже бывшей замужем, уступающей ему по социальному положению или страдающей каким-либо физическим недостатком. Поскольку дочь традиционно «просят» или «отдают», то в высшей степени глупо выглядел бы отец, который стал бы искать хорошую партию для дочери. Другое различие заключается в том, что мужчина может ждать женщину (пока она достигнет брачного возраста), в то время как женщина не может ждать мужчину: тот, кто должен пристроить женщин, может тянуть время, дожидаясь выгодного момента, что даёт ему позиция лица, перед которым ходатайствуют. Однако возможности его очень ограниченны Кроме того, следует иметь в виду, вопреки традиции, согласно которой всякий брак представлял изолированную единицу, что размещение на матримониальном рынке каждого из детей одной семейной структуры (то есть, в зависимости от случая, детей от одного отца или внуков одного деда) зависит от браков всех остальных и, следовательно, находится в зависимости от позиции (определяемой в основном по рангу рождения, по полу и по отношению к главе семьи) каждого из детей внутри особой конфигурации множества детей, которым предстоит вступить в брак, где сама эта конфигурация определяется размером и структурой по половому признаку. Так, если речь идёт о мужчине, то его положение тем выгоднее, чем теснее его родственная связь с установленным обладателем авторитета в области брака (эта связь может идти от сына к отцу, от младшего брата к старшему, или даже если это связь между отдалёнными кузенами). Кроме того, несмотря на отсутствие официального признания за старшим каких бы то ни было привилегий (естественно, речь идёт о мальчиках), всё складывается в его пользу «Стихийная психология» прекрасно описывает «мальчика при девочках» (aqchich bu thaqchichin), который, будучи всхолен и взлелеян женщинами семьи, всегда стремящимися удерживать его подле себя как можно дольше, в конечном счёте идентифицируется с той социальной судьбой, которая ему готовится, превращаясь в хилого и болезненного ребёнка, «съеденного его слишком многочисленными сёстрами». По этим самым причинам этот слишком драгоценный и слишком редкий продукт стараются обхаживать и защищать тысячами способов: оберегают его от сельского труда, дают ему продолжительное образование, отделяя его от товарищей, благодаря более развитой речи, более чистой одежде, более изысканной пище, что обусловливает в итоге его ранний брак. Другое дело дочь: чем больше у неё братьев, стоящих на страже её чести (в частности, её девственности) и являющихся потенциальными союзниками её будущего мужа, тем выше она ценится. Именно поэтому в сказках говорится о ревности, которую вызывает у семерых братьев сестра, находящаяся под защитой всех семерых, наподобие «фиги, укрытой листвой»: «Одна девушка, на долю которой выпало счастье иметь семерых братьев, могла гордиться этим, и она не испытывала недостатка в желавших жениться на ней. Она была уверена в том, что она желанна и высоко ценима. Когда она вышла замуж, то и муж, и родители мужа, вся семья и даже соседи и соседки уважали её: ведь на её стороне было семь мужчин, она была сестрой семерых братьев, семерых защитников. При малейшей ссоре они быстро наводили порядок, и если их сестра была виновата или если муж с ней расходился, они забирали её к себе и окружали вниманием. Никакое бесчестье ей не угрожало. Никто не осмелился бы сунуться в логово львов». Семья, в которой много девочек, слабо «защищённых» (мальчиками) и, следовательно, низко ценящихся, легко уязвимых, поскольку за ними стоит мало союзников, находится в невыгодном положении. Такая семья чувствует себя обязанной по отношению к семьям, принимающим их женщин. Что касается семьи, богатой мужчинами, то она обладает большой свободой маневра: она может Как видим, всё это весьма далеко от того, чтобы можно было говорить о чистом универсуме — разве лишь ценой бесконечного упрощения — «брачных правил» и «элементарных структур брака». Определив систему принципов, на основании которых агенты могут производить (и понимать) регламентированные и упорядоченные матримониальные практики, можно было бы с помощью статистического анализа получить достоверную информацию, устанавливающую вес структурных или индивидуальных переменных, которые им объективно соответствуют. В действительности важно то, что практика агентов становится понятной с того момента, как мы выстраиваем систему принципов, воплощаемых агентами на практике, когда они непосредственно замечают индивидов, которые в социологическом смысле могут быть обнаружены лишь при определённом состоянии матримониального рынка, точнее говоря, когда в отношении определённого мужчины они указывают несколько женщин, которые внутри практического родства в | |||
Примечания | |||
|---|---|---|---|
| |||
Оглавление | |||
| |||