1. Структура исследовательского методаПосле выдвижения проблемы наступает этап поиска средства её решения — метода. Знание, которое стало содержанием проблемы, оценено в виде отклонения от нормы. Чтобы незавершённую когнитивную структуру довести до должного результата, нужны особые инструменты мысли. В чём заключается их своеобразие? 1.1. Содержание метода: теория, идеи и принципыМетод занимает другое место когнитивного пространства мысли нежели, чем проблема. Голландский психолог Д. Ван де Хейр высказал следующее мнение о способе решения проблем. После того как проблемная ситуация представлена языковыми символами, нужно искать в этом субъективном пространстве особую «точку зрения». Это требует активных действий с символами, где новые аспекты познаваемого объекта как бы выдумываются [125]. В одном аспекте с автором следует согласиться однозначно, условия задачи являются определяющим исходным пунктом, от которого нужно отталкиваться в поисках необходимого средства решения. Но мы не согласны с тем, что сфера поиска должна ограничиться субъективным пространством задачи. Ван де Хейр разделяет основную ошибку гештальт-психологов, сводящуюся к тому, что незавершённый гештальт задачи исчерпывает поле решения. И здесь для плодотворного выхода уместно обратиться к античной культуре, представители которой наметили перспективное направление рефлексии. Древнегреческие мыслители полагали, что средством решения проблемы-задачи является метод. Под словом «methodos» они подразумевали путь, ведущий к цели и составляющий решение задачи. Здесь предполагается отдалённость искомого пункта от мыслителя, находящегося в задачной ситуации. Речь идёт о некотором пространстве, таящем в себе множество возможных направлений пути, Примечательно то, что Ван де Хейр предлагает для решения проблемы искать особую «точку зрения». Нетрудно догадаться о совпадении последней с методом, и это подтверждают сами учёные. В начале XX века английский экономист Дж. М. Кейнс заявил, что экономическая теория свои первые предпосылки черпает в наблюдениях. Л. фон Мизес оценил этот тезис как распространённое заблуждение, путающее предмет с методом. Экономиста отличают не Такое понимание заложили уже греческие мыслители. Хорошо известно, что из всех чувств античная культура выделяла зрение и видела его преимущество в оптимальной связи с работой разума. Отсюда термин «теория» означал «умозрение», и вполне понятно, почему Аристотель определял рассудок как способность умосозерцать. В контексте этих представлений естественно признать метод некоторой «точкой зрения», откуда может открыться перспектива пути. И здесь метод не должен совпадать с местом задачи, мыслитель обязан найти такую позицию, чтобы посмотреть на проблему со стороны и сверху. Только данная неравноценность может дать успешное решение. В настоящее время в качестве синонима метода очень часто используется термин «подход». Истоки этого представления опять же тянутся в Античность. В платоновском диалоге «Менон» Сократ предлагает для исследования вопроса о добродетели исходить из предпосылки подобно тому, как это делают геометры. Предпосылка определяется в виде заранее выделенных основных положений («ipоthesa»), заслуживших доверие. В своём комментарии 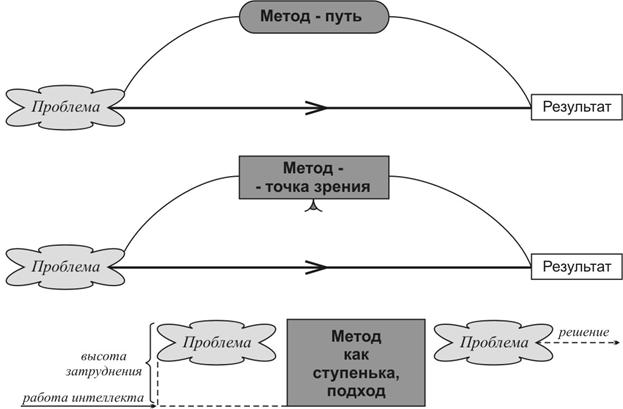 Если проблема есть «знание-что», то метод — это «знание-как»«Обдумай что, но более обдумай как» — говорит Гомункулус Вагнеру в гетевском «Фаусте». Эти смыслы развёртывает технологическая концепция. Интеллект способен структурировать знания на два функциональных блока: предмет и метод. Знания, входящие в состав предмета, выполняют ряд функций:
Все эти роли концентрируются в характеристике «что» — когнитивный предмет выступает заместителем внешнего объекта. В мышлении он обретает форму проблемы, она становится полноценным предметом для действия метода. Если проблема есть для мышления «что», то метод выражает собой блок «как». Такая композиция отвечает требованию интеллектуальной технологии. Сырьевой компонент («что») можно преобразовать в искомый результат, лишь применяя к нему некий инструмент. В роли орудия («как») и выступает метод, способный осуществить в проблемном материале необходимые когнитивные трансформации. Ясно, что проблема играет относительно пассивную роль, активное же доминирование принадлежит методу. Функциональная неравноценность обусловлена содержательным различием, проблема и метод представляют разные уровни знания. Если «что» относится к когнициям относительно низкого уровня, которые имеют отклонения от нормы и пребывают в статичном положении сырья, то блок «как» включает более фундаментальные образования. Относительно высокий уровень организации метода выражается в структурной оформленности и нормативности его содержания. Хотя в условиях задачи существуют истинные элементы, главными остаются формы незнания: лакуны, разрывы и тому подобное, что далеко от образцов истины. На этом фоне ко всему содержанию метода предъявляются строгие истинностные критерии, только истинный метод, соответствующий поставленной проблеме способен привести к успеху. Если к этому ещё добавляется особая динамичность метода по отношению к проблеме, то такое совершенство и позволяет ему играть роль средства решения проблемы. 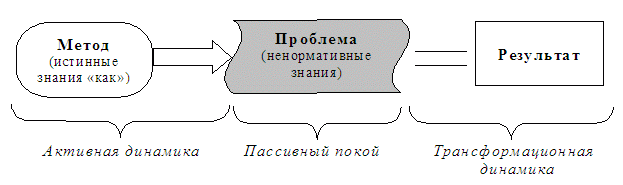 Метод есть схема, вобравшая в себя содержательные и обобщённые знанияС определённой условностью можно выделить три типа метода:
Критериями здесь выступают определённые результаты мышления, которые формируются под влиянием методов. Если каждый тип предполагает огромное многообразие методов, то можно ли вести речь о единстве всех типов? Мы полагаем, что исследование универсальных свойств метода имеет разумный смысл, который может оформиться в философскую концепцию или в методологию (в прямом значении). Определение метода через схему является классическим после работы Ф. Бартлетта (1932). Для английского учёного схема была рациональной формой памяти, в которой накопленный опыт актуализируется для решения последующих проблем. Весьма расплывчатое представление о схеме как таковой побуждало последующих исследователей прилагать специальные усилия. Одна из лучших трактовок когнитивной схемы принадлежит У. Найссеру. «Схема не только план, но также и исполнитель плана. Это структура действия равно как и структура для действия… Если прибегнуть к генетическим аналогиям, схема в любой данный момент времени напоминает скорее генотип, чем фенотип. Она делает возможным развитие по некоторым определённым направлениям»… [127]. Здесь видно, что схема является планом как структурой действия и его функционирование подобно генотипу. Кроме того, Найссер вводит понятие «экстенсивной схемы», которая включает в себя некоторую совокупность менее широких схем и определяет характер их активности. Однако и такое уточнение мало что проясняет в содержательных характеристиках метода как схемы. Когда речь идёт о плане, то имеется в виду чисто ролевая функция, которая не раскрывает структуру того, что выступает в этом качестве. Сравнение с генотипом также подчёркивает значимость схемы, оставляя в стороне всё остальное. Связь схемы и знаний не подлежит сомнению, вопрос сводится к определению той границы, которая выделяет когниции, способные быть методом. Условно все знания можно разделить по степеням общности на единично-фактуальные и общие. Если первые фиксируют В разных типах метода качество знаний и степень их общности отличаются вариативностью. Для методов относительно простой практической деятельности присущи эмпирические обобщения малой общности. Речь идёт о рецептурных правилах, регламентирующих действия для производства определённого блага (кулинарные советы, рекомендации поиска грибов, рыбной ловли и тому подобные). Более сложный характер имеют мировоззренческие методы, использующие ценностные теории: учения, доктрины, концепции. В качестве когнитивных единиц здесь фигурируют понятия, выявляющие духовно-ценностные смыслы. В теологическом и эстетическом мышлении участвуют весьма сложные ценностные теоретические структуры. Традиционную универсальность демонстрируют философские категории, которые могут составлять как чисто философские стратегии мысли, так и методы, сочетающиеся с практическими, мировоззренческими и научными подходами. Специфической сложностью отличаются научные методы. Их состав определяется разнообразием видов научного знания: факты науки, эмпирические обобщения и законы, теоретические законы и теории, фундаментальные теории и научные картины. Хотя факты науки носят характер первичных обобщённых описаний, всё же они близки к уровню единичности и потому в содержание метода не включаются. Чаще всего они образуют контекстную основу условий проблемы. Все же остальные результаты науки способны войти в состав того или иного исследовательского метода. Научная теория и исследовательский методВ 1987 году вышла в свет коллективная монография, где советские философы попытались проанализировать все существенные связи между научной теорией и методом. Здесь возникли трудности определения научной теории, ибо существует значительное многообразие теоретических структур науки. Одно дело — строгая аксиоматическая теория, другое — теоретическая концепция, где объединены эмпирические и теоретические законы с мировоззренческими идеями. И тем не менее авторы сформировали некую паллиативную модель теории, где нашлось место следующим признакам: обобщённое знание, ориентация на объективную истину, выведение эмпирических следствий из теоретических законов и другим. Все авторы пытались проследить единство и различие. Единство усматривалось в том, что научное знание является тем субстратом, из которого формируются обе структуры. Если нет истинного воспроизведения изучаемого объекта, то невозможны как теория, так и метод. Однако между ними есть и существенные различия, ведущее из них выражается в функциях. Если теория выполняет четыре функции: а) информационную; б) мировоззренческую; в) инструментальную; г) проективную, то методу присущи только две функции — инструментальная и проективная. У метода инструментальность является главной функцией, у теории эта функция не главная [128]. С таким различением трудно согласиться. Мы полагаем, что автор искусственно расширил круг ролей, которые способна играть теория. Основная функция теории — «информационная», то есть учёные создают такие когнитивные продукты, которые своей семантикой воспроизводят изучаемый объект в его существенных связях. Если абстрактно-понятийное ядро теории соответствует критериям логической и концептуальной связности, а эмпирические следствия получили экспериментальное подтверждение, то теорию считают объективно-истинным знанием. Это и есть информационно-познавательная функция теории. Мировоззренческая функция здесь излишня, её в лучшем случае берёт на себя научная картина (В. С. Стёпин). Что же касается инструментальной и проективной функций, то к теории они не имеют прямого отношения, ибо являются свойствами метода. Все основные качества научной теории складываются в контексте её стратегического отношения к исследуемому объекту. Если взять такой аспект как истинностность, то он так или иначе трактуется в рамках связи теории с объектом. После того, как теория стала устойчивым результатом познания, начинается период её множественных превращений в метод. В любом производстве происходит метаморфоза превращения продукта в средство, нечто подобное есть Эту аналогию можно распространить не только на всю науку, но Метод как таковой предназначен для эффективной и плодотворной деятельности мышления, где из проблемного сырья производится новое знание. Метод здесь демонстрирует способность наличного знания становиться когнитивным инструментом обработки и за счёт этого добиваться эффекта «вытягивания шеи» (К. Поппер). Сама по себе теория таким свойством не обладает. С решением проблемы процесс мышления заканчивается, метод как орудийная функциональная структура сходит на нет. И его содержание вновь обретает форму теории. При возникновении соответствующей проблемы снова появляется потребность в методе, что возобновляет процесс превращения теории в инструментальное средство. Цикличность подобных метаморфоз очевидна для всех типов мышления, включая науку. Переключение теории с режима объективно-истинностного существования на режим субъектно-активного хорошо осознают сами учёные. Так, Дж. Вейценбаум полагает, что если исследователь интересуется строением теории, тем, как из начальных принципов вытекают общие утверждения, а из них частные следствия, и тем, какие переменные сделать существенными, а какие — несущественными, то всё это является внутритеоретическим делом (В наших терминах данный аспект оценивается как становление теории по отношению к объекту). Совершенно другая деятельность начинается тогда, когда сложившуюся теорию начинают использовать как карту частично исследованной территории. Здесь её значение заключается не в том, что она отвечает на вопросы собственного устройства, 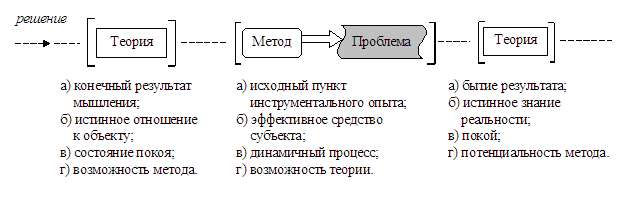 Здесь уместна иллюстрация из истории естествознания. Формализмы, которые использовал Дж. К. Максвелл при создании теории электромагнитного поля, за несколько десятков лет до этого были созданы О. Коши, У. Гамильтоном и другими математиками. Данные математические структуры существовали в виде результатных теорий. Когда Максвелл привлёк и применил их к физическим проблемам, они стали функционировать не в качестве теории, Идея как форма методаКак обобщённое знание теория существует в различных формах и одной из них является идея. Её содержанием выступает некий элемент обобщённой информации, это может быть — эмпирическое представление, научное понятие, закон науки, художественный образ, философская категория и тому подобное. Локально-узкое содержание идеи определяет абстрактные границы её инструментального действия. «Всякая идея сама по себе есть ведь умственное окошко» (В. С. Соловьёв). Ч. С. Пирс подчёркивал такой признак идеи как её ясность. Конечно, здесь подразумевается содержательный аспект, неясность того, о чём говорит идея, резко снижает её шансы стать плодотворным началом. Когнитивное содержание идеи должно быть внятным и осмысленным резюме ранее состоявшегося исследования. Но золотая пора идеи остаётся не позади человека, а впереди, она открывает окно в будущее (Г. Башляр). Все в идее подчинено функции метода. Если тёмное представление становится идеей, то её инструментальность может обернуться отсутствием результата. В таком случае заявляют о неплодотворной идее. Пирса можно понять в том смысле, что только ясные идеи демонстрируют эффективное познание. Может быть, это и имел в виду древнекитайский мыслитель Идея есть понятие, служащее инструментом решения проблемы. Это определение хорошо подчёркивает единство содержательного и инструментального аспектов. В науке довольно часто устанавливается своеобразное разделение труда. Одни учёные производят общие утверждения (отражательно-истинностный аспект), другие же стремятся «извлечь пользу из принципа» (П. Ферма), то есть превращают их в эффективные орудия (активная функция). Если Г. Лоренц получил понятие локального (местного) времени, новые преобразования координат и ввёл их в электродинамику, то плодотворные выводы из них продуцировал А. Эйнштейн. Вот почему «значение научной идеи часто коренится не в истинности её содержания, Рождение идеи всегда предполагает
Обязательным условием всех случаев творческой догадки, ведущей к производству идеи, является постановка проблемы и наступление этапа формирования (мобилизации) метода. На явную связь проблемы с изобретательской идеей указал немецкий учёный Г. Гельмгольц. Ему предстояло изложить студентам теорию свечения глаза, разработанную Брюкке. Последний был на волосок от изобретения глазного зеркала, но замедлил поставить себе вопрос, какой оптической картине принадлежат исходящие из светящегося глаза лучи. Методические соображения вынудили Гельмгольца поставить такой вопрос. Кроме того, занимаясь медициной, он знал о нужде окулистов в приборах для определения «чёрного бельма». За несколько дней Гельмгольц сконструировал новый прибор и дал возможность изучать живую человеческую сетчатку [130]. Идеи обнаруживаются в других научных дисциплинахРассмотрим зарождение идейных основ эволюционной теории. Начальный этап был заложен французским биологом В этой проблемной ситуации оба исследователя были вынуждены обратиться к внебиологической литературе и оба вышли на книгу английского экономиста Р. Мальтуса ( 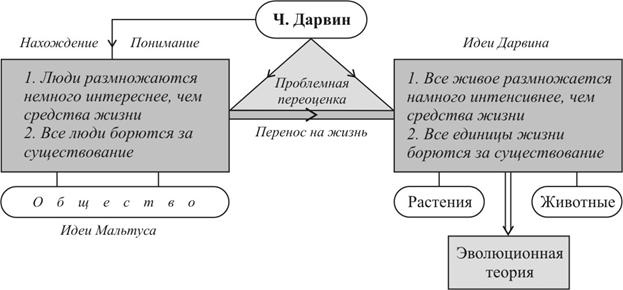 Вненаучное знание как источник научных идейН. Бор рекомендовал теоретикам ориентироваться на разработку «сумасшедших» и «безумных» идей. Здесь учтён тот момент, что с точки зрения наличных рациональных построений принципиально новая гипотеза должна оцениваться как нечто противоречивое, иррациональное. Таким образом, вполне явно в стиль современного научного мышления закладывается конструктивность иррациональных сил сознания. К традиционно иррациональному обычно относят мифы, эзотерическое, знание типа магии, алхимии и тому подобное, то есть всю герметическую культуру. Позитивистское игнорирование влияния герметической традиции па естествознание противоречит его реальной истории. Многие научные дисциплины имеют свои оккультно-магические прообразы: геомантия — геометрия, астрология — астрономия, алхимии — химия. Вместе с тем нельзя согласиться с Ф. Йетс и другими западными исследователями, которые абсолютизируют влияние эзотерических форм на науку. Здесь, как Как в Античности, так Новая научная истина всегда кажется парадоксальной, если она воспринимается с. позиции ранее сложившейся и утвердившейся теории. В выборе из двух альтернативных способов устранения иррациональности (отвергнуть инновацию или принять се) превосходство вначале у сторонников традиции. Источником нарушения нормы они считают новую гипотезу. Для учёного-новатора абсурдной кажется старое, решение. Когда в начале XIX века Т. Юнг выдвинул идею интерференции, то для его коллег она показалась несовместимой с основами оптики. Авторитетный физик Д. Араго заявил: «Вот, бесспорно, самая странная из гипотез! … Кто бы мог подумать, что свет, слагаясь со светом, может вызвать мрак!» [132]. Гипотеза выглядела «странной», потому что она противоречила корпускулярной концепции света, которая господствовала в физике более века и обрела статус «нормальной» теории. Ситуация из истории физики показывает недостаточность отдельных, изолированных, пусть даже и фундаментальных норм. Упрёк в иррациональной странности был снят с интерференционной гипотезы лишь в ходе применения норм эмпирической проверки, согласованности с другими теоретическими разделами и тому подобных. Однако и весь комплекс норм, ориентирующихся на научные результаты, имеет свои границы действия. Он дополняется группой предпосылочных норм. Их отличает не только иная направленность (начало познавательного акта), но и особые содержательно-стилевые характеристики. Если результатные правила жёстко ограничивают активность субъекта, то предпосылочные нормативы ориентируют учёного на весьма свободные действия. Эта противоположность реализуется большинством норм. С позиции рациональных результатов нужны: однозначная определённость, исключающая полисемию и логические противоречия, недопущение гипотез — ad hoc, дискурсивность всех рассуждений, максимально возможная критика и тому подобное. Шкала предпосылочных норм разрешает привлечение неопределённых смыслов, рекомендует не избегать в ряде случаев ad hoc — утверждений, существенно ограничивает концептуальную критику и так далее. Налицо своеобразная инверсия нормативных комплексов. В контексте предпосылочных регулятивов радикально меняется отношение к иррациональному фактору. Если прежде всего его активность расценивалась как полностью негативная, то здесь она приобретает и позитивную роль. Это обусловлено деятельностной сущностью предпосылочных оснований. Проблематизация и выбор метода протекают в широком поле научной и вненаучной культуры, что предоставляет мышлению множество измерений свободы. В ходе различных процедур выделяются рациональные моменты путём очищения их от мистических сторон и превращаются в самостоятельные абстракции. В таком виде они и входят в науку. Современный этап развития науки актуализировал тему соотношения науки с мифологией. Как отмечал Привлечение мифов к производству научных концепций — реальность науки. Однако мысль о включении мифов в структуру научной теории вызывает возражения. Если для раннего естествознания признается цепь последовательной рационализирующей демифологизации: миф — философема (натурфилософская догадка) — научная идея (теоретическая гипотеза, модель), то почему современная наука должна исключать такой путь рационализации? Миф, попадающий в голову теоретика, предварительно выбирается из мифологического множества. Эта селекция идёт через призму вполне определённых научных соображений. Затем у выбранного мифа выделяют рациональный компонент и переосмысливают его в научных понятиях. Ясно, что конечный продукт ценностно-инструментальных процедур должен разительно отличаться от исходной предпосылки. И действительно, одно дело признавать миф, где «мир рождается из ничто» (выражение А. Фридмана), другое — утверждать, что из физического вакуума в допланковскую эпоху рождались первые элементарные частицы. Если первое — вненаучный миф, повлиявший на формирование теоретической гипотезы, то второе — элемент научной концепции. Мифологическому сознанию родственна религия как форма превратного мировоззрения. Её влияние на развитие научного отражения в целом негативно. Вместе с тем непредвзятый анализ истории естествознания выявляет неоднозначную роль религии и теологии в науке. Случаи позитивной детерминации можно объяснить тем, что религиозные образы, как и все формы мировоззрения, способны к частичной переинтерпретации. Входя в структуру научных систем, они приобретают возможности амбивалентного истолкования. Контекст специальных знаний может нейтрализовать религиозный аспект и активизировать нерелигиозные смыслы, которые ранее были подавлены основным значением. Историческая эволюция христианской религии после Средневековья шла в направлении либерализации идеологического контроля над естествознанием. В эпоху Ренессанса сформировалась концепции природы как «нейтральной» почвы, которая не одушевлена духами и существует для того, чтобы служить человеку. В этой концепции вызрела идея о том, что с благословения творца человек может манипулировать естественной средой в своих интересах. Она санкционировала опытно-экспериментальное исследование и поощряла практическую ориентацию познания. Если античные философы наложили запрет на применение математики к явлениям земной природы, то христианская теология, начиная с XIII века, смогла преодолеть эту ретроградную традицию. Если во всей природе заключён «божественный план» и закономерный порядок, то задача учёного заключается в том, чтобы открыть его с помощью опыта и математики. В рамках этой установки и свершались научные открытия Представление о боге нередко привлекалось в качестве модельной схемы в тех случаях, где был открыт дефицит понятийных средств. В таком русле оформилась идея творения. Иудео-христианские и мусульманские доктрины были основаны на том, что бог в каждое мгновение заново творит мир, поддерживая этим его существование. Эта идея реновации, лежавшая в культуре Средневековья мёртвым грузом, была актуализирована учёными XVII веке. Они переоткрыли её и заставили «работать» в физических концепциях движения. Так, Лейбниц применил идею «нового творения» («транскреации») в физике удара. Позднее идея творения превращается в версию «первотолчка». Непосредственным стимулом такой трансформации стала физическая проблематика. В условиях земного притяжения закон инерции не допускает непосредственной опытной проверки. Творцам новой механики нужно было объяснить необычное поведение инерционных тел. Перед ними встала трёхаспектная проблема:
В согласии с библейским мифом о сотворении мира был предложен Бог как первая динамическая причина (первотолчок). Для нас как представителей науки XX века ошибочность такого решения несомненна и очевидна. Но в культуре XVII века оно было Идея первотолчка стала ядром деистического мировоззрения. По сравнению с ортодоксальной теологией оно дало учёным существенную прибавку в теоретической самостоятельности. Но учёные Вхождение вненаучной культуры в науку «законно» лишь в контексте предпосылочных норм. Хотя в нём мифы, эзотерические и религиозные элементы оценивались как особые иррациональные формы, их привлечение признавалось правомерным. Обязательным условием рационализации выступала концептуальная обработка в роли проблемного материала. История науки показывает, что вненаучные заимствования из герметической и религиозной культур свелись в основном к содержательным видам. Особого влияния на стиль научного мышления они не оказали. Научные принципыВ научном познании следует, прежде всего, чётко обозначить два уровня творчества. Деятельность теоретика «делится на две части. Он должен, На фоне мировоззрения положение принципов научной теории тяготеет к некоторой однозначности. Такая тенденция особо наглядно представлена математикой. Когда Евклид завершил работу своих предшественников и создал первую теоретическую геометрию, то никто из учёных его времени и последующих периодов не усомнился в истинности аксиом и постулатов. Они обладали интуитивной ясностью и логической нормативностью. И тем не менее здесь было некоторое исключение в виде аксиомы о параллельных прямых, её неочевидный характер смущал некоторых учёных. Уже древние геометры (Посидоний, Прокл) и арабские учёные (Назир-Эдлин) пытались представить её теоремой и вывести как следствие из других аксиом. В XVIII веке попытки возобновились, но увенчались успехом лишь в XIX веке. Усилиями Высшие виды научного творчества связаны с «нахождением принципов», то есть с формированием новых теоретических предпосылок или фундаментальных методов. Данный процесс А. Эйнштейн считал самым трудным и сложным. Его особенности наиболее рельефны на фоне дискурсивно-дедуктивного мышления. Если последнее начинается с общих оснований и заканчивается частными следствиями, то «принципиальное мышление» (В. Гейзенберг) исходит из эмпирических знаний и завершается теоретическим концептом. Дедуктивные построения отличаются строгой логической упорядоченностью, производство же предпосылок протекает в условиях значительного ослабления логических и других норм-запретов, ведущего к росту стихийно-хаотических движений. Если первый вид отводит чувственности роль внешней языковой формы, то во втором её функции существенно расширяются и психическое становится содержательным элементом самого мышления. Входя в его состав, оно разрушает логические связи-стереотипы и порождает новые операциональные формы типа свободных ассоциаций, спонтанных скачков и смысловых диффузий. Такое мышление, реализующее в поисках новых методов «свободную игру сущностных сил» (К. Маркс) сознания, обозначим термином «креативное мышление». Его смысл целесообразнее раскрыть через такие формы творчества как воображение и фантазию. Нахождение нового принципа является одной из высших форм теоретического творчества. Общей и единой особенностью здесь является лишь то, что обязательным предварительным этапом выступает получение результатной формы решения проблемы. Только вчерашний продукт может стать сегодняшним принципом, обратный процесс просто невозможен. Формы же обращения когнитивного результата в принцип чрезвычайно разнообразны. В поиске нужного принципа нет Выдающиеся учёные-теоретики дали реальные образцы угадывания перспективных принципов. Рассмотрим одну из страниц истории физики. Эмпирический факт равенства инертной и гравитационной масс в определённой мере был известен уже Г. Галилею. Приобретя широкое экспериментальное подтверждение, он не получил теоретического объяснения в рамках классической механики. Неудачными оказались попытки связать данный факт с эфирно-механической моделью гравитации (Лесаж) и электродинамикой (К. Лоренц). В эту деятельность включился и А. Эйнштейн. Удивительно высокая точность в равенстве значений масс и обилие неудачных попыток объяснения убедили его в фундаментальной значимости соотношения масс. Когда и специальная теория относительности не смогла справиться с загадочным фактом, учёный решился на удивительную метаморфозу. Эмпирический факт как предмет объяснения он превратил в исходную и теоретическую идею. Здесь произошли две качественные перемены: а) эмпирическое стало теоретическим; б) конечное положение объясняемого предмета уступило место начальной идее. Вместо установки на объяснение на арену вышла теоретическая вера в перспективный метод. На такое способно только гениальное воображение. Идею равенства масс Эйнштейн в дальнейшем превратил в принцип эквивалентности и сделал основой общей теории относительности (ОТО) со всей её сложной архитектоникой концептуально-математических ходов и следствий. 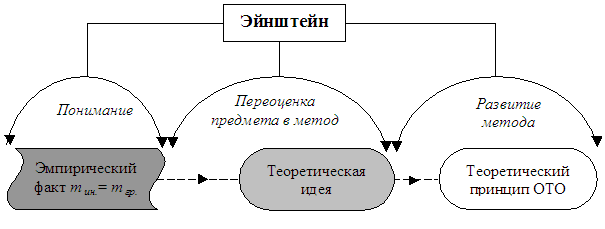 Этап производства следствий из принципа Эйнштейн считал относительно простым, 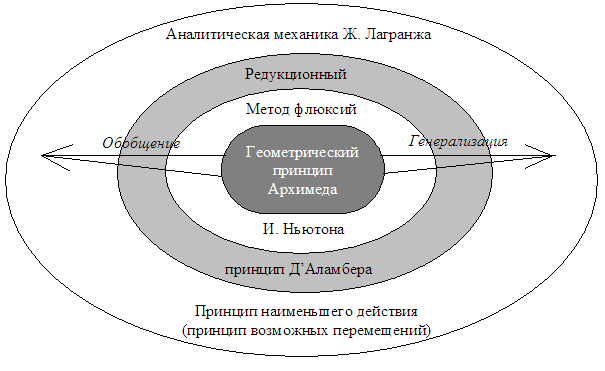 1.2. Операции и правила исследованияОперациональный уровень методаДинамичность методу придают операции и процедуры. Представители когнитивной науки ввели деление знаний на декларативные и процедурные. Если первые информируют об изучаемом объекте в виде идей, принципов и теорий, то вторые не дают истинностной картины внешней реальности, ибо сводятся к сугубо внутренней динамике интеллекта. Такая дихотомия имеет прямое отношение Уже древние мыслители обратили особое внимание на динамичность разума и дали разнообразие объясняющих учений. Позиция Аристотеля оказалась более всего созвучной современной методологии. Хотя Стагирит отдал исследовательские предпочтения логическим действиям (анализ, синтез, абстрагирование, определение, построение силлогизма и тому подобное), в его трудах дано описание почти всех основных и классических интеллектуальных операций. Позднейшие мыслители не могли не встраиваться в эту традицию. Новое время утвердило оппозицию к взглядам Аристотеля, но радикализм его представителей не был однозначным. Бэконовская теория индукции во многом согласуется с перипатетическим учением о наведении и расходится лишь утвердительным отношением к эксперименту. То, что писал Р. Декарт о дедукции, полностью встраивается в аристотелевскую теорию умозаключения. Существенный отход от парадигмы Стагирита произошёл в классической немецкой философии, выработавшей качественно иные философемы сознания и познания. Начало этому положил кантовский трансцендентализм, который ввёл целую группу неизвестных ранее операций: аналитические — синтетические, рассудочные — разумные, догматические — критические. Философы XX века преимущественно разрабатывали кантовскую стратегию, делая упор на процедуры рефлексивного сознания (феноменология, философия языка, эпистемология науки). Интеллектуальные операции суть продукты практикиТеоретическое осмысление феномена операциональности заняло важное место в творчестве Ж. Пиаже. Он полагал, что операции интеллекта — это практические действия, перенесённые внутрь и скоординированные в систему [134]. Идея интериоризации объединила его с Связь между научной теорией и исследовательской практикой авторы преувеличили, хотя у неё есть явные границы. Данная зависимость реализуется на этапе становления теории из эмпирии и на ступени инструментального обслуживания эмпирического опыта объяснениями и предсказаниями. Но у теории существуют самостоятельные состояния, когда она пребывает в форме результативного знания и участвует в чисто теоретической деятельности (концептуальное обоснование, теоретическая критика, установление соотношений с другими теориями). С учётом данного разнообразия следует внести должные коррективы в рассуждения 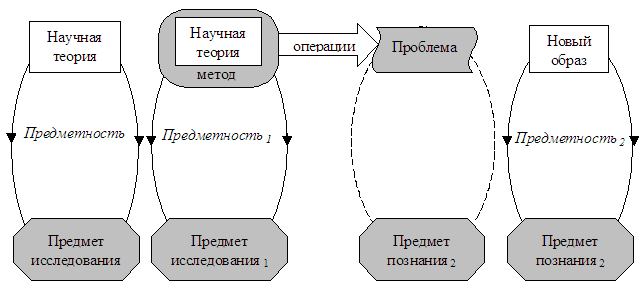 Операции двойственной группировкиСуществует великое множество операций интеллекта и следует признать обилие видов группировки, отражающих свободу авторских предпочтений. Через все варианты в качестве сквозного проходит деление на две группы. Такой способ реализовал уже Ж. Пиаже в виде различения конкретных и формальных операций. Если первые характеризуют динамику эмпирических образов, то вторые представляют богатство ходов логического мышления. Логические операции в каждом случае образуют целостную систему, где демонстрируют обратимость противоположных направлений: прямой (анализ и тому подобное) и обратной (синтез и тому подобное) векторности. Редукция абстрактной операциональности к логическим действиям выглядит ныне весьма архаично. Современные авторы предпочитают здесь говорить о широкой картине рациональной деятельности, где логическая активность составляет лишь некоторую часть. Так, по мнению П. Бернайса, рациональные действия суть всё то, что обеспечивает человеку рост понимания:
Дж. Гилфорд выделил пять типов операций:
Казалось бы, ни о какой двоичности здесь говорить не приходится. Однако если внимательно оценить данную классификацию, то можно получить неожиданный вывод. Под «познавательным» типом Гилфорд скорее подразумевает научное исследование. И такую рубрикацию можно безболезненно удалить на фоне поиска универсальной схемы. Что касается «оценки», то здесь можно предположить операции сравнения со стандартами и образами, что нужно в актах проблематизации и оценки результата. У нас же речь идёт о процессе решения проблемы. Если «оценку» идентифицировать с ценностно-мировоззренческим познанием, то её игнорирование будет того же порядка, что 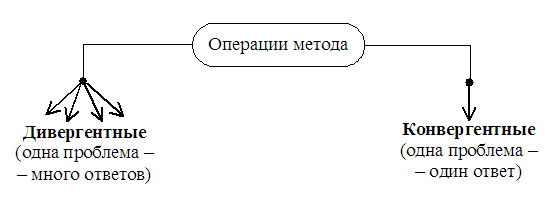 Х. Ортега- 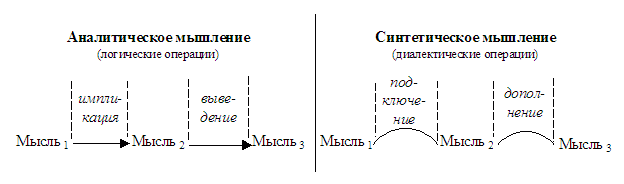 Операции начального изучения объектаВ любой познавательной ситуации человеку противостоит бесконечно сложная реальность. Всякое исследование здесь вынуждено заниматься упрощением, сведением сложного к необходимым простым элементам. В науке этот процесс называют исследовательским моделированием и его ведущей операцией считается анализ. Первой областью приложения является эмпирическое познание, что хорошо описал Б. Рассел. Сначала интересующая нас реальность появляется как смутное целое в виде многообразия чувственных Анализ всегда сочетается с абстрагированием. Если дело сводится к разделению целого на части, то выделение особой части и её фиксация в относительно самостоятельном виде составляют содержание абстрагирования. Хотя Рассел декларировал «портрет» одного анализа, фактически он описал взаимосвязь двух операций. Существуют разные формы абстрагирования. Изолирующее абстрагирование выделяет нужную часть и полностью отвлекается от всего остального, что делает часть самостоятельным когнитивным элементом, или абстрактным объектом. Исходные абстракции любой теории рождаются в горниле изолирующего абстрагирования. Так, становление античной теоретической геометрии началось с формирования таких идеальных объектов, как «точка», «линия», «плоскость» и так далее. Для любого учёного-теоретика изолирующее абстрагирование выступает ключевым приёмом. Друзья и ученики российского физика, теоретика-космолога Критерии различения абстракций могут быть разными. Так, Ж. Пиаже предложил классификацию из трёх видов: эмпирическая, отражающая и рефлексирующая. Критерием здесь выступает степень интериоризации. Эмпирическая абстракция полностью её лишена, ибо заключается в оперировании физическими объектами. Отражающая абстракция выражает интериоризованные операции двух видов:
Рефлексирующая абстракция состоит в том, что полубессознательные операции ретроспективно тематизируются и тем самым осознаются в качестве будущих инструментов [140]. Анализ и абстрагирование как формы инфинитизацииТакой тезис прослеживается в исследовании Э. Гуссерлем истоков теоретической геометрии. По оценке Ж. Деррида, инфинитизация у древних греков сочетала в себе ограничение и расширение [141]. Если первое сводилось к выбору определённых групп фактов и их свойств (анализ и абстракция), то второе заключалось в преодолении фактической конечности (идеализация и обобщение). Первый этап инфинитизации прошёл в рамках донаучного жизненного мира. Различные виды практики, осваивавшие земное пространство (земледелие, строительство, ориентация на местности и тому подобное), произвели первичные абстракции в виде эмпирических образов измерения расстояний, площадей и объёмов. Свойства пространства здесь смешивались с практическими способами измерения. И тем не менее это был материал данных, где бесконечное богатство реальности было заменено набором конечных образов с потенциалом развития. На втором этапе инфинитизации в дело вступили учёные-теоретики, которые к эмпирическому предмету применили разнообразные логические операции. Практические образы были преобразованы в абстрактные понятия и идеальные объекты: «точка», «прямая», «окружность» и тому подобные, а также появились понятия геометрических операций: «провести линию», «построить фигуру», «разделить на» … и тому подобные. Эти понятийные ресурсы стали основой становления геометрии как первой формы научно-теоретической системы. Операции сравнительного методаПри накоплении некоторого множества родственных абстрактных объектов рано или поздно возникает задача установления их взаимных отношений. И здесь на повестку дня выходят операции сравнения. Апофеозом сравнительного метода в науке считается XIX век, когда оформился целый ряд дисциплин: сравнительная биология, сравнительное языкознание и тому подобное. Многие философы не могли пройти мимо такой тенденции, отмечая особые достоинства метода сравнения. К. А. Сравнительный метод не заключается в
С операции сопоставления начинается действие сравнительного метода, но нельзя забывать о том, что его предпосылкой выступает проблема. В зону вопрошания попал То, что сравнительный метод представляет собой систему операций, подтверждают многие примеры из истории познавательного творчества. Если взять техническое изобретательство, то здесь проблемной стороной выступает проект устройства, в котором превалируют целевые признаки и не хватает структурно-функциональных свойств. Так, в сознании английского изобретателя Дж. Уатта ( Научное сравнение мало — чем отличается от изобретательства. Здесь происходит та же последовательность операций с той лишь разницей, что вместо технической задачи выступает исследовательская проблема. Выделим этап формирования идей эволюционной теории. У Ч. Дарвина и А. Уоллеса стоял один вопрос: «Какие причины порождают изменчивость видов жизни?» При чтении книги Т. Мальтуса сопоставление установило соотношение между меняющимися видами жизни и человеческим народонаселением. Аналогия выделила у последнего значимые признаки:
В ходе экстраполяции возникли гипотезы:
Объяснение огромного множества фактов и успешное предсказание новых данностей подтвердило истинность гипотез. Тем самым была достигнута высокая степень генерализации, теория эволюции охватила три группы жизни: растения, животных и человека. 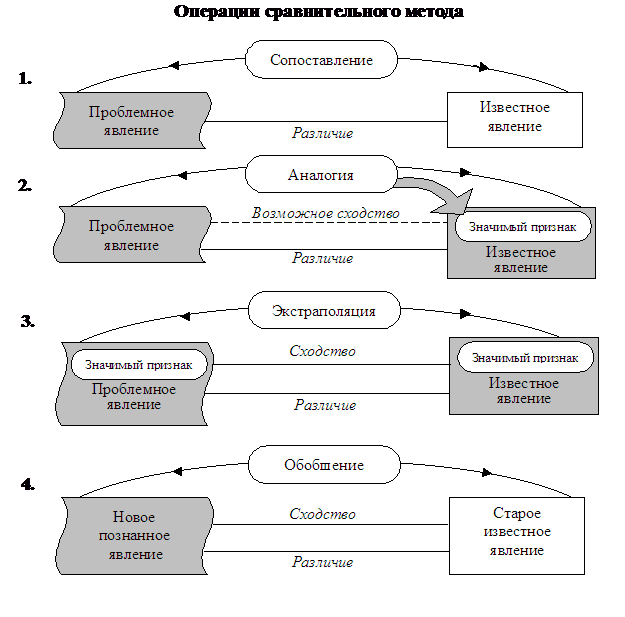 Операции и научные процедурыЕсли операции просты, формальны и могут быть самостоятельными, то процедуры сложны своей связью с содержательными теориями. В современном специализированном лексиконе применительно к мышлению используются различные термины: действия, операции, приёмы, акты, процедуры. Ясно здесь лишь одно, что речь идёт о различных формах единой процессуальной стороны интеллекта. Для смыслового единообразия ограничимся двумя разновидностями: операциями и процедурами. Если первые относительно просты, то вторые отличаются большей сложностью. При всей условности такого деления, оно имеет разумное оправдание. В силу своей простоты операции не имеют тесной связи с содержательными знаниями. Они могут существовать в виде изолированных, самостоятельных и универсальных форм таких, как анализ, синтез, абстрагирование и тому подобное. Малосодержательность как раз и позволяет операциям быть формальными и обратимыми, на что и указывал Ж. Пиаже. Так, обобщение само по себе легко переходит в свою противоположность — в ограничение. По мнению А. Чёрча, простые и неинформативные операции очень близки в математической логике к неопределяемому понятию «функция». В природе же всякой функции лежит свойство быть применённой к некоторой предметной области определения как к множеству аргументов [144]. С таким пониманием солидарен и Я. Стюарт. Все формальные преобразования являются разновидностями логико-математических функций. Такая функция состоит из трёх частей:
В силу своей функциональной простоты операции хорошо моделируются техническими информационными системами. Итак, синонимами операций будут действия и акты, если им присуща относительная простота в виде формальности или отсутствия содержательных знаний. На этом фоне главная отличительная черта процедур — связь с содержательными когнициями, от которой отвлечься никак нельзя. К процедурам научного мышления можно отнести процессы этапа «детства» химии — алхимии. Так, Альберт Великий ( Понимание — ключевая процедура гуманитарного мышления. В середине XIX века в западной культуре наступил явный прогресс в гуманитарных науках, оживились традиционные дисциплины (история, экономика и тому подобные) и возникли новые (психология, социология, лингвистика и другие). Возникла ситуация сравнительного осмысления методов естествознания и инструментов гуманитарного познания. И здесь представители последнего заявили несколько позиций. Самую радикальную точку зрения высказал Ф. Ницше, который обесценил все естественные науки. Никаких объективных фактов нет, «факт в себе» есть бессмыслица. И если естествознание кичится тем, что оно описывает и объясняет «факты», то это иллюзия. Человек познает то, что определяют его потребности, а они задают ценностную перспективу (полезно — вредно). Стало быть, всякое познание есть изобретательное истолкование и интерпретации. Умеренную позицию заняли неокантианцы, выдвинув оппозицию «объяснение — понимание». Описание и объяснение являются ведущими операциями объективирующего метода наук о природе. Ключевой операцией субъективирующего метода выступает понимание чистой ценности. Только после того, как мы поняли ценность культуры в её историческом многообразии, можно истолковать смысл нашей жизни. Если гуманитарные науки и искусство занимаются пониманием ценностей, то философия кроме этого традиционно брала на себя процедуры истолкования смысла. Налицо разделение труда: наука вооружена операциями, ориентированными на объективную действительность, а мировоззрение развивается приёмами, исходящими из субъекта. 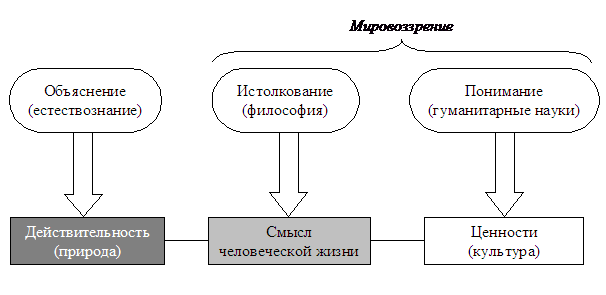 Теме «смысл и понимание» придал оригинальное освещение российский философ При всём разнообразии трактовок процедуры понимания у неё есть ряд общепринятых признаков. Истолкование научных текстовСвоеобразные черты имеет понимание текстовой культуры, что и стало основанием для конституирования понятий «истолкование» и «интерпретация». Их значения сформировались в рамках герменевтики, где основным предметом понимания выступает текст как система смысловых значений, воплощённых в письменной форме языка. Здесь предполагается, что текст создан автором с соблюдением норм языковой, логической и дисциплинарно-тематической видов культуры. В зависимости от степени сложности тематического содержания устанавливается уровень трудности (зашифрованности) понимания текста в актах чтения. Это означает, что часть текста воспринимается сразу, а другая часть остаётся временно закрытой для понимания, что и делает текст в целом проблемным. Если речь идёт о тексте, пришедшем из исторического прошлого или из другой этнической культуры, или о специализированном тексте, то можно выделить три категории субъектов понимания текста, или интерпретаторов:
Хотя трудности истолкования у каждого интерпретатора встают свои, в них можно найти и нечто единое, что и пытались представить философы герменевтического направления. Вплоть до XX века герменевтическое истолкование расценивалось в виде особого искусства, где сочетаются чувственные и рациональные усилия. Если последние сводились к интеллектуальной реконструкции единиц текста и выделению общей логики, то первые заключались в процессе «вживания» в психический мир автора. При этом чувство имело приоритет над мыслью. С доминированием психологических приёмов в процедуре истолкования покончил М. Хайдеггер. Конечно, его позиция далека от рационализма, но она несовместима с утопической охотой на прошлое, где из настоящего читатель пытается переместиться в глубины истории. Единственной почвой читателя древних текстов остаётся время в модусе современности, и это означает наличие дистанции между смысловым горизонтом текста и горизонтом интерпретатора. Её можно представить в форме переплетения двух горизонтов, которое оборачивается непониманием смысла текста. Преодолеть дистанцию или, пройти путь к языку как истине текста, можно лишь, пытаясь распутать завязанный узел. Такой путь будет кругом, и только в такой структуре понимания достигается ясный смысл. Расшифровка текста сводится к разбиению путанного целого на смысловые части. Такое структурирование делает пробные шаги — варианты. Как только в тексте начинает проясняться Идеи Хайдеггера были развиты его учеником Последнее замечание Гадамера примечательно в контексте поворота от гносеологизма к новой онтологии, где понимание выступает особым бытийственным актом. И тем не менее нам представляется, что Гадамер нашёл неудачное различение: метод есть чисто гносеологическая категория, акт свершения — онтологическая характеристика. Мы полагаем, что сущность метода универсальна, она имеет как познавательные, так онтические измерения. Все виды человеческих практик в той или иной мере включают в себя инструментальные структуры знаний, осуществляющие решение прагматических задач. Дискурсивные и языковые практики не являются здесь исключением. То, что подразумевали Хайдеггер и Гадамер под «пред-мнением» и «пред-рассудком», можно однозначно считать методом. Он берётся монолитно, без выделения структурных элементов, но ясно, что речь идёт о наличных знаниях, которые мобилизованы в качестве средства понимания текста. Открытость пред-мнений последнему означает пробный характер привлекаемых методов. Герменевт, допустим, выбрал определённые когниции в инструментальной роли и реализовал их, получив соответствующий результат в виде пред-понимания. Оценка соответствия даёт расхождение с ожиданием, сформированным образцами ранее понятых произведений. Делается новое «набрасывание смысла»: выбираются из наличных когнитивных ресурсов новые элементы знания, через новый метод прочитывается это же произведение. Снова оценивается очередное пред-понимание и так до тех пор, пока ожидание-образец не даст знака об отсутствии «зазора» или «дистанции». Гадамер отметил, что старая (религиозная) герменевтика разделяла процесс понимания на три разных приёма: понимание, истолкование и применение. Все три характеризовались как subtilitas (тонкость, ловкость, искусство), то есть мыслились не столько как методы, используемые в роли инструмента, сколько в виде способности, требующей особой духовной утончённости. Позднее романтики выявили внутреннее единство понимания и истолкования. Последнее — это не 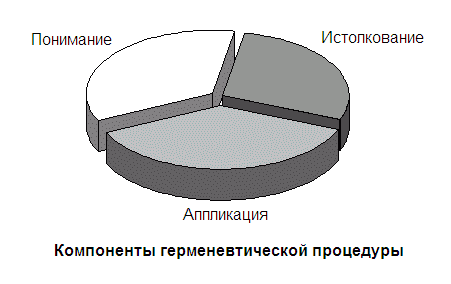 Л. С. Шишкина дала анализ трёх историко-языковых способов работы с текстом:
На первом этапе текст воспроизводится другим текстом, где описывается синтагматика и парадигматика первичного текста. Моделирование реализует акты норматирования текста и позиции выявления порождающих грамматик, что ведёт к созданию метаязыка. На этом основана древнеиндийская «грамматика Панини», которой обязана литература санскрита. Она нормирует текст для ранее выработанного смысла, онтологизируя познавательную модель. «Грамматика Важным приёмом метода моделирования выступает формирование метаязыка. Одним из его вариантов может быть язык маркеров, когда предложениям и их составным частям приписываются «семантические показатели» (маркеры). Последние фигурируют в качестве единиц словаря некоторого искусственного языка. Семантическая интерпретация здесь равносильна правилу перевода с языка-объекта на вспомогательный язык маркеров. В этой процедуре важную роль играет наша языковая компетенция. Главное достоинство такого метода состоит в исключении сложного и непонятного мира Могут ли операции исчерпать содержание любого метода?Утвердительный ответ дал американский физик П. Бриджмен ( Все разновидности операционализма были подвергнуты теоретической критике. В конце концов выяснилось, что редукция метода к операциям страдает односторонностью. Операции сложных видов предполагают наличие содержательных структур знания. Должную схему для операций дают правила. Сами по себе операции не подсказывают то, как следует решать задачу. Эту «слепоту» как раз и устраняют правила. Правила научного методаРечь идёт об одной из форм нормативной культуры. Для всех видов человеческой деятельности существуют некие нормы, имеющие императивность: одни действия разрешаются, а другие запрещаются. Предписания с такой двойственной ролью и есть правила. Возможных операций существует бесконечное множество, и правила определяют выбор только тех операций, которые получили в специализированном сообществе признание в качестве эффективных. Как тип упорядоченного поведения правило несёт прагматический компонент, оно должно быть понято человеком и использовано им в своей деятельности [156]. Поскольку каждое правило связано с группой определённых операций, оно является общей рекомендацией и способом результативно регулировать действия интеллекта. Связь правил с операциями хорошо изучена теорией игр. Правила абстрактной игры показывают, как надо действовать игроку, чтобы перейти из наличной ситуации в целевое состояние. Связь правил с операциями представлена схемой. Ф. Бартлетт определил схему в виде общей установки, которая делает работу памяти избирательной и творческой. В качестве структуры операций схема проходит через все исследования Ж. Пиаже. И современные когнитивные психологи активно используют это понятие. «Схема не только план, но также и исполнитель плана. Это структура действия, равно как и структура для действия» [157]. Виды операциональных схем: неявные образцы и явные правила. Неявная нормативность своеобразна тем, что здесь рациональные действия не осознаются в полном объёме. Интеллект выбирает разумную линию поведения, но отчёта в том, как он это делает, не представляет. Такая стратегия вписывается в концепцию «неявного знания» М. Полани. Многое в своей жизни индивид усваивает через примеры-образцы деятельности. Есть множество ситуаций, когда действия другого человека выступают для нас поучающими, они показывают то, как нужно поступать в данных обстоятельствах. И мы включаемся в этот ритм, пытаясь воспроизвести пример определённой активности. Через серию ошибочных отклонений мы достигаем более или менее удачных повторений. Это означает, что усвоен Нечто подобное происходит
Развитие познавательной культуры идёт в направлении от неписаных образцов к вербальным правилам. Это подтверждается становлением науки из практического познания. Так, во всех древних цивилизациях сведения о количественных измерениях сначала формировались в виде операционных примеров. Затем в Вавилоне и Египте они были обобщены, кодифицированы и предстали в форме словесно-рецептурных правил (папирус Ринда и другие). Нечто подобное происходит
Эти правила не только обобщают личный опыт Малиновского, но и имеют универсальный исследовательский характер. Алгоритмы и эвристикиЯвные правила мышления можно различать по самым разным критериям, и одно из типичных различий — алгоритмы и эвристики. Первые суть чётко сформулированные инструкции, следование которым с необходимостью приводит операции к результату. Большинство логических и математических правил является алгоритмами. Программирование компьютерных информационных систем идёт на формализованных алгоритмических правилах, что даёт обязательность достижения нужного результата. Однако кроме однозначно заданных правил существуют поисковые алгоритмы слепого перебора всех возможных вариантов решения. Здесь поиск идёт по правилу Гюйгенса — равномерный перебор по всем направлениям. Главный минус такой стратегии заключается в игнорировании особенностей решаемой задачи. И тем не менее за счёт быстродействия достигается должный эффект. Сейчас практикуется доказательство сложнейших математических теорем посредством компьютерных программ. Но кроме этого существует весьма широкий класс проблем, которые решаются алгоритмическими методами без компьютеров. От человека требуется особая инструментальная культура… «Умение выполнять алгоритмические процедуры само по себе не представляет ценности: важно умение применять их к конкретным задачам» [160]. Если алгоритмы диктуют чёткие действия, то эвристические правила отличаются «размытыми» и относительно неопределёнными значениями. Их использование приближает к результату, но искомого решения не гарантирует. Эвристики представляют собой эмпирические максимы, обобщившие некий практический (здравый) смысл. В качестве примеров правил такого рода выступают следующие формулировки: «если потерял очки в тёмной аллее, то ищи их под фонарём», «выбирайся из лабиринта с помощью правила правой руки или падающей капли». Кроме общих эмпирических правил есть эвристики, учитывающие конкретные особенности задачи для существенного сужения области поиска решения. Так, Н. Нильсон разработал метод, использующий эвристическую функцию для построения кратчайшего пути на графе. Здесь фронт поисковой волны направлен на цель, примерно так действует человеческое сознание при выборе маршрута. Подобного рода эвристики используются в информационной бионике [161]. В науке эвристики чаще всего дополняют основной гипотетический метод. Типичной эвристикой такого вида является «золотое правило» Ч. Дарвина — следует особо тщательно фиксировать те наблюдательные факты, которые противоречат собственной гипотезе. Здесь учитывается реальная когнитивная особенность, которая заключается в том, что сознание предпочитает положительно относиться к фактам, подтверждающим авторское предположение, а контрфакты легко выпадают из памяти. (Народная мудрость на это намекает поговоркой «своя рубашка ближе к телу».) Данное правило помогло действию ведущих гипотетических идей — положения о расширенном воспроизводстве единиц жизни на фоне ограниченности жизненных ресурсов и других. В масштабе больших периодов исторического времени многие эвристические правила обретают альтернативных двойников. В ходе критических сопоставлений устанавливаются непростые отношения дополнительности. Так, в XIV веке У. Оккам сформулировал правило простоты: «Бог — гениальный творец, всё гениальное — просто, значит, все сложности в познании идут от человека. Поэтому в любой области мысли нужно стремиться к максимальной простоте и отсекать надуманные сущности». Позднее «бритва Оккама» потеряла религиозную основу, но сохранила статус общенаучного императива. Однако примечательно, что ныне правило простоты уравновешено «призмой К. Менгера», согласно которой нужно стремиться разлагать кажущуюся «простоту» на некие скрытые составляющие. Здесь проявилась та взаимодополнительность норм, которая характерна для развитого методологического уровня мышления. Для одних задач действенна бритва Оккама, для проблем другого плана используется призма Менгера, но в целом они вписаны в единое нормативное пространство науки. Это означает, что нет единственного набора правил, годного для любого исследования. В каждом проблемном случае учёный вынужден выбирать особые нормы и формировать конкретный своей целостности метод. Финский методолог Я. Хинтикка считает, что существует два вида правил любой деятельности поиска знаний: а) «определяющие» Некоторые эвристические правила способны развиться в теорию. Все явные правила представляют собой эмпирические обобщения как опыта субъектной деятельности, так и объективной реальности. Сначала они возникают в виде описывающих генерализаций, то есть особых результатов познания, в дальнейшем они начинают приобретать инструментальную роль и становятся правилами метода. Однако на этом их развитие может не закончиться, в соответствующей ситуации они могут стать предметом концептуального обобщения и превратиться в Установлено, что основные элементы шахматной теории возникли ещё до новой эры. Но то, что считается «теорией», на самом деле является набором эмпирических правил типа «в эндшпиле старайся максимально продвинуть пешку-кандидата». Наряду с элементарными алгоритмами у шахматных мастеров действуют многообразные эвристические рекомендации, определяющие их эффективные стратегии. Многие великие гроссмейстеры внесли вклад в дело описания, формулировки и кодифицирования правил. Здесь выделяются замечательные разработки  Итак, метод выступает необходимым средством решения проблемы. Эта роль обеспечивается его содержательными компонентами в виде теории, правил и операций. Ведущее место принадлежит первым двум элементам, ибо они имеют истинностное отношение к изучаемому объекту. Разнообразие инструментальных структур определяется тем, что лишь операции являются обязательными компонентами метода. Теория и правила могут редуцироваться до весьма абстрактных когниций и даже отсутствовать. Следует признать, что не существует универсального метода, любая проблема вызывает к жизни весьма своеобразный по своему содержанию и роли инструмент. 2. Творческие процессы формирования метода и его инструментального действияМетод как путь решения проблемыПроблема инспирирует мобилизацию инструментальных ресурсов. Как таковой метод мышления не относится к заданным раз и навсегда образованиям. Его реальное бытие начинает складываться лишь тогда, когда поставлена некоторая проблема. Только она вызывает к жизни то средство, которое способно определить её решение. Если задача является в своей сути традиционной, то формирование метода происходит быстро по привычной процедуре. Ситуация усложняется в тех случаях, когда проблема отличается радикальной новизной. Однако при любом положении акт мобилизации метода следует во времени после проблематизации. Некоторые авторы такую последовательность игнорируют. В середине XX века между К. Леви-Строссом и В. Проппом завязалась творческая дискуссия, которая коснулась и понимания способа научного мышления. Французский исследователь полагал, что российский учёный сначала увлёкся идеями языкового структурализма, а уже потом нашёл им область применения в виде народных сказок. С такой версией В. Пропп не согласился. К. Леви-Стросс полагает, что у учёного сперва возникает метод, а потом он ищет ему сферу приложения. Это не так. В своё время В. Пропп заинтересовался сказками и стал изучать тексты Конечно, самому исследователю виднее то, как развёртывался его поиск. И описание В. Проппа полностью соответствует нашей стратегии. Сначала шло вхождение в мир русских сказок, и они стали превращаться в проблемный материал. Здесь важно замечание В. Проппа о том, что его метод связан с идеями Гёте и том, что в разнообразии природы и человеческого творчества следует искать единые и общие законы [165]. Данное положение явилось методом проблематизации, следствием которого стала исследовательская проблема — каковы закономерные формы волшебных сказок? Методом решения выступила идея выявления в сказочном разнообразии сюжетных ходов немногих общих функций и структур Хотя версия К. Леви-Стросса не оправдалась в отношении В. Проппа, она имеет свой рациональный смысл. История творчества полна примеров того, как сначала креатив осваивал некую идейно-теоретическую структуру и позднее находил для неё соответствующие инструментально-проблемные возможности. Но всё равно при этом «первичность» сопряжена не с методом, 2.1. Условия инструментальной открытостиФормирование метода связано с особой процедурой выбора. Аристотель полагал, что если логическое рассуждение («соображение») выстраивает конструкции из готовых результатов, то советующая способность ума производит нужную селекцию. Говоря современным языком, интеллект способен оценивать когнитивные ресурсы, взвешивать их потенциальную инструментальность и выделять из всего репертуара методов наиболее предпочтительные для данной проблемы. Все эти действия укладываются в оценивающую активность разума, где есть место воображению и догадке. Веровательные установки опыта могут навязать мышлению «инструментальный догматизм». «Индивидуальному сознанию свойственно как разворачивать свою творческую деятельность, так и сводить её к минимуму. Назовём самый нижний уровень селективной активности слепым принятием старых методов, или «инструментальным догматизмом» (ИД). Суть такого процесса сводится к привлечению прежних методов без взвешивания и без аналитического сравнивания их ролевых возможностей. Французский исследователь О. Доснон предпочёл иную терминологию — «стереотипизация старой стратегии» — и для объяснения эффекта привлёк механизм работы памяти. Нормальная деятельность памяти сочетает воссоздание прошлого опыта из образцов и интерпретаций с реконструкцией когнитивного опыта. В стереотипическом режиме есть первое и отсутствует второе, что демонстрируют многие опытные и пожилые люди [166]. Обращение к действию памяти 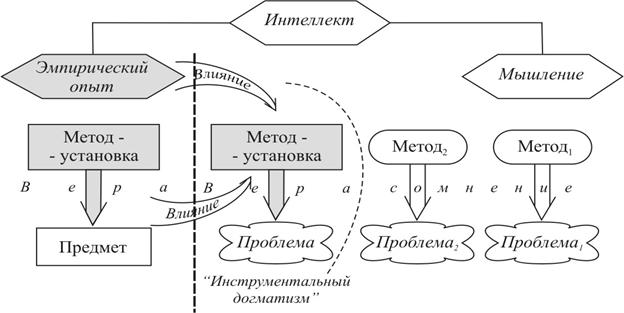 Чрезмерное действие веры ведёт к инструментальному догматизмуВ явление стереотипизации методов свой вклад вносят не только эмпирический опыт, но и процессы ментальной психики. Одним из общих состояний является вера, в науке она закрепляет не только результаты, но и содержание методов. Как правило, учёный предпочитает старые подходы новым стратегиям, тем более, если первые неоднократно показали свою плодотворность. В своей норме сознание тяготеет к привычным действиям и ходам мысли. Если Действие веры распространяется и на новые идеи. Если возникает новаторская идея Динамика распространения новых убеждений направлена от личностных установок к интерсубъективным методам. Если гипотеза покоряет смутными достоинствами своего творца, то для других она длительное время может оставаться сомнительной. Лишь теоретическое обоснование делает нововведение достоянием других исследователей. Так, в исследованиях электричества О. Хэвисайд разработал «экстравагантные» методы решения расходящихся рядов. Они были исключительно плодотворны, но с точки зрения математики своего времени (конец XIX века) считались «незаконными». Впоследствии подходы Хэвисайда были обоснованы теоретически и получили общее признание. С верой связаны как позитивные, так и негативные формы. Механизм выработки личной уверенности может функционировать в «слепом» режиме и продуцировать внешне заданные верования (доверие к научному руководителю, традиции исследовательской школы, вненаучные влияния и тому подобное). Такой стиль чреват принятием и закреплением ошибочных методов. Примечательно свидетельство английского физика Оптимальный союз веры и сомненияКультура научных убеждений строится на тонком сочетании авторитетности и критичности. Учёный не может сомневаться во всём и значительный массив обоснованных знаний он вынужден принять за несомненный базис. Но чрезмерная установка на научные авторитеты снижает уровень творчества: «Убеждённость — это хороший двигатель, но плохой регулятор» (А. Эйнштейн). Вот почему исследователю важно найти разумное ограничение авторитетности в виде критического анализа. Концептуальные сомнения в начале должны вести к надёжным убеждениям в конце. Если взять такое начало как метод, то отношение учёного к нему должно объединить уверенность и критическое сомнение. Каждая из этих ценностных модальностей В историко-научной и методологической литературе фигурирует деление учёных на «творцов» и «критиков». Получается, что учёный с ярко выраженным критическим мышлением испытывает недостаток в творческих способностях. К каким же фактам апеллируют сторонники такой концепции? В качестве типичного «критика» представлен физик-теоретик П. Эренфест ( Научное творчество подчиняется целой системе норм и идеалов, на каждом этапе действуют свои критерии. Если один или несколько учёных выдвинули оригинальную теоретическую гипотезу, то это всего лишь начало её развития. В виде текста она вовлекается в критическое обсуждение со стороны научно-дисциплинарного сообщества. Если становящаяся теория в основе своей истинна и перспективна, то учёные в роли критиков находят слабые места, вносят дополнения, уточнения и тем самым участвуют в процессе её совершенствования. Как только П. Дирак опубликовал свою первую работу по квантованию электромагнитного поля, Эренфест указал на её главное концептуальное противоречие — модель точечного электрона приводит к бесконечным значениям собственной энергии. Это затруднение определило важную перспективу развития теории и Эренфеста здесь безусловно надо считать сотворцом. Таким образом, деление учёных на творцов и критиков весьма условно и относительно, ибо критика пронизывает основные этапы научного познания. Типичными считаются ситуации, когда при объяснении одного и того же эмпирического материала возникает несколько теоретических гипотез. В рамках выбора наилучшей версии и его «теоретического оправдания» (Эйнштейн) ведущая роль принадлежит критике. Все конкурирующие предположения требуется оценить на предмет наличия в них концептуальных изъянов и достоинств. Если решается фундаментальная проблема, то среди учёных определённой дисциплины может надолго установиться состояние взаимной критики. Отношение исследователя к критике его идей определяется не только духовной культурой, но и особенностями его психики. Они могут влиять даже на методологические предпочтения. Так, негативная позиция Ньютона к теоретическим гипотезам частично объясняется чертами его психического облика. Учёный болезненно воспринимал критику своих работ. Гипотезы же более уязвимы для критики, чем эмпирически сконструированные принципы, отчасти поэтому Ньютон ставил принципы выше гипотез. Нормы современной научной культуры ориентируют учёного на терпимое отношение к критике, но это отнюдь не исключает возможных отклонений личностного порядка. Столкновение критических потенциалов может иногда создать иллюзию спора альтернативных решений, хотя позднее открывается связь дополнения. Такова история борьбы корпускулярной и волновой теорий света. Но и здесь взаимная критика способствовала творческим открытиям. Так, О. Френель выявил скрытые противоречия теории подвижной поляризации (Ж. Био), разработанной в рамках корпускулярной гипотезы. С другой стороны, С. Пуассон указал на серьёзные пробелы волновой теории: отсутствие «обратной волны» и трудности с объяснением двойного лучепреломления. Это стимулировало Френеля выдвинуть перспективную гипотезу о поперечности световых волн [168]. Критические способности теоретика вовлекают в научное творчество мировоззренческие категории. Играя роль общих оценочных критериев, они повышают уровень критического анализа. Достоинства мировоззренческих методов могут иногда даже компенсировать неполноценность дисциплинарных аргументов. Так, неприятие М. Фарадеем контактной теории электричества во многом оказалось неправомерным. Но в этой критике сформировались ценные доводы мировоззренческого содержания («сотворение силы из ничего невозможно», «эквивалентность причины и следствия», «превращение сил друг в друга»). Они детерминировали открытие Фарадеем закона сохранения и превращения энергии в форме, не уступавшей формулировке Майера ни в широте, ни в определённости. Предметом критических сил становятся мировоззренческие понятия, пришедшие в науку извне. Такие ситуации вызываются появлением новых фундаментальных теорий, которые вступают в противоречия с элементами НКМ и философии. Критика выступает здесь средством восстановления единства мировоззрения с научными знаниями. Этим занимаются как философы, так и исследователи, при чём выводы ведущих учёных могут по времени значительно опережать философские оценки новых открытий. К примеру, как только оформились первые версии неевклидовых геометрий, их творцы сразу поставили вопрос о пересмотре отношения к кантовской концепции пространства. Её априоризм критиковал История науки демонстрирует сложные формы связи между новыми фактами, теориями и старым мировоззрением. Одна из них представлена некритическим отношением учёного к собственным убеждениям. Чаще всего оно маскируется тенденцией сохранения и защиты мировоззрения как такового. Нарастающий поток новых знаний и методологические кризисы вызывают у субъекта науки желание обрести прочную идейную основу. Защита фундаментальных убеждений от псевдокритической эрозии — важная черта мировоззренческой культуры учёного. Когда махисты попытались дискредитировать молекулярно-кинетическую теорию и связанный с ней материалистический атомизм, то отстаивание этих взглядов представителями физического материализма стало ценным вкладом в науку. Мудрым и дальновидным оказалось убеждение Л. Больцмана в правильности атомистической концепции: «Я совершенно уверен, что её основная линия никогда не исчезнет из естествознания» [170]. Но определение значимых и устойчивых элементов мировоззрения является сложным делом, где ошибки в выборе оборачиваются защитой заблуждений и догматической стагнацией убеждений. Так, английский химик Г. Кавендиш ( Стереотипизация знаний в форме убеждений имеет негативные и позитивные последствия. Последние обусловлены необходимостью сохранения ценного содержания сознания, которая породила соответствующие структуры (память и тому подобное). По мнению Защита мировоззрения от критических изменений может принимать форму сознательного отвлечения от связи между ним и научным открытием. Хотя частные новообразования явно противоречат убеждениям учёного, он может игнорировать их несоответствие. Вместо взаимодействия двух областей сознания в этом случае устанавливается нейтральное сосуществование. Такая тактика позволяет исследователю, хотя бы временно, избежать острого духовного конфликта и сохранить силы для творчества. Так, размышляя над алгебраической проблематикой, Л. Кронекер ( Хотя дисциплинарные и философские убеждения весьма устойчивы, всё же основная линия связана с их изменениями. Кризис доверия к одним мировоззренческим основаниям и вера в другие формируются в критическом контексте. Для исторически развивающейся науки характерна тенденция сокращения периодов переоценки фундаментальных убеждений. Если в прошлом такие смены протекали нередко за века, то ныне за десятки лет. Показательна мировоззренческая эволюция физиков XX века, описанная М. Борном. В 1921 году вместе со своими коллегами он был убеждён в том, что природа подчиняется лапласовскому детерминизму, а научный метод не может быть дополнен средствами философии и искусства. Но Инструментальный догматизм как следствие рациональной «нагруженности» чувственностиВ эпистемологической литературе данное явление хорошо описано. Оно имеет позитивную сторону (единство чувственного знака и рационального значения) и негативный аспект. Последний выражен тем, что знание накладывается на материал чувственности без размышлений или автоматически, что чревато ошибкой. Прежде всего, здесь нарушается соответствие метода содержанию проблемы, то есть происходит субъективизация средства решения, навязывание познаваемому предмету чуждого ему орудия. В таких случаях обычно говорят о предвзятом подходе. Весьма диалектично субъективизация оборачивается в свою крайность — в несвободу мыслителя по отношению к проблемному материалу. Загнав себя в одну колею мысли, интеллект тем самым попадает в зависимость от предмета («что»). Он лишён свободы выбора, так как не отдалён от проблемного материала некоторой «дистанцией», пребывая внутри него и подчиняясь его специфическим особенностям. На это указывают А. Страусс и Д. Корбин, делясь опытом обучения социологическому исследованию. Начинающие изучение курса студенты часто так поглощены данными, с которыми они имеют дело, что те зачаровывают их, и они не могут от них освободиться. Умению свободно «раскрывать» смысл социологических данных приходиться учить с помощью специальных техник [171].  2.2. Креативное воображение в научном гипотезированииГипотезирование: свободная селекция методов как условие инструментальной активностиВ ситуации выбора метода из всего концептуального многообразия учёный вынужден выделять определённые фрагменты. «Мудр тот — кто знает нужное, а не многое» (Эсхил). Если уподобить проблему закрытому замку, то учёный находится в положении человека, держащего в руках большую связку ключей и пытающегося подобрать нужный ключ. Реальная исследовательская сложность заключается в том, что на элементах знания нет ценностных ярлыков и выбор нельзя свести к простому перебору. Конечно, в науке существуют стандартные процедуры. Обращаясь к своему прошлому исследовательскому опыту, учёный сравнивает ранее решённые задачи с актуальной проблемой. Если есть совпадение по основным параметрам, то метод привлекается в соответствии со старым образцом (репродуктивная селекция). Здесь господствует высокая определённость и выбор весьма упрощён. В случаях значительной новизны проблематики реализуется сложная, продуктивная селекция, связанная с гипотезированием. В философской литературе выделяется три типичных значения понятия «гипотеза»:
Первое значение составляет сущность гипотезы и догадка — одна из сущностных форм вероятного знания. Объективными основаниями гипотезирования выступают несовпадение внешних явлений с внутренней закономерностью и бесконечная структура её уровней. Субъективные основы представлены сложностью познавательной деятельности, невозможностью полной её рационализации и алгоритмического регулирования. Формирование новых методов образует главный и ведущий вид научного гипотезирования. Когда по трудно уловимым частным признакам проблемы отыскивается адекватный общий метод, то это ценностное движение «снизу вверх» может быть только вероятностно-статистическим. Как разновидность креативного мышления гипотезирование имеет размытую, нелинейную логику и реализуется в формах угадывающего воображения. Поскольку в таком мышлении нет чёткого логического рисунка, учёные оценивают его в виде особого чувства. Рассматривая научное творчество А. Зоммерфельда, В. Гейзенберг выделил у него умение угадывать формы математического описания в новых областях физики. Оно было обусловлено двоякого рода способностями: точное эстетическое чувство возможных математических форм и безошибочное чутье физического ядра проблемы [172]. Ясно, что эти когнитивные «чувства» суть специфические проявления научного воображения. Здесь явно отсутствует такой феномен обычных чувств как их непосредственность и произвольность. Продуцирование научных догадок внутренне обусловлено специализированными видами знания. М. Планк отмечал у немецкого физика П. Друде развитое воображение в том, смысле, что тот мог всегда количественно, хотя бы по порядку величин, подтвердить допустимость своих догадок. Операциональным структурам метода воображение придаёт игровую гибкостьАристотель первым оценил воображение самостоятельной способностью, отличной как от чувственности, так и от логического разума. Оно производит наглядные образы без влияния внешних вещей. Д. Юм подметил типичные ходы воображения. Последнему свойственна свобода соединять и разъединять «идеи» в какой угодно форме, однако этот произвол ограничивается тремя «качествами»: сходством, смежностью в пространстве и времени, причинностью. Применительно к науке И. Кант ограничил роль воображения синтезом эмпирических образов, но в дальнейшем этот круг был существенно расширен. В современной методологии сформировался вывод о том, что фантазия своим основным полем приложения имеет операции метода. И действительно, содержание теоретического и эмпирического уровня метода сопротивляется внедрению произвола логикой своих когнитивных сетей. Правила демонстрируют большую податливость, но Исследовательское воображение основано на общих фантазийных структурах, что иногда используется для стирания границ научного мышления. «Действительно, никакого особого «научного познания» (в отличие от ненаучного) не существует: при открытии наиболее достоверных научных положений интуиция, фантазия, эмоциональный тонус играют огромную роль наряду с. интеллектом. Наука же есть рационализированное изложение познанного, логически оформленное описание той части мира, которую нам удалось осознать; наука — особая форма сообщения (изложения), а не познания» [173]. Конечно, научное мышление не отгорожено от общих творческих структур сознания, но тем не менее у него есть своя специфика. В отличие от вненаучных видов исследовательское воображение подчинено более широкому комплексу факторов с более жёсткими ограничениями. В науке «способность воображения должна не мечтать, а выдумывать под строгим надзором разума…». Такое воображение детерминируется специализированной эмпирией, теоретическими и мировоззренческими нормами. Так, факты науки дают теоретику определённые уровни свободы и разрешают ряд самостоятельных ходов мысли, по лишь бы их конечные следствия сходились с экспериментальными результатами. Воображение направляется также внутритеоретическими структурами, которые разрешают одни направления мысли и запрещают другие. Такую детерминацию в наиболее чистом виде демонстрируют математические науки. В методологической литературе предложены типичные виды формирования образов воображения:
Первый вид фигурирует ещё со времён Аристотеля, ибо является самым простым. Играя с наличными образами, учёный создаёт «небывалые комбинации бывалых впечатлений» (И. М. Сеченов). Открытие структурной формулы бензола, когда Кекуле во сне увидел змею, глотающую свой хвост, и ассоциировал этот образ с химией, можно отнести к воображению-комбинированию. Как считает Дж. Родари, данную разновидность можно целенаправленно формировать уже в дошкольные и школьные годы. Эффективны упражнения на комбинирование слов по разным основаниям. Общую ценность имеют задания на составление парных понятий и придумывание из них соответствующих историй. Чем больше смысловая дистанция разделяет два слова, тем сильнее активизируется воображение. Такой опыт закладывает добротный фундамент и для научной фантазии [174]. Производство догадок вплетено в рациональные структуры науки. Значительная «свобода изобретать» (Н. Коперник) преобладает на тех этапах исследования, где по малому объёму исходных данных приходится строить возможные варианты знания. Это и те акты, где проблемная теория конструируется путём наведения смелых и оригинальных связей-мостов между компонентами проблемного материала. Конечно, такое творчество с аморфной структурой, мало обоснованными ходами мысли, когда учёному приходится «думать около» (П. Сурье), всё же существенно отличается от Гипотезирование стоит в особых отношениях с массивом знаний, содержащихся в сознании учёного. Наблюдается любопытная закономерность — иные гипотезы производятся тем успешнее, чем легче груз уже имеющихся научных представлений. Некоторые открытия совершают «умные невежды» (А. Эйнштейн). Так, гипотетическую концепцию «островных вселенных» выдвинул английский астроном-самоучка Т. Райт ( В науке существуют этапы революционного пересмотра фундаментальных идей. В это время частное многознание профессионального учёного жёстко связано с традиционными идеями и действует весьма консервативно. Когда в науку приходит дилетант, он слабо подвержен влиянию традиционных подходов и его мировоззрение открыто для новых догадок. Преобладание общего мировоззрения над специальной эрудицией позволяет реализовать свободную игру пробного мышления. Способность Э. Резерфорда к смелым и рискованным предположениям И тем не менее между структурами научного знания и гипотезированием существует, хотя и сложная, но несомненная зависимость. Чем значительнее объём и качественнее параметры наличной информации о мире, тем шире возможности исследовательского догадывания. Не случайные прорывы, а «систематическое угадывание» (Б. Л. Ван дер Варден) определяет ход развития науки. Оно же зависит от влияния сложившихся теорий и мыслительного опыта. Правда, на первых порах гипотезирования эта зависимость чаще всего не осознается научным сообществом. Многие гипотезы (принцип запрета Паули, метод перенормировок, догадка Бора о квантовании электронных орбит и тому подобное) в начальный период своего существования воспринимались учёными как просто корректирующие правила, несущие в себе элементы «подбора». Они казались произвольными и искусственными ad В теории познания существует традиция объединять гипотезирование с индукцией. Эта связь подчёркивает противостояние вероятностных процедур логике дедуктивного типа. Некоторые западные эпистемологи пытаются придать старой схеме современную трактовку. Так, М. Пера предлагает широкое толкование индукции — это «любое» допустимое рассуждение, в котором вывод не следует с логической необходимостью из посылок…». В таком понимании индукция занимает место ключевого промежуточного этапа в модели гипотезирования: факты догадывающееся наведение — гипотеза [176]. К. достоинствам данной модели следует отнести учёт размытого стиля мобилизации и действия духовного потенциала учёного. Вместе с тем она игнорирует такой предваряющий творческую догадку этап как пробы старых подходов. Ведь прежде чем искать новую стратегию, исследователи убеждаются в неэффективности старых методов. Даже в случаях высокой новизны проб тёмных фактов учёный сначала пробует изучать их привычными средствами. Когда были установлены первые признаки Методы гипотезирования формируются путём модификации старых подходовОдин из часто употребляемых видов такой творческой подгонки — пробная экстраполяция. Она существенно расширяет и обновляет область инструментального действия имеющихся теорий. Типичным примером гипотетической экстраполяции является объяснение факта броуновского движения. В начале XX века Ж. Перрен и другие учёные в качестве пробного метода предложили молекулярно-кинетическую теорию. Сомнения в правомерности выбора у них были, так как эта теория по традиции применялась лишь к газам. «Одним словом, нельзя ли приложить газовые законы к эмульсиям, состоящим из видимых уже зёрнышек?» [177]. И только совпадение расчётных значений молекулярных констант с опытными данными утвердило правильность выбора метода гипотезирования. Умение производить гипотезы складывается под влиянием двух противоположных факторов: свободного воображения и метода, ограничивающего движение мысли. Превалирование того или другого даёт специфические крайности. А. Эддингтон предложил для них следующие образы. Те учёные, которые предпочитают рискованный путь фантазии, воплощают в себе «стиль Икара». Противоположный «стиль Дедала» строится на осторожном расчёте и тщательном анализе [178]. Этой схеме близка классификация В. Оствальда, делящая учёных на «романтиков» и «классиков». Если первые легко вдохновляются, творят быстро и много, то вторые тяготеют к тщательной обработке своих научных результатов. При всей условности подобных моделей они рельефно выделяют крайности. Оптимальная же модель идеального исследователя даёт единый стиль гипотезирования, в котором эти крайности преодолены. Данные рассуждения Э. Мах попытался конкретизировать на материале истории физики. Он построил интересную типологию естествоиспытателей, осуществлявших революцию в физике XVII — середины XVIII веков.
Именно, Ньютон и стал главным творцом научной революции. В нём воплотился идеал учёного, который способен смелое воображение дисциплинировать богатым и глубоким опытом науки [180]. Оптимизация стиля гипотезирования имела свои этапы в истории науки. Первым был опробован стиль Икара, который дал умозрительную догадку. Для неё характерны две черты: «квази-теоретическая» идея, не разрабатываемая в плане эмпирически проверяемых следствий, и идея, слабо или вовсе не связанная с другими рациональными положениями и не оформленная математически. Смысловым эквивалентом квази-теоретичности может служить понятие «спекулятивности». Если научная теория всегда предполагает наличие специализированной эмпирии как «своего другого», то при отсутствии последней мышление становится умозрением или спекуляцией мысли. Факты накладывают на мышление определённые ограничения и если такое давление существенно ослаблено, то начинает превалировать чрезмерная свобода мысли. Она стимулирует плодотворную фантазию (обилие догадок древнегреческих натурфилософов). Но без ограничивающего действия специальной теории и экспериментальной практики воображение теряет границу между реально-истинным и иллюзорно-ложным. Методологический запрет на развитие способности догадываться подрывает творческое начало субъекта науки. В своё время естествознание «переболело» позитивистским недоверием к высшей теоретической активности. Оно подразумевало не только преходящий характер выдвигаемых версий, но и эффективную отдачу, которую от них ожидают. Появление или отсутствие плодотворных следствий рабочей гипотезы определяет её судьбу — стать достоверным теоретическим принципом или неудачной пробой. Прыжок в мир гипотез оправдывается лишь конечным успехом (М. Планк). Например, на основе теоретической гипотезы «Большого взрыва» были предсказаны два фундаментальных факта: реликтовое тепловое излучение (ЗК) и относительное содержание гелия во Вселенной (приблизительно 25 процентов). Эмпирические подтверждения перевели данную гипотезу в ранг достоверной теории. Существует мнение, согласно которому стиль догадок полностью относится к пережиткам старой науки. «Вообще всякие догадки вышли теперь из моды; они были в лучшем случае бледными суррогатами знания, и современные науки, устраняя их сурово, ограничиваются… установлением фактов и тех заключений, которые вытекают из них (А. Эддингтон). Особо подчёркивается несовместимость философских догадок с современным естествознанием: «Философская гипотеза, игравшая большую роль в эпоху натурфилософии, в настоящее время становится якобы инструментом малоэффективным в развитии естествознания. Данная точка зрения не учитывает ряд обстоятельств. Нельзя абсолютизировать различие между умозрительной догадкой и теоретической гипотезой. Это различие функционально и относительно. Как только догадка становится рабочей гипотезой, она обретает статус теоретической гипотезы. Ещё Эмпедоклу принадлежит мысль о том, что свет распространяется с конечной скоростью. Её умозрительность уступила место естественно-научной теоретичности тогда, когда О. Ремер в XVII веке включил её в абстрактные предпосылки измерений времени затмения спутников Юпитера. Философские догадки разделили общую судьбу спекулятивных образований. В качестве рабочих гипотез они проходили свои пути теоретической и эмпирической выбраковки. Для связи с миром фактов разрабатывались посредствующие звенья из специализированных понятий. Это прослеживается на развитии идеи атома:
Подобную эволюцию претерпела и ленинская догадка о неисчерпаемости электрона с учётом ускоренного развития физики XX века. Итак, как раз в отличие от прошлого философские догадки обрели высокую эффективность в современном научном производстве. В исследовании орбиты Марса И. Кеплер творчески продуцировал две содержательные гипотезы и привлёк четыре формальных предположения. Если свести их к способам построения орбиты, то всего получилось шесть гипотез:
Свой отбор Кеплер свёл к тому, что на основе каждой гипотезы он вычислял долготу Марса и сравнивал результаты с наблюдениями. С помощью эмпирического критерия было выбрано предположение об эллиптической орбите. Нормативное регулирование поискаНеопозитивистская методология уподобляла научное открытие психическому акту, который не детерминируется рациональными нормами. Эту линию продолжили представители критической философии (К. Поппер и другие) и исторического направления, ратовавшие за трезвый взгляд на роль методологических норм. «Термин «нормативный» более не означает правил получения решений, а просто укатывает на оценку уже существующих решений». Самая сложная часть открытия («получения решения») — производство гипотезы. В этом процессе участвуют разнообразные иррациональные факторы, в том числе и психические формы. Но вопреки представлениям И. Лакатоса они взаимодействуют с когнитивной культурой учёного, необходимым компонентом которой выступают нелогические нормативы. Их направляющее действие характеризуется размытой ориентацией и не может дать однозначной определённости дедуктивно-логических норм. В то же время такая регуляция хотя бы частично ограничивает стихию поиска. В проблемной ситуации со множеством возможных направлений нормативы указывают на пути, отличающиеся от других лишь некоторой предпочтительной вероятностью. В этом смысле научное открытие детерминируется нормативными структурами. По своему содержанию нормы весьма разнообразны. К. X. Делокаров предложил следующую классификацию: внутритеоретические: дисциплинарные, междисциплинарные, общенаучные регулятивы [181]. Следуя этому делению, можно рассмотреть основные виды поиска научных методов. К группе внутритеоретических и дисциплинарных норм следует отнести онтологические законы науки, используемые в роли регуляторов. Им присущ запретный стиль ограничения направлении поиска. По этому поводу Э. Мах отмечал, что научный принцип одновременно объясняет и разочаровывает. Двойственная функциональность имеет объективно-отражательную основу. Если закон природы выражает определённую связь, то её образ как бы указывает на области возможного и невозможного. Его можно сформулировать в виде нормативного запрета и некоторые принципы естествознания существуют в явной форме запрета. Нередко они обобщают массовую практику экспериментов, где теоретические ожидания неизменно заканчивались отрицательным результатом. Так возник принцип исключения вечного двигателя механического рода. Чем выше общность принципа (закона) науки, тем фундаментальнее становятся исключения и указания па некоторые пределы. Для физики выделяют несколько «принципов невозможности» (Д. Уайттекер): скорость света в вакууме невозможно превысить; принцип сохранения масс-энергий; невозможно создание электрического заряда или изменение магнитного состояния без одновременного образования нечто противоположного; принцип неопределённости; принцип запрета Паули; второе начало термодинамики (невозможны вечные двигатели второго рода). Научные принципы не только запрещают, но и разрешаютДля исследователя такая двойственность помогает выбирать перспективные пути решения проблем. Одни направления исключаются как заведомо невозможные, другие предлагаются как достойные внимания и рассматриваются под углом соответствия поставленной проблеме. Конструктивную роль избирательности принципа иногда не может по достоинству оцепить даже его творец. Когда Эйнштейн выразил сожаление о неуниверсальности относительности (из различных видов движения выделяется только равномерное и прямолинейное движение), то Планк с ним не согласился. Он предложил «взглянуть на дело обратным образом и увидеть в предпочтении прямолинейного равномерного движения особенно важный и ценный принцип теории, Американский физик Дж. Андерсон предложил следующую трактовку селективной функции принципа относительности. Все элементы теории нужно разделить на относительные (динамические) и абсолютные. Если первые взаимосвязаны друг с другом и зависят от абсолютных, то последние определяют другие элементы, но от них никак не зависят. Абсолютные элементы — своего рода «независимые переменные», которые в виде особых фикций попадают в состав теорий. Освободиться от них помогает принцип относительности, ибо он запрещает отсутствие взаимности. Тем самым данный принцип сильно ограничивает класс допустимых теорий (каждый элемент теории должен подвергаться воздействию всех остальных элементов) [182]. Предложенная схема имеет рациональный смысл. Объект теории — это всегда некоторая структура взаимодействий. Сама теория строится с учётом этой возможности. Когда возникает необходимость в аксиомах и постулатах, то есть в исходных положениях, то они обосновываются в более широких и фундаментальных концепциях. Всем остальным элементам теории стремятся придать «динамический» и «относительный» характер. По терминологии Дж. Андерсона понятие эфира в электродинамике XIX века можно считать «абсолютным» элементом. Устранил его Эйнштейн специальным принципом относительности. Но абсолютные элементы теории можно преобразовывать Отборочная функция наиболее рельефно представлена фундаментальными законами сохранения. В форме регулятивов они связаны с принципами инвариантности, выполняющими двоякую роль: выбирать из множества начальных условий одно существенное, которому должны удовлетворять все основные уравнения теории и оказывать помощь при отыскании решений основных уравнений [183]. Инвариантность, связанная с некоторой группой преобразований пространства и времени, выступает формой симметрии. Любой вид симметрии (инвариантности) накладывает ограничения на физические свойства и форму математических уравнений. Принципы симметрии вместе с принципами сохранения образуют эффективные регулятивы. В квантовой физике принцип инвариантности относительно пространственных отражений помог сформировать понятие чётности в виде квантового числа Лапорта. В квантовой хромодинамике (КХД) принцип калибровочной симметрии принёс с собой условие перенормируемости и наложил важные ограничения на возможные формы лагранжиана. Сильные взаимодействия должны сохранять странность, быть инвариантными относительно зарядового сопряжения и сохранять чётность. Если к этому добавить, что группа симметрии помогает определить оператор взаимодействия, то налицо высокая селективность симметрийных регулятивов. Регулятивные принципы имеют тенденцию группироваться в некоторые нормативные комплексы. Наиболее устойчивые объединения формируются дисциплинарными и междисциплинарными регулятивами, отличающимися значительной общностью и фундаментальностью. Если проследить становление и развитие физических программ типа единых теорий Гельмгольца, Планка, Эйнштейна, то выбор метода регулировался в них тремя основными нормами:
Особое место занимают общенаучные регулятивыИх поставляют философия и научное мировоззрение. Отмечается, что действующие регулятивы выступают продуктами методологической конкретизации философских принципов (В. П. Бранский, К. X. Делокаров и другие). Такое сочетание нередко маскирует философские предписания, определяя неявную форму их функционирования. В этих случаях методологу весьма важно за рассуждениями учёных о предпочтительности «красивых» уравнений и стремлению к простым решениям распознать действие той или иной философской идеи. Сложный характер философской селекции усугубляется ещё и тем, что методологические регулятивы действуют не в стиле однозначных и жёстких правил отбора. Для их работы присущ «определённо-неопределённый» контекст. Его компонентами являются мировоззренческие советы, эвристические подсказки, интуитивные предпочтения. У исследователей существуют предпочтения в отношении определённых мировоззренческих принципов и это в ряде случаев упрощает выбор. По свидетельству ассистента А. Эйнштейна Э. Штрауса, математик и логик К. Гёдель смотрел на все свои проблемы через одну аксиому — ничто из происходящего в мире не есть слепая игра случая и не вызывается До 1912 года СТО Эйнштейна воспринималась многими ведущими физиками как более рациональное, но по существу эквивалентное представление теории относительности Лоренца-Пуанкаре (ТО Главная причина различий двух теорий — выбор разных мировоззренческих методов. В 1912 году Лоренц признал, что расхождение «лежит в компетенции теории познания». И действительно, Лоренц и Пуанкаре с одной стороны, а Эйнштейн с другой, исходили из неодинаковых философских предпосылок. Если первые сохранили ядро ньютоновской концепции пространства и времени в слегка модифицированном виде, то Эйнштейн выбрал забытую идею относительности пространства и времени, восходящую к взглядам Аристотеля. Лоренц и Пуанкаре были вынуждены оставить эфир как физического представителя абсолютного пространства, философская же релятивность помогла Эйнштейну от него избавиться. Сами того не осознавая, Лоренц и Пуанкаре руководствовались схоластическим правилом ненаблюдаемых сущностей, творец же СТО взял на вооружение идею принципиальной наблюдаемости физических свойств. Итак, Лоренц и Пуанкаре сохранили традиционные для своего времени мировоззренческие основания, которые существенно ограничили их научное творчество. Оно свелось к частичным нововведениям, усложнившим структуру теории и сделавшим её «мозаичной», внутренне противоречивой. Эйнштейн же произвёл смену философских и мировоззренческих оснований. Под влиянием ряда факторов (полусамостоятельное изучение физики в юные годы, независимость от научных школ, восприятие рациональных аспектов махистской критики эфира и тому подобных он обратился к относительно новым и эффективным идеям). На стадии выбора философские методы демонстрируют свою относительную самостоятельность. Но по мере того, как они взаимоувязываются с теоретическими предпосылками, их содержание и роль как бы уходят на задний план. Возникает эффект кажущегося отсутствия философских оснований. Такая иллюзия питается тем, что на переднем крае поиска функционируют уже специализированные методы типа принципов относительности, наблюдаемости, проверяемости и тому подобное. Но это вовсе не значит, что философия играет роль мавра, сделавшего своё дело. Она остаётся предельно общим основанием теоретического исследования, только выбор её положений превращается в неосознанную процедуру. Данный механизм иллюстрируется сравнением СТО и ОТО. При создании СТО Эйнштейн произвёл революционную смену философских методов. Хотя для него выбор не достиг апогея драматизма, новые предпосылки осознавались учёным на контрасте с традицией. Иная ситуация сложилась в период работы над ОТО. Здесь уже не было той мировоззренческой традиции, которую надо было преодолеть. Поэтому Эйнштейн, не акцентировал внимание на философских основаниях (органическая связь материи в виде гравитационного поля с пространством — временем, ведущая роль пространства в отношении других свойств материн). Он подчёркивал эвристическое значение принципа относительности, идеи эквивалентности инерции и гравитации. Эти физические методы навели Эйнштейна на мысль о необходимости формализма метрического тензора. Когда он обратился за советом к математику М. Грассману, он знал, что для описания гравитационного поля нужен четырёхмерный аналог гауссова двухмерного метрического тензора. При знакомстве с математическими теориями Римана, Кристоффеля, Риччи, Леви-Чевиты Эйнштейн производил целенаправленный выбор конкретного варианта аппарата ОТО. Лишь в конечном счёте этот выбор неявно детерминировался философским методом. Внутринаучные переносы методов и актуализация мировоззренческих идейВ каждом новом акте исследования учёный стремится исходить из дисциплинарной картины объекта. Её приоритет как основной сферы выбора метода очевиден. Влияние такой картины является определяющим как в отношении задач обобщения эмпирии, так и развития теоретических структур. И тем не менее оно далеко не единственно. Рано или поздно возникают такие проблемы, для решения которых требуется выход за пределы интеллектуальных ресурсов отдельной дисциплины. «… Мы научно работаем по проблемам, не считаясь с научными рамками» (В. И. Вернадский). Если исследователь обращается к фондам других наук, то мы имеем форму междисциплинарного заимствования методов. Как свидетельствует история естествознания, эта форма была и остаётся весьма действенным приёмом. Междисциплинарный перенос имеет свои отличительные особенности. Наиболее активно он обслуживает науки, близкие по предмету и стилю мышления (например, группа физико-математических наук). Переносы методов протекают здесь сравнительно легко. Так, Н. Бор без особых трудностей использовал астрономические методы вычисления возмущений в атомной физике. В полуклассической модели атома они помогли ему находить значения энергии электронов в стационарных состояниях. Заимствование внедисциплинарных единиц знания, как правило, сопряжено с их когнитивной переработкой. Эта процедура как бы прививает «чужой» элемент к основному понятийному «древу». Как известно, Г. Кантор ввёл в математическую теорию множеств новое понятие «мощность». Своеобразным «донором» здесь было физическое понятие, которое прошло два этапа трансформаций: выделение общей семантики с отвлечением от физического смысла и новая спецификация в плане математических интерпретаций. В науке нередко бывает так. В рамках данной дисциплины нахождение метода требует значительных эвристических ухищрений, в другой же всё это могло получиться намного проще. Л. Эйнштейн создал ОТО ценой огромных творческих усилий, интуитивно найдя нужные физические постулаты. Между тем в математике уже существовал гораздо лёгкий и оптимальный подход. В Последний пример подчёркивает высокую ценность эрудиции учёного по смежным и другим специальностям. Она вовсе не требует осведомлённости по всем деталям иных наук, вполне достаточно знания концептуальных идей. Их привлечение в том или ином случае зависит не только от специфики проблемы, сколько от развития общих форм творческого мышления. Как правило, трансляция «чужой» идеи в свою область исследования оценивается самим учёным в виде некоторой аналогии. Из этого описания видны основные этапы «эстафеты» метода из биологии в химию. В начале установлен некоторый мостик подобия между элементами цепей Боденштейна (химия) и бактериями (биология). Им стал функциональный механизм питания и переработки. Он породил ассоциативную связь: питание — размножение. Представление о размножении переносится в область химии Междисциплинарные заимствования идут через каналы научной коммуникации. Этапы «эстафеты» метода нередко связаны с представителями разных дисциплин. Подобная цепочка привела к открытию структуры ДНК. Под влиянием советского биолога Н. Тимофеева-Ресовского немецкий физик А. Шрёдингер обратил внимание на возможное влияние микромира на детерминированность жизни и, в частности, наследственности. Он выдвинул идею о том, что детерминация наследственности обеспечивается большими и сложными молекулами. Эта идея была воспринята биологом Криком, который вместе с Уотсоном довёл её до экспериментального обнаружения Важную роль в процессе взаимообмена идеями играет мировоззрение, связанное с наукой. Концентрируя в себе наиболее значимые теоретические выводы, оно становится ведущим источником новых методов. Определять выбор того или иного подхода мировоззренческая картина может явно и неявно. Последняя форма преобладала в раннем естествознании и часто маскировалась под индуктивное обобщение. Так, в ходе решения гидростатических задач Б. Паскаль утверждал: «Я принимаю за принцип, что никогда тело не движется под действием своего веса без того, чтобы центр тяжести его не понижался» [188]. Это положение учёный считал ясным и простым выводом из некоторого множества опытов. Связь с эмпирией здесь несомненна, но к чистой индукции данный принцип отнести нельзя. Вывод Паскаля детерминирован идеей невозможности вечного двигателя механического рода. Её истоки тянутся в античную науку, а уже в XVI веке она использовалась многими учёными (Дж. Кардано и другие). В ресурсах естествознания XVII века принцип исключённого вечного двигателя занимал одно из ведущих мест, и Паскаль неявно использовал его для продуцирования своего вывода. Сделав вывод принципом, он применил его в анализе явления сообщающихся сосудов. Данный подход помог ему сформулировать ряд новых следствий («… давление жидкостей соответствует только высоте их состояния, но не ширине сосудов» и тому подобное). Дальнейшее развитие физики показало, что принцип исключения вечного двигателя и идея невозможности повышения центра тяжести суть частные формы проявления фундаментального закона сохранения энергии. Когда он был установлен в явной и общей форме, то стал мировоззренческим принципом с исключительными познавательными возможностями. Оказалось, что при его наличии можно было бы многое открывать в стиле дедуктивной логики и исключить трудности индуктивного обобщения. Г. Гельмгольц и В. Томсон показали, что открытая М. Фарадеем электромагнитная индукция могла быть математически выведена из законов электромагнитных действий, установленных Ампером и Эрстедом, путём применения к ним принципа сохранения энергии. Но пока общего принципа не было, оставался лишь путь экспериментального поиска, направляемого частными и мировоззренческими гипотезами. Особое место в формировании теоретических методов естествознания занимает философское мировоззрение. Как уже отмечалось, в культуре рабовладельческого и, прежде всего, античного общества возникло значительное множество натурфилософских образов. Все они носили характер умозрительных догадок, не имеющих теоретических доказательств и эмпирического обоснования. Однако у них было и определённое достоинство. Натурфилософские и философские идеи оказались способны на пропедевтическую роль — в виде пробных гипотез предвосхищать будущее развитие научного естествознания. «Философия строит соборы ещё до того, как рабочие заложили камень» (А. Уайтхэд). Этот упреждающий эффект реализовывался механизмом актуализации, включающим выбор определённой идеи и её проблемную конкретизацию. Выбор философских идей во многом определяется качествами мировоззрения учёного. Его основы закладываются социокультурными факторами воспитания (семья, влияние друзей и авторитетов, школьные и университетские курсы, национальная философская культура и тому подобное). Конечно, за период научной деятельности мировоззренческие ориентации в Сформировавшееся у личности философское мировоззрение является носителем вполне определённых идей и основой соответствующих предпочтений. Функционируя в режиме установки, сознание учёного целенаправленно ищет частные аргументы в пользу приоритетного философского принципа. Так, X. К. Эрстед ( Действенность привлекаемых в науку философских понятий зависит от выбора предмета их приложения. Допустим, пифагорейское правило: «Всё есть число», достаточно универсально, но уже античные учёные ограничили область его действия астрономическими объектами. Их относительная простота обернулась для пробуждающейся науки рядом достижений. В духе этой традиции, руководствуясь идеей числовой закономерности, Хр. фон Вольф в 1723 году открыл соизмеримость всех средних гелиоцентрических планетных расстояний. С ростом зрелости науки расширяется зона действия философских методов. Это достигается за счёт соответствующих частно-научных принципов, отражающих специфику сложных объектов. Если снова обратиться к идее числовой закономерности, то её экспансия в физике шла по разным направлениям, среди которых выделялась идея атомного веса. В 1877 году И. Ридберг восстановил догадку У. Праута о значимости целочисленных величин в мире атомов. Но если последний предлагал в качестве базовой единицы атом водорода с атомным весом, равным единице, то Ридберг утверждал, что «в качестве независимых переменных следовало бы использовать вместо атомных весов порядковые номера элементов». К этому учёного подвело оценивание спектров химических элементов, где фигурировали целые числа. Представление, у истоков которого лежит натурфилософская идея чисел, и было развито в современную квантовую теорию. Мировоззренческая селекция распространяется не только на онтологические, но Актуализация философского потенциала достигает своего апогея при возникновении соответствующей проблематики. Однако нужные фрагменты в мировоззренческих фондах обнаруживаются далеко не сразу, а иногда это происходит слишком поздно. Когда необходимый метод создан заново, учёные узнают о наличии его готовых проектов и вариантов. История науки полна таких ситуаций с упущенными возможностями. Так, в квантовой электродинамике ключевое место занимает идея обменных сил («виртуальные» взаимодействия). В Привлечение мировоззренческих знаний чревато деформирующими эффектами, обусловленными их несоответствием научной проблематике. Сам по себе когнитивный образ может быть весьма содержательным, неудовлетворительным же оказывается его актуальное приложение к проблемному материалу. Такое расхождение наиболее типично для натурфилософских проектов древних мыслителей, многие из них были актуализированы преждевременно. К примеру, идея природных вихрей была впервые разработана Эмпедоклом, И. Кеплер и Р. Декарт ввели её в фонд методов естествознания нового времени. Но идея вихрей плохо приживалась в механике, где господствовали силы, действующие по прямой линии. Здесь образцовой моделью взаимодействия в природе выступал закон всемирного тяготения. Как только наметилась стратегия изучения немеханических процессов типа электромагнитных явлений, идея вихревого движения проявила высокую познавательную ценность (Фарадей, Максвелл, Гельмгольц). Эффективно действует она в исследованиях атомного мира и элементарных частиц (понятие спина и тому подобное). Введение философской идеи в научный оборот требует должной конкретизации. Это предполагает нахождение частно-научных положений, так или иначе соответствующих сути выбранной философемы. Если таких специальных знаний нет, то идея ориентирует на их производство. В ходе исследования происходит углубление в закономерную связь по её вертикальной структуре: всеобщее — особенное. Философский эскиз теории теряет свою абстрактную схематичность и приобретает богатство специфических форм знания. Так, Процедура конкретизации мировоззренческих методов далека от прямой и жёсткой заданности. В зависимости от характера проблемной ситуации выбор специализированных звеньев предполагает разные степени свободы. Как известно, любым универсальным нормам присуща размытость и неопределённость их предписаний. Вот почему оптимальная конкретизация устанавливается не сразу и предваряется испытаниями пробных теоретических форм, претендующих на роль специального представителя философской идеи. Выбор того или иного принципа определяется набором методологических правил. Если один из претендентов входит в дисциплинарные фонды, то остальные вытесняются на периферию научного сознания. Даже в случае ошибочно выбранного утверждения он может надолго войти в ткань научных построений. Обладая надэмпирическим статусом, такой принцип получает защитный пояс ad Античные рационалисты предложили восприятия сложных феноменов неба сводить к простым умопостигаемым сущностям. В рамках такой версии философского принципа простоты Аполлоний Пергский (III век до новой эры) разработал геометрический метод описания неравномерных периодических движений как результатов сложения более простых — равномерных круговых движений. Гиппарх (II век до новой эры) впервые использовал этот метод в астрономии, создав модели эксцентрика и эпицикла. Соответственно встал вопрос о принципе, который мог бы придать этим моделям характер содержательной космологической схемы. Уже до IV века до новой эры в древнегреческой астрономии существовали идеи геоцентризма и гелиоцентризма. Выбор Аристотелем первой концепции определился следующими соображениями:
Из этого видно, что выбор концептуального ядра диктовался философскими принципами (учение об элементах, эмпиризм и тому подобное). Птолемей также сравнивал геоцентризм с гелиоцентризмом и отверг последний принцип как умозрительный, не подтверждающийся наблюдениями. Он и конкретизировал геоцентрическую версию, построив математическую теорию сложных видимых движений планет, Солнца и Луны. Когда Аристотель и Птолемей закрепили ведущее положение геоцентризма, то гелиоцентризм пифагорейцев и Аристарха Самосского исчез из активных ресурсов естествознания. Его восстановление в качестве актуально действующего принципа связано с деятельностью Н. Коперника. К XVI веку в западно-европейских университетах усилилось влияние неоплатонизма, которому ближе был пифагорейский гелиоцентризм. Слушая лекции ведущих итальянских неоплатоников, знакомясь с текстами древних авторов (псевдо-Плутарха, Цицерона), Коперник узнал о существовании забытого учения. Лишь значительным его влиянием можно объяснить тот факт, что традиционный принцип простоты был им критически переосмыслен в отношении теории Птолемея. Под давлением наблюдательного материала в неё вошло 80 вспомогательных построений, кругов и точек, которые явно деформировали гармонию небесного движения. «Заметив это, — писал Коперник, — я стал часто задумываться над вопросами, нельзя ли обдумать более разумную систему кругов»… [190]. В данной проблемной ситуации в роли новой программы и выступил гелиоцентризм. Его кинематическая схема дала более простую и гармоническую модель неба (34 круга) без обновления вычислительных алгоритмов. С Коперником связано начало научной революции в естествознании. В его мировоззренческих основаниях философия Аристотеля уступила место неоплатонизму и атомизму. Это было обусловлено следующими причинами:
Однако позднее некоторые философские идеи Аристотеля оказались весьма ценными для немеханических разделов естествознания. Это означает, что замена ошибочных принципов правильными методами не исчерпывает развития активного потенциала исследователей. «Смена инструментов науки» (Т. Кун) представлена также феноменом попеременной актуализации мировоззренческих идей. Наиболее рельефно это явление выражено в конкурирующих и оппозиционных программах. Воображение продуцировало идеи дальнодействия и близкодействияОни представляли собой конкретные модели действия причинных связей в природе. Если натурфилософские системы пифагорейцев и Платона тяготели к дальнодействию, то в рамках перипатетизма разрабатывалась концепция близкодействия. В XVII — XVIII веках актуализация коснулась обеих программ. Близкодействие определило становление механики земных взаимодействий, дальнодействие же господствовало в небесной механике. В контексте кантовской метафизики природы М. Фарадей актуализировал концепцию близкодействия в электродинамике [191]. СТО и ОТО установили казалось бы безраздельное господство этой программы в физике. Однако в Рассмотренные фрагменты истории науки убеждают в том, что мировоззренческие или достаточно широкие оппозиционные концепции нельзя однозначно оценивать на предмет их истинности, эффективности и перспективности. Здесь правомерно говорить о взаимной дополнительности и попеременной актуализации. Если на Принятие естествоиспытателем философской позиции редко бывает полным и безоговорочным. Даже там, где, казалось бы, естествоиспытатели находятся в плену покорившего их «метафизического» учения, господство последнего нельзя назвать абсолютным. Это объясняется рядом причин. Если философская теория достаточно сложна, то при «непрофессиональном» усвоении происходит естественное упрощение её смысловых единиц. При наличии многокомпонентной системы учёные выбирают те элементы, которые соответствуют их дисциплинарным интересам. Если в науку привлекаются элементы превратных мировоззрений, то рано или поздно срабатывает механизм критической переинтерпретации. В духовной культуре XVIII века существовала теологическая и телеологическая идея (согласно божественному провидению природные процессы протекают с минимальной тратой сил), восходящая к взглядам Аристотеля и схоластов. В 1744 году П. Мопертюи привлёк её для объяснения механических и оптических явлений. В исследованиях Л. Эйлера и П. Лангранжа идея превратилась в принцип наименьшего действия, у которого религиозно-идеалистический смысл уже отсутствовал. Если первый ещё использовал теологические термины в «косметическом» плане, то второй прямо критиковал теологизм Мопертюи и других учёных. Видные учёные прошлого редко ограничивались одним каким-либо философским учением. Многообразие собственных теоретических проблем стимулировало заимствование идей из разных мировоззренческих источников. Отсюда неизбежность эклектического и вместе с тем критического стиля присвоения философской культуры. Он отчётливо прослеживается в научной биографии Уже в кружке Опыт эвристического конструированияЕсли к заблуждению ведут многие пути, то к истине — лишь один. Современная теория познания критически пересмотрела это, казалось бы, здравое суждение. В любом нестандартном исследовании между проблемой и результатом существует поле неоднозначных зависимостей. Через эту неопределённость возможны различные пути: прямые и косвенные, оптимальные и сложные. Вариантность мышления возрастает с усложнением выбора метода и созданием новых инструментов исследования. Кроме того, бывает и так, что в ресурсах науки не находится ни адекватных методов, ни их кандидатов на перенос из других областей науки и культуры. Даже если Под эвристическим нередко подразумевается любое действие субъекта, способствующее прогрессу познания. Кроме этого широкого смысла существует узкое понимание, где эвристическое характеризуется следующими признаками:
Будем придерживаться узкого значения, в котором эвристическое выступает особой формой креативного мышления. Эвристики аккумулируют специфический деятельностный опыт и обращают его к новому исследованию. Советы здесь далеки от однозначных норм и являются весьма неопределёнными рекомендациями. Существуют нормы, ориентирующие на выбор гипотетических идей. Выдвижение новой проблемы означает, что за ней стоит сложнейшая реальность и определить даже один её аспект сразу, за один раз, невозможно. Единственно успешной стратегией здесь может быть только инструментальная открытость. Она рекомендует пробовать разные варианты метода с тем, чтобы выстраивать систему угадываний, где нет однозначной жёсткости и царит свободная смена когнитивных подходов. Тут признается, что выбранный сейчас метод является пробным и подлежит неоднократным испытаниям. Неудача предполагает отказ от данного подхода и привлечение другой стратегии. Такое отношение делает проблему открытой для поиска адекватного способа решения. Рельефную метафору для процедуры свободной смены методов в науке дал американский физик-теоретик Е. Вигнер. Учёный, решающий трудную проблему, состоящую из нескольких задач, находится в положении человека, держащего в руках связку ключей и пытающегося открыть одну за другой несколько дверей. Подобрать ключи к определённой двери удаётся лишь тогда, когда возникает взаимооднозначное соответствие между формой ключа и конфигурацией замочной скважины замка в двери. [194] Что важнее для научного творчества: бессознательные силы или сознательный разум?Когда психолог В каждом отдельном акте исследования сознание учёного не может взять под контроль всю свою деятельность. Реальное мышление содержит элементы, которые формируются стихийно и протекают на разных уровнях осознания. Получается, что значительные области субъективных процессов остаются как бы «закрытыми» для их носителей. Учёные не видят некоторых лестниц, по которым они взбираются на высоты открытий (В. Оствальд). Феномен неявного знанияНа ограниченные возможности сознания в отношении самого себя указывали древние философы. Они констатировали принципиальные трудности для получения полной и ясной картины познающей человеческой души. Современные учёные признают их и пытаются разобраться путём построения различных объяснительных моделей. Для этого привлекаются механизмы самого сознания, способные порождать разноуровневые структуры. Наиболее перспективным в данном отношении оказался феномен внимания. Используя его, американский психолог Э, Б. Титченер выделил два уровня — нижний и верхний. Второй образуют ясные процессы, выступающие предметом внимания, на первом же протекают смутные или рассеянные потоки, не попавшие в его нейтральную зону [196]. Э. Гуссерль ввёл понятия фокальной и маргинальной областей. Первое включает то, что попадает в фокус внимания; второе же содержит явления, оказавшиеся вне фокуса. Данному подходу М. Полани постарался придать методологический вид. Знание, попавшее в зону внимания и ставшее через язык общим достоянием учёных, оценивается как явное «ядро». Те же образы, которые не выражены вербальными средствами и являются личностными, квалифицируются как неявная «периферия». Если явному принадлежат основные функции, то неявное в важной роли инструментов мышления имеет в целом лишь вспомогательное значение. Основные идеи М. Полани получили в отечественной философской литературе высокую оценку. С некоторыми критическими поправками концепция неявно-личностного знания вошла в основное русло методологических разработок. Идеи фокального центра и периферии, личностного и общественного, невербального и вербального оказались вполне рациональными и эффективными. Без возражений была принята и мысль Полани о тождестве неявного знания с методом. Она стала фигурировать в рамках дихотомии явное — неявное. «Цель познавательного процесса — получение явного знания. Неявное знание выступает как средство, способ получения явного знания» [197]. Такое разделение обосновывается тем, что поскольку сознание исследователя вполне естественно направлено на объект, то формирующийся результат всегда находится в фокусе внимания, а метод — вне его. Привлечение схемы распределения внимания в методологию вполне правомерно, ибо в ней прослеживаются не только психологические, но и когнитивные особенности. Внимание — многомерный процесс Направленность осознания не является раз и навсегда заданной. Её относительность и подвижность обусловлены динамичной природой сознания, для которого не существует абсолютно закрытых зон. Если в данном акте исследования метод остался в смысловой «тени», то в последующих актах его можно сделать предметом специального изучения. Если сам учёный затрудняется в этой процедуре, её могут осуществить другие исследователи. Такая дополнительность компенсирует актуально-ситуационную однонаправленность осознания и внимания. Кроме того, следует учитывать смену этапов исследовательского цикла, при которой в фокус внимания вовлекаются самые разные компоненты познания. При постановке проблемы интенциональный вектор сознания концентрируется на признаках проблемного материала. Когда начинается формирование метода, то фокус осознания смещается уже на инструментальные ресурсы. Если метод выбран сознательно, правомерно говорить о его явном характере. На этапе применения метода исследовательское внимание снова направляется на проблемный материал и его трансформации. После решения проблемы в фокус попадает полученный результат, который подвергается оценке и обоснованию. Представленная панорама подводит к выводу, что смена этапов выражает переключение интенционального вектора, что формирует на каждом этапе (проблематизация — выбор метода — инструментальная активность — доказательство) своё соотношение явного и неявного. Дихотомия явного и неявного имеет свою специфику на этапах выбора метода решения проблемы и его применения. Здесь реализуется феномен отождествления метода с субъективным началом и соответствующим выходом его из предметной области осознания. «Принимая определённый набор предпосылок и используя как интерпретативную систему, мы как бы начинаем жить в этих предпосылках, подобно тому как живём в собственном теле» [198]. Уход метода в «тень» психо-когнитивного внимания чаще всего проявляется в нормальной науке, где остаются неизменными фундаментальные теоретические инструменты. Употребление одних и тех же методов в течение длительных периодов времени закрепляет их в виде привычных и самоочевидных оснований. В таком положении орудия мышления находятся вне сферы осознанного отношения их потребителей. Лишь наступление революционного этапа развития науки вынуждает исследователей выявить свои предпосылки, дистанцировать их от себя и подвергнуть критическому осмыслению. Неявное в форме скрытого выбора метода может быть представлено творческим гипотезированием. Особая нацеленность на проблему в сочетании с большим объёмом свободного воображения способны маскировать привлечение тех или иных предпосылок. В подобной ситуации учёный не может дать ясного отчёта в том, как и что он мобилизовал из интеллектуальных ресурсов. Известно, что, выдвинув оригинальную гипотезу тока смещения, Дж. К. Максвелл не оставил никаких свидетельств о породившем её методе. Можно лишь догадываться, что в этой роли неявно сработала идея симметрии или аналогичный ей принцип. В других же ситуациях шотландский учёный был более откровенным. Это видно в его сравнении трёх конкурирующих подходов в объяснении электромагнитной индукции: теория фиктивной магнитной субстанции, гипотеза индуцированной полярности и теория силовых линий. Преимущества последнего сведены к следующим достоинствам:
Здесь обнажены все основные методологические принципы, актуализированные им для обоснования своего выбора [199]. Неявное охватывает и области творческого использования научных знаний. То, как отдельный учёный распорядится когнитивными ресурсами, таит в себе различные возможности. Их реализация даёт личностные стили исследования, трудно поддающиеся рациональной расшифровке. Вот почему умение применять понятия науки И. Кант отнёс к разряду «скрытых» искусств. «… Схематизм нашего рассудка в отношении явлений и их чистой формы есть скрытое в глубине человеческой души искусство, настоящие приёмы которого вряд ли когда-нибудь удастся угадать у природы и раскрыть». Свой вклад в скрытое искусство вносят мыслительные операции и операциональные схемы. Как правило, они передаются в виде деятельностных образцов, предполагающих значительный объём неопределённости в восприятии и усвоении. Своеобразный эффект маскировки метода создаёт объединение в одном подходе нескольких принципов. Они субординируются по степени общности и такая связь придаёт неявный характер более общему компоненту. Подобная смысловая «интерференция» произошла в оценке метода ирландского математика и физика У. Гамильтона ( Данный эффект ещё более сильно выражен в отношении мировоззренческих и философских структур. В методологической литературе отмечается, что философские принципы включаются в специальную научную теорию неявно, в форме частных утверждений, поддающихся формализации. Селективные и инструментальные влияния на ход научного исследования философские предпосылки могут оказать лишь через механизм конкретизации. Его построение сводится к получению когнитивной цепочки, исходящей от универсальной идеи и кончающейся предсказаниями фактов. Концентрируя внимание на её средних и конечных звеньях, учёный теряет из виду самое начало. Тем более, что мировоззренческая «рамка» для него в большинстве случаев привычна, естественна и выбор философских оснований предопределён, осуществляясь почти автоматически. Для выражения всех этих аспектов Проблема неявного знания связана с такой процедурой как понимание. С точки зрения семиотики и герменевтики понимание является интерпретационным процессом придания смысла некоторой знаковой системе. Схематично представим ситуацию восприятия научного текста. Как более упорядоченная структура он соотносится с контекстом — менее определённой структурой. Такие единицы текста как слова и предложения имеют концептуальные «пресуппозиции», то есть скрытые смыслы семантического поля. В виде «молчаливых» предпосылок они обеспечивают интуитивное получение информации. Для осознания такого знания требуется особая рефлексивная деятельность. В определённых условиях понимание научного текста сопряжено с исследовательским творчеством. Фрагмент текста с неявным смыслом для одного учёного становится отправным пунктом производства нового знания для другого представителя науки. В этом плане можно истолковать научно-коммуникационную связь Дж. Максвелла с М. Фарадеем. В лабораторных текстовых отчётах последнего Максвелл выявил ценную идею «электротонического состояния», которая у Фарадея существовала в скрытом эмпирическими частностями виде. Её концептуальное осмысление состояло в том, чтобы скрытую и неявную пресуппозицию сделать теоретически явным смыслом. «Научное значение фарадеевой концепции электротонического состояния состояло в том, что она направила мысль на признание существования некоторой величины, от изменений которой зависят наблюдаемые явления. Эта концепция недостаточна для объяснения явлений, если её не развить в значительно большей степени, чем это было сделано Фарадеем». Это развитие свелось к приданию идее соответствующей математической формы. В таком виде положение о том, что изменение магнитного поля вызывает вихревое электрическое поле, стало одним из оснований классической электродинамики. В современной науке новые методы преимущественно не создаются, а осознанно заимствуются из разных источниковГипотетический способ решения проблем предполагает разнообразный репертуар методов. Какие источники могут его обеспечить? Первое, на что ориентируется поиск метода это личный профессиональный опыт. Р. Дж. Стернберг и другие его американские коллеги в совокупном опыте специалиста особо выделяют опыт решения проблем, который играет решающую роль в выборе стратегии. [201] В данном направлении можно пойти ещё дальше Но допустим, что все возможные кандидаты на роль нового инструмента были привлечены и все попытки потерпели фиаско. В этой ситуации остаётся возможность обращения к другим когнитивным сферам. Здесь открываются два способа привлечения:
Первый приём господствовал на ранних этапах науки. Что касается современного этапа познания, то следует согласиться с Среди разнообразных источников инструментальных ресурсов самым обычным является специальная литература. Любой исследователь, как правило, регулярно следит за публикациями своей дисциплины, читает периодические издания, накапливает соответствующие выписки. Другим обычным источником выступают заслушанные на конференциях доклады. Если проблема уже поставлена, то Более сложны формы заимствования из внедисциплинарных ресурсов. Дисциплинарные источники дают такие когнитивные элементы, содержание которых специализировано и чаще всего не требует особой работы по подготовке к решаемой проблеме. Здесь важно только угадать функциональное качество орудия. Когда же речь идёт о неспециализированных ресурсах в виде жизненного практического опыта, «внешних» научных знаний, искусства, философии и тому подобных, ситуация радикально меняется. Здесь нужно не только догадаться о неявной инструментальности, но и произвести содержательные трансформации для того, чтобы «внешние» когниции приблизить к специфике решаемой проблемы. Если, к примеру, учёный-теоретик заимствует из философии некий принцип, то рано или поздно ему придётся всеобщее знание специфицировать до уровня особенного. По этому пути шли физики и химики XVII и XVIII веков, вводя философский атомизм в естествознание. Для Демокрита атомы были единицами бытия, противостоящими небытию (пустоте). Для Р. Бойля и И. Ньютона главным в атомах стало свойство быть структурными единицами вещества, определяющими наличие веса и массы. Потребовалось много усилий, чтобы от философской идеи перейти к научной абстракции физического атома. 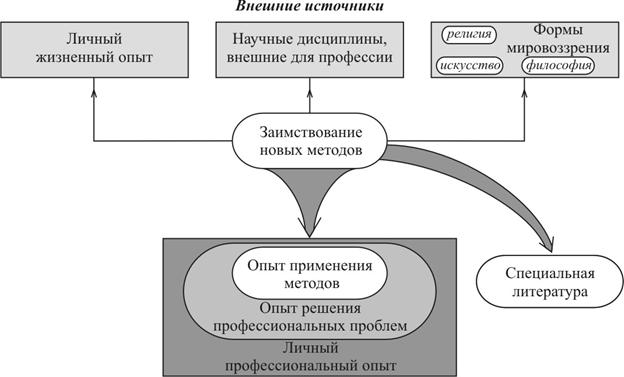 Из оставшихся видов связь чувственного и концептуального целесообразнее считать не формой воображения, а компонентом его структурной организации. Тогда переосмысление становится основной и высшей формой научного фантазирования. Суть его заключается в угадывании значимости тех элементов знания, которые находятся пока в зачаточных, неразвитых состояниях. Эта ценностная процедура тем и сложна, что здесь требуется выявить скрытые, ещё не проявившие себя концептуальные возможности. Логика и старые теории прямой и непосредственной помощи оказать здесь не могут, и данную роль берёт на себя творческое воображение. Лишь оно оказывается способным мобилизовать силы сознания и направить их на установление подлинной ценности некоторых своих образов. «Работа по угадыванию» (А. Ампер) протекает в условиях отсутствия однозначных ориентиров, что предоставляет мышлению учёного специфическую свободу. Исследователя в такой ситуации можно сравнить с человеком, решающим хитроумно составленный кроссворд. Формы угадывания будущих предпосылок в науке весьма разнообразны. Одна из наиболее типичных связана с переосмысливанием когнитивных качеств отдельных фрагментов эмпирического знания. Когда в поисках новых кандидатов в инструментарии учёные привлекают эмпирический опыт, они предполагают, что некоторые его части обладают неявными перспективами развития. Чаще всего, они обращают внимание на то, что не поддаётся теоретическому объяснению. После того, как такие элементы выделены, начинается пробно-поисковое определение их имплицитной значимости. Частное содержание и узко-специфические роли выбранного образа в конечном счёте переоцениваются в концептуально-общий и фундаментальный смысл. Этот вывод носит вероятностный характер Научное воображение в форме угадывания участвует в выработке интерпретаций знаковых формализмов. Между формальной системой и её качественными трактовками нет абсолютной заданности. Если брать математические структуры, то, с одной стороны, они развиваются в направлении строгой определённости, а, с другой, порождают богатый мир возможных значений. Иллюстрацией первого аспекта может быть эволюция значения термина «отрицательное число». На первых порах оно уподоблялось денежному долгу, потом физической силе, противоположно направленной другой силе, и позднее получило чисто математическую интерпретацию. Здесь мы видим своеобразную эстафету от внематематических форм воображения к математическому мышлению. Для последнего и ныне фантазия не стала всего лишь историческим реликтом. Её актуальность определяется тем, что она вошла в стилевую ткань математического мышления. Современная математика состоит из понятий, «наделяемых нашим воображением не только такими свойствами, которые внушены посредством актов «чистого» отвлечения при рассмотрении объектов, составляющих исходный материал для наших мыслимых операций, но и такими воображаемыми свойствами, которые совершенно отсутствуют или же отражают свойства исходных объектов в значительно искажённом виде» [203]. В некоторых проблемных ситуациях науки источником воображения становится вненаучная культура и, прежде всего, искусство. По мнению М. Дюфренна, апелляция к искусству возвращает учёного к первоначальному чувственному опыту. В нём чувства выступают не как анализаторы, а как резонаторы. Они звучат в тон и лад миру, поэтому искусство способно по вкусу выбирать и тем самым творить. Художественные образы внесли весомый вклад в зарождающееся естествознание. Как отметил Научное воображение и метафораТворческий потенциал художественно-эстетических образований представлен феноменом метафоры. Её когнитивный образ относится к разновидности «понятий с размытыми краями» (Л. Витгенштейн). Такая незавершённость позволяет ему вступать в разнообразные смысловые связи и получать самые неожиданные интерпретации. Транслируя вненаучные представления в форме мифа, философской притчи или поэтического образа в науку, метафорическое мышление способно продуцировать разумные вымыслы. Мифологический образ может помочь преодолеть шоры здравого научного рассудка и привести к открытию, такому как идея бутстрапа. «Нитка жемчуга бога Индры, где и каждой жемчужине отражаются все остальные» и соответствующая научная переинтерпретация — каждый элемент микромира выражает свойства всех остальных элементов. Высказана интересная мысль о том, что применение любых теорий, в том числе и математических, к действительности с необходимостью носит метафорический характер. Метафора выступает посредствующим звеном между абстрактными структурами и чувственно-конкретным миром, объединяя их своей смысловой неопределённостью. Сквозная роль метафоры во вненаучной культуре и науке даёт основание утверждать, что «любой творческий акт по своей природе эстетичен» (А. В. Гулыга). Среди отличительных черт современной науки нередко фигурирует возрастание роли метафор. Подобная привязка к современности не совсем корректна. Следы метафор обнаруживаются в самой ранней науке, ибо без них немыслимы переходы от мифов и философем к научным понятиям. Другое дело, что с прогрессом науки развивались и формы метафорического мышления. Так, Дж. Максвелл различал метафоры элементарные (обыденное сознание) и научные, связывая с последними перенос старых теоретических абстракций на новые предметные области [204]. Одно из своеобразий современных научных метафор — их существенное влияние на стиль исследовательской селекции. Данная детерминация вписана в общий контекст действия художественных образов. На большом материале истории математики и физики это убедительно показал Ж. Адамар. Научное «изобретение — это выбор; этим выбором повелительно руководит чувство научной красоты» [205]. Последнее — это духовный комплекс, в котором воедино слиты чувственно-эстетическое начало с научной рациональностью. Отсюда вытекает правомерность таких выражений как: «красота метода», «математическая поэма» (У. Гамильтон); «радость художника, открывающего тонкую связь математических понятий» (А. Эйнштейн). Художественные средства берут на себя те аспекты выбора метода, которые не покрываются нормативными структурами науки. Их символичность и метафоричность дают должную свободу творческому воображению учёного. По мнению американского физика Ф. Дж. Дайсона, к выводу о кривизне пространства творец ОТО пришёл из соображений эстетического характера, составлявших «специфику эйнштейновского воображения». Здесь имеется в виду явное предпочтение великим теоретиком идей симметрии и гармонии природы. Позиция К. Поппера: гипотезы в науке становятся методами, но нет методов, порождающих сами гипотезыТворчество в науке отличается своей гипотетичностью. Эта характеристика нашла отражение у К. Поппера в его схеме научного поиска: Р — TS — ЕЕ — Р, где Р — исходная проблема, ТS — гипотеза, ЕЕ — критическое опровержение, Р — новая проблема. Она вполне удовлетворительная, если учитывать главную цель Поппера — показать погрешимость и изменчивость любых единиц научного знания. Ведущей единицей здесь выступает теория и поскольку она имеет пробный характер, теория совпадает с гипотезой. В условиях конкуренции нескольких вариантов важен выбор Какое же место здесь занимает метод? Сферу его действия Поппер ограничил плодотворным функционированием ставших теорий, ибо их возникновение полностью определяется иррациональными способностями — интуицией и воображением учёных. При сравнении двух теорий предпочтительнее та, которая более эффективна в качестве инструмента исследования. Основные функции метода сводятся к:
Все качества теории важны с точки зрения метода — как они руководят интуицией и воображением учёного. [207] Это положение, заявленное Поппером, весьма показательно для понимания его отношения к методу. При формировании гипотетической теории воображение и интуиция не нуждаются в помощи рациональных инструментов. Данная стадия обеспечивается творческими психическими актами, которые порождают разнообразие оригинальных, смелых и правдоподобных догадок. Но как только гипотеза появляется на свет, она вступает в союз с психическими способностями. Последние обладают плодотворными потенциями, но действуют слепо и хаотично. Вот тут теоретическая догадка начинает задавать направление для приложения сил воображения, и такое рационально-дедуктивное руководство обеспечивается формой метода. Данное объединение психических и интеллектуальных усилий, по мнению Поппера, позволяет объяснять и предсказывать факты, заниматься отбором самых правдоподобных и эффективных теоретических догадок. Почему К. Поппер исключил метод из процесса рождения гипотезы? Причины заключены в тех идейных уроках, которые он извлёк из истории эпистемологических учений. Со времён Аристотеля греческие мыслители учёные трактовали метод в виде логического пути, однозначно ведущего к целевому результату. Эта модель особо успешно действовала в теоретической геометрии, где из аксиом и постулатов выводили теоремы. Мышление начиналось с несомненных наличных истин и заканчивалось доказательством новых положений. Построение науки на твёрдом и безошибочном основании метода И. Лакатос назвал «евклидианской программой». В Новое время её идеи поддержал Р. Декарт. Хотя он и ввёл исходное состояние интеллектуального сомнения, логическая концепция метода сохранилась. Интуиция сведена к рациональному обнаружению наличных истин по их ясности и отчётливости. Найденные положения образуют содержание методов, дедуктивный режим работы которых обеспечивают простые правила и логические операции. В ХХ веке эстафету логицизма приняли лидеры логического позитивизма. Сделав упор на индуктивную и математическую логику, они свели метод к полностью контролируемой активности интеллекта. Такую методологию К. Поппер оценил в качестве «догматического рационализма», упускающего нерациональные истоки познавательного творчества. Согласно «критическому рационализму», процесс пробного угадывания лишён логической определённости и не может управляться методами. Тут господствует стихия бессознательных психических сил, она неподвластна эпистемологу и разобраться в ней могут только представители психологии познания. Здесь Поппер солидаризировался с концепцией Г. Рейхенбаха о двух контекстах. Если «контекст открытия» алогичен и не подлежит философскому анализу, то «контекст обоснования», включающий рациональную критику и другие виды фальсификации, доступен эпистемологии. Вот почему понятие метода оказалось у Поппера применимым только к тем этапам, где гипотеза фигурирует уже в готовом виде. Возникновение пробной теории нельзя понять через категорию метода, на этот запутанный процесс наложено методологическое табу. Рационально можно лишь разобраться с тем, как инструментально функционирует наличное предположение. Логический контроль — это лишь одна из элементарных функций метода. Всё говорит в пользу того, что в понимании метода К. Поппер остался в плену декартовской и позитивистской схем. Их ядром выступает жёсткая и логическая модель, сводящая метод к алгоритму. Но есть другая альтернатива, где рационализм преодолевает рамки логики и признает легитимными все формы орудийной деятельности знаний. Как раз к такому выводу пришёл Б. Рассел. «На деле очень трудно выдвинуть верную гипотезу, и не существует техники, облегчающей этот наиболее существенный шаг в научном открытии. По этой причине оказывается полезным любой методический план, помогающий в выдвижении новых гипотез» [208]. Для Рассела, очень много занимавшегося логическими разработками, «техника» здесь тождественна логическим схемам Английский космолог А. Эддингтон ( Как отмечал Рассмотренные формы метода отличаются не только своей особой процессуальностью, но и скрытым от рефлексии способом действия. Как отмечал Д. Пойа, в сознании любого учёного существует «фон» — совокупность неосознанных и неоформленных представлений, включая мировоззренческие взгляды. Личностный фон выступает содержательным источником неявно используемых идей, влияющих на формирование специальных догадок [210]. Неосознанно привлечённые знания становятся когнитивным средством продуцирования гипотез, при этом сами учёные не отдают отчёта в используемых методах. Вот почему всегда актуальна рекомендация, данная Следует признать, что в совокупном творческом наследии К. Поппера существуют фрагменты, открытые для широкого понимания метода и должного истолкования. Британский философ признавал, что учёный начинает решение проблемы не «с нуля» и всегда принимает «исходное знание» в качестве непроблематичной основы. Хотя термин «метод» здесь не использован, для нас смысл последнего компонента с очевидностью соответствует данному понятию. Только метод может соотноситься с проблемой как своей противоположностью. Эта связь искажена у Поппера до явных противоречий. С одной стороны, разум использует в постановке проблемы свои рациональные средства в виде норм связности и непротиворечивости. В этом смысле проблема понятна учёному как особое рациональное образование с некоторыми отклонениями от норм. С другой стороны, для её решения используется исходное знание как непроблематичная основа, качество последней выше качества проблемного материала. И тем не менее Поппер уклонился от того, чтобы признать такие когниции методом, подразумевая под ним лишь средство логического руководства. Связь проблемы с когнитивными ресурсами исследователя Поппер пытался прояснить через оппозицию метафорических образов «слепота — зрячесть». Учёного можно сравнить со слепым, ищущим в тёмной комнате чёрную шляпу, которой там может и не быть. Движения такого слепого двойственны, здесь кроме «слепоты», выраженной случайными и беспорядочными поисками, присутствует «зрячесть», представленная частично упорядоченным продвижением. Последняя определяется предварительными знаниями, которыми руководствуется слепой, выбирая то или иное направление. Кроме того, «зрячесть» развивается с каждой пробой за счёт роста опыта ошибок [211]. По нашему мнению, эта образная ситуация хорошо иллюстрирует нашу широкую концепцию рационального мышления. Поиск шляпы соответствует целевому компоненту проблемы, её аспекты затруднения выражены тёмной комнатой и слепотой. Метафоры зрячести и упорядоченного движения могут быть соотнесены с методом. Его содержанием выступает знание, которое руководит поведением человека, подобно свету, рассеивающему темноту. Знание-свет начинается с малых искр и растёт с каждой неудачной попыткой. На языке понятий это означает, что несмотря на свою ошибочность каждый предшествующий гипотетический метод передаёт опыт поисковой мудрости последующему средству. На неудачах человек учится, если из них извлекается знание того, как не надо поступать. Серия пробных методов с их ошибочными последствиями способствует совершенствованию каждого последующего инструмента и порождаемого им результата. Живость психического воображения вносит вклад в игру операций и процедур, но её значимость подчинена развитию инструментальной активности разума. История науки и эпистемологии свидетельствует в пользу универсальной роли метода в актах гипотезирования. В античной науке самыми развитыми теоретическими дисциплинами были геометрия, статика, оптика и астрономия. Эмпирический характер трёх последних сочетался с широким применением математических приёмов. Греческая наука развивалась под влиянием пифагорейско-платоновской программы — «у всех неправильных и сложных чувственных феноменов следует искать правильные и простые формы». Это была универсальная методологическая идея, определившая становление древних концепций. Всё, что было доказательно представлено симметрическими геометрическими фигурами, Платон и его последователи считали безусловными истинами. На фоне этой доминирующей парадигмы гипотеза как правдоподобное мнение оказалась для философии и науки продуктом второго сорта. Лишь простой опыт жизни улавливает обманчивые мнения, наука же открывает достоверные истины и формирует подлинное знание. На границе науки и философии сформировалась натурфилософия. Её представители брали в качестве метода чисто философские положения и применяли их к частным и специальным вопросам. Получавшиеся догадки имели умозрительный характер, так как не подвергались эмпирической проверке. К примеру, Эмпедокл ( И тем не менее в сознании учёных зародились прообразы современного понимания гипотезы. Если взять астрономов, то все они занимались «спасением феноменов», сводя видимые петлеобразные движения планет к эпициклам (особым кругам). Но как интересно оценивал Кл. Птолемей свою работу, где фигурировали десятки эпициклов. «Пусть не возражают против этих гипотез, что их трудно усвоить Упоминание о гипотезе встречается в текстах Архимеда. «Предполагается, что жидкость по природе своей такова, что при равномерном и непрерывном расположении её частиц менее сдавленная частица вытесняется более сдавленной и что отдельные частицы этой жидкости испытывают давление отвесно расположенной над ними жидкости» [213]. Здесь сформулирована одна из основных идей метода, посредством которого Архимед выстраивал всю гидростатику. Любые возможные отклонения от равномерного распределения частиц жидкости ведут к возврату равномерного расположения. И это положение Архимед считал предположением, играющим такую же исходную роль, как и предпосылка в логическом рассуждении. Оно стало инструментом открытия основного закона гидростатики, который с современной точки зрения можно квалифицировать как гипотезу для своего времени. Христианское мировоззрение ввело свои ценности для средневековой науки. Приоритет веры утвердил образ догматической истины, существующей в религии. Поскольку наука изучает тварный мир, она способна получать только изменчивые и вероятные знания в виде гипотез. Учёному открыты лишь внешние явления, внутренние же причины скрыты в божественном плане творения. Такая установка возрождала натурфилософскую спекуляцию, начало которой положили древние философы. В данном стиле вели исследования средневековые физики, выдвинувшие спекулятивные догадки о «скрытых качествах» природы и не пытавшиеся искать их опытным путём. На этом фоне предпочтительнее выглядели астрономы, весьма успешно соединившие религиозные идеи с традицией «умного наблюдения». Из их сообщества выдвинулись пионеры научной революции. Н. Коперник ( Позднее Возрождение и ранее Новое время принесли с собой экспериментальную революцию в науку, что отразилось Поиск оптимального гипотезирования между «стилем Дедала» и «стилем Икара»Приоритет учения о роли эксперимента в науке обычно связывают с Ф. Бэконом. Он подверг критике две полярные позиции: «путь паука» и «путь муравья». Первый путь избрали учёные-схоласты, игнорируя опытное изучение действительности, они умозрительно развивали только теорию. Она получалась надуманной и доктринёрской. Учёный, вставший на «путь муравья», занимается регистрацией фактов и не стремится их обобщить в теорию. Здесь Бэкон предсказал возможное состояние науки в виде описательного эмпиризма. Золотую середину он видел в «пути пчелы», где учёный сочетает производство фактов с созданием теории. Оптимальная связь видна здесь только в результатах, ибо «аксиомы» образуются как обобщения фактов. Но способ обобщения Бэкон предложил утопический, его индукция игнорирует необходимость метода. Всё, что пришло в сознание учёного из культурной среды, объявлено «идолами», мешающими опытному познанию. Их устранение делает разум «чистым зеркалом», способным на объективное обобщение фактов. Бэкон так и не дошёл до понимания положительной роли наличных знаний в форме метода, без чего эксперимент просто невозможен. Успехи учёных — его современников и соотечественников — достигались вопреки бэконовским рецептам. Метафоры Бэкона можно подвергнуть некоторому переистолкованию, взяв за основу отношение к гипотезе. Учёный, ползущий по фактам подобно муравью, исключает любые гипотезы. Если исследователь пишет теоретические тексты, изучая трактаты других авторов, он способен на изобретение смелых гипотез. Средневековые учёные-схоласты были горазды на выдумывание экзотических догадок («бестелесные существа производят силовые эффекты в телесной среде»). Для более точного обозначения можно использовать образы, введённые А. Эддингтоном. Существуют учёные, ведущие познание осторожно, медленно продвигающиеся шаг за шагом. Это «стиль Дедала» в науке. «Стиль Икара» представлен теми, которые любят риск и смелые догадки. Если научный Дедал — враг гипотез, то Икар-исследователь живёт их изобретением. К первому типу можно отнести датского астронома Т. Браге ( Многие исследователи творчества И. Ньютона (С. И. Вавилов, А. Койре и другие) отмечали его двойственное отношение к гипотезе. С одной стороны, его резкое неприятие умозрительных домыслов, обусловленных только метафизическими и чисто теоретическими методами («гипотез же Творчество И. Ньютона не вписывается ни в стиль Дедала, ни в стиль Икара. Оно демонстрирует некий промежуточный способ мышления. Английского учёного нельзя отнести ни к чистому эмпиризму, ни к теоретизму. Здесь выразился опыт поиска оптимального сочетания эмпирии с теоретическим гипотезированием. Ньютоновский способ исследования можно назвать «дедало-икаровским». Не случайно свою концепцию синтеза апостериорного и априорного И. Кант сформулировал путём изучения научного стиля И. Ньютона. Последний открыл схему симметричного действия научных фактов, которые влияют на начало и конец исследования. С современной точки зрения путь к «принципам-аксиомам» как содержанию метода гипотезирования далёк от чистой индукции. Сознание Ньютона тут не было «чистой доской», и восхождение от фактов направлялось явными и неявными нормами, идеалами и операциями. Инструментальность присуща любому акту познания, и разнообразятся лишь её формы (полная — частичная — вырожденная = чисто операциональная). Современная эпистемология частично реабилитирует умозрительное гипотезирование. Английский эмпиризм проявил свою радикальность не в науке, В XVIII веке большинство учёных признали гипотезу нормальной и необходимой переходной формой развития теории. Российский академик Л. Эйлер ( Радикальный поворот от узкого и наивного эмпиризма в философской методологии науки связан с французским историком науки и эпистемологом П. Дюэмом ( Высокая методологическая культура и глубокое знание истории естествознания позволили П. Дюэму создать конструктивную и перспективную концепцию научного познания. Многие её положения не утратили своей значимости до сих пор. Обычно современные эпистемологи (У. К ХХ веку наука оперировала широким многообразием видов гипотез. Уже древние учёные ввели ad На самых высших этапах науки формируются фундаментальные теоретические гипотезы. История науки свидетельствует о том, что во многих случаях методами их производства выступают мировоззренческие идеи. Как это расценить с точки зрения эпистемологии? Сформировалась двойственная оценка. Поскольку речь идёт о вненаучных теоретических ресурсах, эмпиризм (радикальные виды эмпиризма) подчёркивает отрицательную роль и стремиться изолировать науку от всех форм мировоззренческой культуры. Известно, что логические позитивисты объявили традиционную философию «бессмысленной» и опасной для научного исследования. Если оценивать знание с позиции узко понятой верификации, такой подход понятен. Но существует и положительная точка зрения, выражающая либеральное отношение к роли мировоззрения в науке. Сюда можно отнести критический рационализм К. Поппера. Здесь признается «контекст открытия», где учёный обладает свободой принятия различных теоретических соображений, включая и философские догадки. Но в дальнейшем пришедшее в науку извне предположение должно пройти строгую процедуру рациональной критики, завершая свои испытания эмпирической фальсификацией. С эпистемологическим либерализмом Поппера солидаризировался  Куайн отвергает эмпиризм логического позитивизма, абсолютировавшего роль чувственного опыта в науке. Влияние последнего ограничивается периферией, центр же когнитивного поля обладает высокой самостоятельностью теоретического постулирования. Здесь царит та свобода интеллектуального произвола, которая уравнивает в правах научные концепты с богами Гомера. Мыслительное воображение человека едино и лишь принимает разные формы в зависимости от культурных норм творчества. Если в науке установилось теоретическое гипотезирование, то в религии и искусстве идёт образное фантазирование, также не зависящее от объектов реальности. Хотя Куайн прямо не заявляет об экспансии мировоззрения в науку, но его идейная позиция не отвергает такую возможность. Это подтверждает его мысль о том, что отказ от догмы аналитических и синтетических истин стирает границы между естественными науками и спекулятивной метафизикой [223]. Прослеживая связь эпистемологии и науки в отношении гипотезы, убеждаешься в правомерности глубокой идеи Гегеля об отрицании отрицания. Древние мыслители и учёные начали с утверждения весьма смелого стиля производства догадок, включая натурфилософию. Средневековье его поддержало как антитезу авторитетно-догматического мышления. Английские эмпирики Нового времени осудили «стиль Икара» и решили в науке «не измышлять гипотез». Позитивизм боролся за искоренение философских домыслов в сфере исследования. Но современная наука и эпистемология по сути дела восстановили в правах древнюю смелость предположений (вспомним призыв Н. Бора не бояться «безумных» идей). Реабилитирована философская догадка как таковая и всё же возврата к старому «стилю Икара» нет. Общепризнана погрешимость любой единицы научного знания. Нет сомнений в двойственной роли мировоззренческих когниций, сочетающей отрицательные и положительные детерминации. Утверждена иерархическая модель конкретизирующих нисхождений от умозрительной догадки через фундаментальную гипотезу к специальным допущениям с фальсифицируемыми следствиями. На каждом таком уровне реализуется акт мысли со своей проблемой, методом и результатом. При переходе с более высокого уровня на низкий происходит оборачивание гипотетического продукта в предположительный метод. Отдельные акты гипотезирования могут быть разделены большими периодами времени и осуществляться разными субъектами. Так, в 1754 году французский философ Д. Дидро применил к вопросу о связи электричества и магнетизма метод в виде идеи материального единства природы. Результатом стала замечательная догадка: «весьма вероятно, что магнетизм и электричество обусловливаются одинаковыми причинами» [224]. Трудно сказать, знал ли М. Фарадей об этой спекулятивной догадке, но в XIX веке ему пришлось создавать физические гипотезы разного уровня и проверять самую нижнюю (эмпирическую) опытами. На такого рода «эстафетах» (М. Розов) и развивается наука. 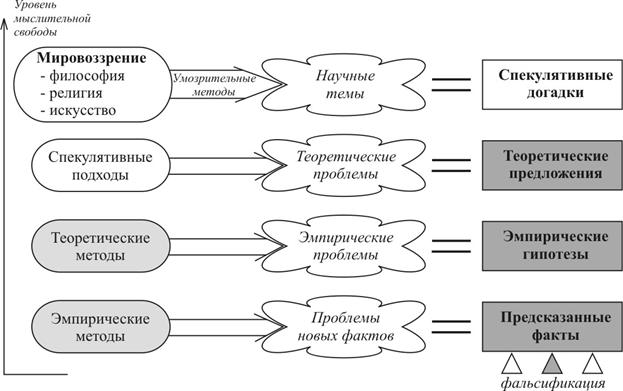 2.3. Творческая интуиция в наукеТворческая интуиция объяснялась как форма действия бессознательной психики рядом отечественных философов (Б. М. Кедров, Но неужели на этом фоне сознательный разум демонстрирует свою несостоятельность? Ряд авторов выражает в данном отношении обоснованный оптимизм. В середине ХХ века обозначить такую позицию решились философы, прошедшие нетрадиционную психологическую школу. К. Ясперс заявил, что для эффективного поиска все подходы к познаваемой действительности следует держать открытыми, а для этого каждый из них, что проходит пробу, должен быть осознан. [225] И действительно, без сознательных усилий добиться создания инструментальной открытости невозможно. Допустим, произошёл выбор определённого метода, оценка и выделение знания с орудийной функцией могут производиться только на разумной основе. Испытание метода на проблеме также предполагает интеллектуальные процедуры. С этой точки зрения модель инкубации неинформативна, она вуалирует акты выбора и инструментального воздействия на содержание проблемы. Удачное решение вызревает в недрах бессознательного подобно формированию Афины Паллады в голове Зевса. Идея инкубации представляет только успех и ничего не говорит о пробных вариантах и неудачах. Вот почему эпистемология и когнитивная психология во второй половине ХХ века отошли от классической модели инкубации и стали искать схему, где нашлось бы место как бессознательному, так и разуму. При этом главный акцент был сделан на открытой активности последнего. Сознательная организация поисковой группы из индивидов с разным содержанием сознания преодолевает стереотипизацию метода. Социальный разум нашёл выходы из тупика закрытого подхода. Один путь представлен деятельностью группового поиска, объединяющего индивидов с низким и высоким уровнями сознания. Если первый воплощён в «новичках», то носителями второго выступают «специалисты». В учебном процессе новичками являются учащиеся (студенты), специалистами — учителя (преподаватели). Сочетание и взаимодополнение разноуровневых стратегий может быть организовано в виде особой формы групповых усилий — «мозгового штурма» (А. Осборн). Здесь специально подбираются участники с разными уровнями опыта и подготовкой: один или два эксперта в данной проблемной области дополняются несколькими «дилетантами», имеющими самые разные профессиональные специализации. В ходе поиска разрешаются все возможные стратегии, включая самые необычные и фантастические. «Мозговой штурм» успешно зарекомендовал себя в различных видах творчества. Взаимосвязь «профессионалов» и «дилетантов» имеет особый эвристический эффект. В этой композиции «профессионал» — это носитель глубоких и специализированных знаний, но одновременно он воплощает в себе инерцию стереотипных методов. «Дилетант» отличается неспециализированными представлениями, но эту черту он способен компенсировать применением нового метода. В любой области деятельности основные результаты получают «профессионалы», подготовка которых обеспечивается специальным обучением традиционным подходам. И тем не менее остаются каналы открытости, по которым приходят «дилетанты» с новаторскими идеями. Если в «мозговом штурме» связь профессионалов и дилетантов устанавливается сознательно, то история изобретательства и науки демонстрирует полустихийные формы. В первой половине XIX века физика была лидером естествознания. Познание здесь было организовано в зрелых дисциплинарных формах: действовало научное сообщество физиков, университеты вели соответствующее обучение, сложились научные школы, выпускались физические журналы. И тем не менее самая радикальная проблема — преодоление флюидной концепции — не решалась традиционными методами. Помощь пришла от дилетантов: пивовара Д. Джоуля, судового врача Ю. Майера. У них не было научных предрассудков, навязываемых профессиональным обучением, и эта открытость новому позволила им открыть закон сохранения энергии. В науке могут взаимодополняться стихийные и намеренные формы привлечения новых методов. Интересным опытом делится английский нейрофизиолог Ст. Роуз. Его лаборатория имеет известность как один из центров изучения структур памяти. С той или иной степенью регулярности сюда приезжают специалисты и диссертанты, они не только знакомятся с опытом работы лаборатории, но и нередко делятся собственными идеями. Группа Роуза их оценивает по трём критериям:
Если идея удовлетворяет данным требованиям, она становится методом деятельности лаборатории. [226] Оптимальная связь метода и проблемы устанавливается «теоретической чувствительностью». Культура инструментальной открытости имеет высокую значимость в обучении. На эту тему вышли А. Страусс и Д. Корбин, разбирая методики «качественных исследований», сводящих применение количественных методов в социологии к элементарному минимуму. Главную трудность здесь они увидели в проблеме подхода — какова должна быть оптимальная связь метода с данными? По их мнению, в работе со студентами следует избегать крайностей предвзятости и положения «чистой доски». Если первое выпячивает активизм метода и подавляет роль данных, то во втором случае доминирование данных обходится без какого-либо подхода. Золотую середину они усматривают в концепте «теоретическая чувствительность», введённом Б. Глэзером в 1978 году. Это понятие выражает способность специалиста придавать данным концептуальный смысл в оптимальном стиле. Для выработки «теоретической чувствительности» Страусс и Корбин предложили ряд рекомендаций:
Если под «данными» понимать предмет мышления в виде содержания проблемы, то все рассуждения авторов относятся к вопросу «метод — проблема». По сути дела, разговор идёт о развитии гипотетической формы мышления. Все техники усиления «теоретической чувствительности» блокируют в процедурах применения знаний автоматизмы, идущие от веровательных установок опыта. Тем самым утверждается режим свободной смены методов, характерных для гипотетического мышления. Конечно, ему присуща значительная доля риска впасть в ошибку, чаще всего «отцы» новых идей преувеличивают границы области их инструментального действия. Так было с идеей тропизма (Ж. Леб), с принципом условного рефлекса (И. П. Павлов) и другими методами. Однако рациональная критика гипотез и их эмпирическая проверка рано или поздно устанавливают точные пределы. Таким образом, открытая и свободная связь между методом и проблемой, регулируемая гипотетическим разумом, не имеет альтернатив. Вариативность когнитивных орудий хорошо объясняет феномен получения различной информации из одних и тех же эмпирических данных. В истории химии можно выделить три интерпретации факта изменения свинца после сильного нагревания. Альберт Великий оценивал конечный продукт как порошок «жёлтого дракона», исходя из алхимического представления о трансмутации элементов. У Г. Шталя ( 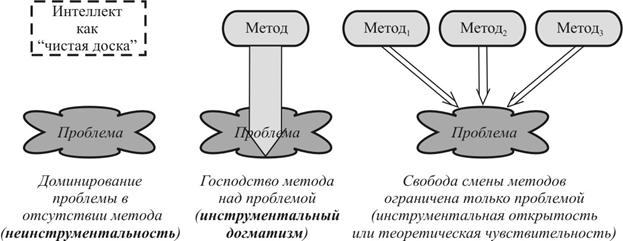 Место интуиции в научном опытеВ учебной и исследовательской литературе синонимом интуиции как правило выступает воображение. То, что речь идёт о В истории философии и науки отношение к интуиции менялось в зависимости от особенностей методологической позиции. Если брать рационализм, то его представители проявляли преимущественно скепсис в оценке её познавательной роли (у Декарта интуиция лишь находит врождённые истины). Что же касается такой крайней формы как логицизм (позитивизм и родственные направления), то здесь отрицается всякая исследовательская ценность интуиции. Все другие течения, отдающие должное эмпирическому познанию, уделяют ей значительное внимание. Все современные авторы признают содержанием интуиции некоторые знания. Вся проблемность заключена в определении его особенностей и способа функционирования. Х. Ортеге- Феномен интуиции обычно оценивается в категориальных оппозициях «логическое — алогическое», «рациональное — иррациональное». Для Ортеги предпочтительны понятия алогичности и иррациональности, с ним согласны многие зарубежные и отечественные авторы (А. Бергсон, Нам представляется, что если мы сможем разумно скорректировать классические оппозиции, то это позволит существенно сблизить два полярных взгляда на интуицию. Уже в первой главе речь шла о связи логического и рационального. Под логическим мы понимаем контролируемые рефлексией выводные переходы от одного элемента знания к другому. Что же касается рационального, то оно существует там, где есть какая-либо единица познавательной информации. В ощущениях и восприятиях нет выводной логики Может ли интуиция сочетать в себе «непосредственность» опыта и орудийность метода?У большинства авторов в качестве несомненного признака интуиции фигурирует «непосредственность». Это излюбленное слово английских философов Дж. Остин считал главным лингвистическим подводным камнем. Оно выражает тот типичный случай, когда значение слова с определёнными границами постепенно и неосознанно расширяют. В виде метафоры «непосредственность» становится неопределённой, Характеристика интуиции как особой разновидности перцептивного акта проходит у многих авторов. В своих записных книжках Ч. Пирс отметил, что человеческий способ деятельности основан на двух талантах: способности усмотрения (инсайт) или угадывания путей природы и способности сознательной и рассуждающей логики. «Я называю это усмотрением, потому что эту способность надо отнести к тому же плану операций, что и суждение восприятия (perceptive judgment). В то же время по своему общему характеру она совпадает с инстинктом, напоминая инстинкт животных тем, что настолько превосходит обычные возможности нашего разума (reason) и направляет наши действия так, как если бы мы владели фактами, полностью недоступными для наших чувств. Напоминает инстинкт она и малой подверженностью ошибкам»… [230] Пока нам важно лишь то, что интуиция у Пирса представлена как вид восприятия. И, действительно, у неё можно выделить все типичные признаки восприятия. В интуиции нет логического выведения результата из посылок. Также отсутствует временная пауза между конституированием предмета и оформлением-применением метода. Наличествует быстро протекающий акт приложения метода к предмету и преобразования его в результат. Последнее и сам процесс интуиции очень трудно передаются словами. Это выражается хорошо известным фактом, когда свидетели происшествий демонстрируют явную неспособность к словесному описанию ранее встреченного человека и безошибочно узнают его, когда увидят вновь. В пользу того, что интуиция является формой распознавания образов, говорит и такое её свойство — усматривать целое раньше частей. Подтверждающих фактов можно найти много. Так, однажды авторитетный авиаконструктор, мимолётно взглянув на чертёж нового самолёта, заявил: «Эта машина летать не будет, ибо недостаточна красива». Данный интуитивный диагноз позднее подтвердился. Американские психологи неоднократно проводили эксперименты с шахматистами — гроссмейстерами и новичками, где первые за краткие мгновения правильно оценивали общее положение на доске. Подобный эксперимент провёл Как и любой перцептивный процесс акт интуиции демонстрирует дополнительность предмета и метода. В качестве предмета выступает наглядное знаковое образование, которое формируется сенсорным уровнем ментальной психики. Интеллект демонстрирует способность быстрой мобилизации тех информационных ресурсов, которые становятся методом. Его накладывание на предмет, дающее результат, происходит очень быстро, что и даёт эффект симультанного «схватывания». Такая скорость присуща сознанию профессиональных работников, которые накопили богатый практический опыт с высокой частотной связью некоторой предметной области и когнитивных средств. В приведённых примерах фигурировали авиаконструктор и шахматисты-гроссмейстеры, как раз обладавшие развитым эмпирическим опытом. Многие тысячи раз авиаконструктор изучал и создавал чертежи самолёта, и за это время у него сформировался набор прототипических методов на все типичные ситуации, связанные с чертежами самолётов. Они закрепились в виде устойчивых установок, срабатывающих на тот или иной чертёж. И когда авиаконструктору довелось взглянуть на чужой чертёж, установочные методы моментально обеспечили ему ещё одну беглую оценку. Поскольку в качестве метода выступают обобщённые и схематизированные знания, они придают ситуативному предмету целостный смысл. На такой продукт ориентирует и целевая установка интерпретации («Что бы это могло значить?»). Отсутствие аналитических операций и Интуиция как понимание деятельностных образцов другого индивида. С момента своего появления на свет человек включается в общение с другими людьми и только через эти связи он осваивает предметы культуры и природы. В коммуникации одного индивида с другими индивидами устанавливается феномен понимания. По своим этимологическим истокам слово «понимать» восходит к выражению «взять рукой», «ухватить суть». Если Как обретение Я Вместе с эмпирическим опытом развивается и интуитивное понимание. По мере взросления в центре внимания оказываются образцы определённого поведения и специализированной трудовой деятельности. Если юноша начинает овладевать, допустим, компьютерной графикой, то по мере роста его опытной компетентности у него обязательно будет формироваться должное понимание и интуиция лишь в данной профессиональной области. Во всех других сферах труда он останется дилетантом, не способным проявить творческий потенциал. К примеру, в своём шеститомном труде «Курс позитивной философии» О. Конт попытался осмыслить многие области интеллектуального развития человечества. Одним из предметов его исследовательского внимания стало мышление архаичных народов. Являясь профессиональным этнографом, К. Леви-Строс оценил эти «изыскания» как сугубо любительские. О. Конт начисто лишён «этнографического чутья», которое приобретается только благодаря сбору информации особого рода и работе с ней. [233] Ведущей формой практического научения является обучение через демонстративный показ. Конечно, здесь присутствует вербальное описание, но оно подчиняется опытно-эмпирической процедуре «переноса» умений «как» от некоторого мастера своего дела во внутренний мир ученика. При этом вся сложность концентрируется в элементах метода — правилах и операциях, которые недосягаемы для прямого восприятия. Компоненты предмета практики более или менее открыты для обозрения и их усвоение не представляет особого труда. Так, ученик повара фиксирует все те сырьевые составляющие пищи, которые подлежат обработке, ученик парикмахера воспринимает исходную причёску клиента. Любой ученик наблюдает некоторую последовательность поведенческих действий мастера, которые демонстрируют многообразие различных вариаций. Его целевой задачей является реконструкция тех умственных операций, которые обеспечивают реализацию материальных действий. Это возможно лишь в том случае, когда ученик выстраивает в своём сознании схему из последовательной цепочки общих правил. Её формирование проходит этапы испытания пробных образцов. Ученик формирует некий вариант схемы и начинает по нему действовать. Однако конечный продукт его трудовых усилий не сходится с образцом результата и это означает, что нужно принимать другой вариант схемы и пробовать новую тактику деятельности. Важное дидактическое значение имеют подсказки, указания и оценки мастера. Они выступают в форме некоторого союза словесных формул и адресно-указывающих действий, которые фиксируют ошибки ученика. Такой совместный опыт оказывается весьма эффективным, ибо извлечение уроков из ошибок происходит динамично. Здесь можно говорить о том, что мастер производит передачу некоторых элементов интуитивного понимания своему ученику. Если у последнего имеются некоторые задатки и он проявляет волевые усилия в овладении трудовой специальностью, то 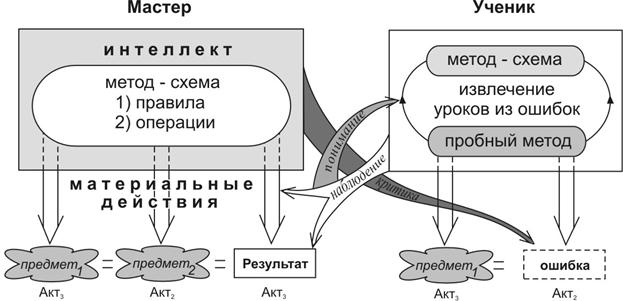 Интуиция-понимание формируется Р. Декарт: для обнаружения явных знаний интуиции не нужны методы:В индивидуальном сознании знания могут существовать в явной или неявной формах. Р. Декарт отдал предпочтение явному бытию, ибо считал весь разум прозрачным для самого себя. Если интеллектуальная интуиция фиксирует знания в виде ясных и очевидных положений, значит, они не только истинны, но и осознаны в качестве непосредственных истин, не обусловленных работой разума. Стало быть, не только во врождённых истинах, но У картезианской концепции есть много современных почитателей
Вежбицка занимается данными собственной интуиции, аргументируя это тем, что любой учёный имеет непосредственный доступ лишь к своему опыту, который в отношении языка совпадает с сутью опытов других людей. Методом исследования данных интуиции неизбежно должна быть интроспекция (лат. — introspectare — смотреть внутрь). Речь идёт о систематическом проникновении в глубины своего языкового сознания, где происходит очищение от личностных и поверхностных впечатлений, ассоциаций и предрассудков [235]. Примечательно то, что, хотя интуиция отвечает за предмет исследования, а интроспекция — за метод, их суть едина. Речь идёт о своеобразной «прозрачности» видения-наблюдения. Исходные слова языкового опыта самоочевидны, они не требуют усилий определения через связь с другими словами. Вот почему интуиция только фиксирует их. Казалось бы, интроспекция занята актами очищения языка от субъективных примесей и разделяет признаки преобразующей активности. Но и здесь продолжает превалировать пассивизм наблюдения. Вежбицка полагает, что единственным способом моделирования глубинных семантических структур является обнаружение предложений, синонимичных предметно-исходному предложению. Фиксация того, что есть, остаётся ведущим приёмом интроспекции. 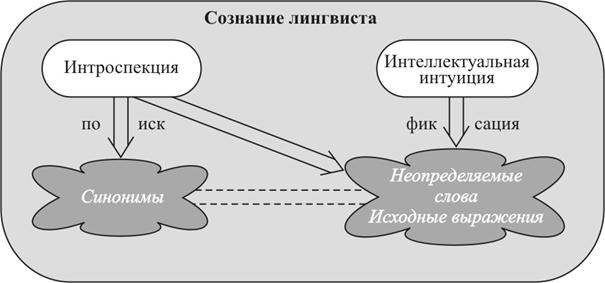 Б. Паскаль: интуиции необходимы содержательные методы, но они скрываются в глубинах молчаливого «сердца»:В трактовке научной интуиции Б. Паскаль отдал предпочтение неявной форме существования знаний. Душа имеет две главные способности — рассудок и «чувствующее сердце». Если первая функционирует более или менее открыто, то вторая действует в закрытом режиме. О сложных глубинах работы сердца намекают речь и тексты. Все знают, насколько велика разница между двумя похожими друг на друга словами в зависимости от контекста употребления. «Я мыслю, следовательно, я существую». Смыслы этого утверждения разные в уме Августина Догадка Паскаля о том, что Особое выделение рационального бессознательного стало главным достоинством концепции «неявного личностного знания» М. Полани (1966). Понятие «личностного знания» Полани ввёл для того, чтобы подчеркнуть наличие у любого индивида знаний, которые присущи только ему. Речь идёт о практическом опыте в виде специфических умений и навыков, где центральное место принадлежит способностям тела ориентироваться в пространстве и времени. Такие представления формируются в реальной жизненной деятельности, они не выражаются вербальными средствами и не осознаются своим носителем. Неявные знания существуют во внутреннем мире личности, обслуживают её потребности, но не поддаются осознанию, словесный отчёт о них невозможен [238]. Понятие «неявного знания» закрепилось в философии и психологии в качестве ведущей характеристики личного опыта. У него появились родственные понятия, подчёркивающие те или иные аспекты имплицинтности. Так, Дж. Стернберг предпочитает термин «практический интеллект», подразумевая тот здравый смысл, который возникает в структуре практических действий и обеспечивает им должную эффективность. Речь идёт о процедурных знаниях типа «как», они представляют собой набор ситуативных схем, определяющих готовность индивида действовать в конкретных обстоятельствах. Такая компетентность словами не выражается и не подлежит осознанию [239]. Уже Б. Паскаль оценил интуицию в виде формы работы молчаливого разума. Эта линия получила своё развитие у современных авторов. М. Полани объясняет интуицию действием неявного знания, Дж. Стернберг — бессознательным проявлением активности практического интеллекта. Если в былые времена среди свойств интуиции особо выделялся признак непосредственности, то ныне о нём предпочитают молчать. Связь интуиции с функционированием методов как средств интеллекта начинает обретать легитимные права. В общем плане эта зависимость объясняется влиянием бессознательного, которое вуалирует действие информационных структур, создавая видимость непосредственности. Эту стратегию можно усилить и развить, обратившись к феномену внимания. Работа внимания оставляет в тени методы интуиции. Давно известно, что человеческое внимание в каждый данный момент времени имеет узкую предметную направленность. Исходя из этой черты, Э. Гуссерль построил концепцию фокальных и маргинальных областей сознания. В 1956 году американский психолог Дж. Миллер опубликовал статью «Магическое число семь, плюс — минус два?», где, привлекая результаты относительно простых опытов, показал максимально возможные размеры предмета актуального внимания. Из огромного множества внешних стимулов индивидуальное сознание способно фиксировать не более девяти единиц. Стало быть, в фокусе внимания может находиться одновременно весьма небольшая группа признаков, В определённом ракурсе сознание есть внимание, осознаётся лишь то, что стало предметом внимания. И если такое сознание актуально ориентируется всегда в одном направлении, то из этого вытекают важные следствия в отношении интеллекта. Как мы уже выяснили, его работа строится путём функционального разделения знаний на предмет и метод. Эти блоки образуют нелинейную композицию, где предмет выражает один уровень сознания (периферию), а метод представлен более значимыми значениями (глубинный уровень). В эмпирическом опыте предмет и метод конституируются почти одновременно. Что происходит здесь с процессом внимания? Поскольку первым формируется предмет, задающийся извне, то он и попадает в зону внимания. В ней оказывается и познавательный результат, получающийся из смысловой трансформации предмета, которая протекает относительно быстро. Как раз в таком режиме и действует «естественная установка» (Э. Гуссерль), присущая практическому интеллекту. В таком случае вне области внимания остаётся метод, ибо его позиция расположена «вне» предметного блока. Внимание не может быть направлено сразу в двух различных направлениях и если оно нацелилось на предмет, то тем самым из поля его действия выпадает метод. «Векторы» осознающего внимания и активности метода совпадают своей направленностью на предмет, но как раз эта слитность и не позволяет лучу сознания осветить орудие интеллекта, которое остаётся в «тени». Таковы корни классической иллюзии неинструментальности интуиции. 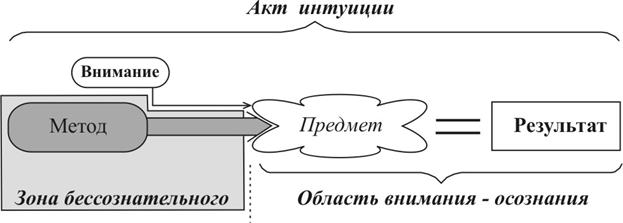 | |
Примечания | |
|---|---|
| |
Оглавление | |
| |