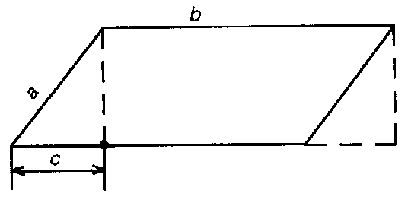В предыдущей главе была описана общая эмпирико-теоретическая ситуация, которая сложилась в сфере первого блока составляемого здесь списка основных свойств мысли. Следующая группа свойств, входящих в составляемый перечень, охватывает характеристики, содержащие уже собственно родовую специфику всего класса мыслительных процессов, включающего и допонятийную, и высшую — понятийную — их формы (взятые здесь в соответствии с общим генетическим принципом — как стадии развития). При этом в соответствии с принятой выше стратегией составления этого перечня в первую подгруппу войдут характеристики, составляющие структурные особенности мысли как результата мыслительного процесса, поскольку они представлены в более явной и определённой форме, «сверху» задающей вектор последующего описания характеристик самого процесса становления мысли как результативного образования. Структурная формула мыслиФакт необходимой включённости речевых компонентов в мыслительный процесс, или облечённости мысли в речевую форму, носит довольно скрытый характер и требует специального экспериментального обоснования, поскольку он относится не только к мысли как готовой результативной форме, но Что же касается зрелой формы и структурной единицы отдельной мысли, то не требует никаких специальных комментариев и экспериментальных обоснований тот простой и ясный факт. что законченная отдельная мысль, взятая не Этот универсальный характер трёхчленного предложения как необходимой речевой единицы законченной мысли был очень отчётливо подчеркнут в его не просто лингвистическом (что общепризнано), но именно психологическом и даже психофизиологическом значении ещё Приступая к рассмотрению вопроса о структуре и механизмах предметного (что в упоминаемом контексте означает — конкретно-образного) мышления, Трёхкомпонентность речевой структурной формулы мысли Универсальность же этой формулы — и именно это особенно важно здесь подчеркнуть — В итоге трёхчленная структурная формула, по Это объясняется общей теоретической монолитностью сеченовской концепции, впервые охватившей единым принципом организации не только нервные и элементарные нервно-психические процессы, но и нервно-психические процессы самых разных уровней, начиная от простейших ощущений и заканчивая высшими формами мышления. Своим синтетическим охватом, базирующимся — в отличие от общефилософского синтеза — на глубинном аналитическом рассмотрении известного к тому времени конкретного психофизиологического материала, относящегося к отдельным генетическим этапам развития психических процессов Подход, в самой своей общей стратегии и логике необычно близкий к современному, Суждение как единица мыслиТрёхчленное или в предельных случаях двучленное предложение как структурная единица внешней речевой формы мысли, естественно, скрывает за собой и соответствующий ей структурный эквивалент, относящийся уже не к речевой «оболочке» мысли, Логика, соответственно специфике её подхода и предмета исследования, во всяком случае в её традиционных вариантах, считает, как правило, такой исходной логической формой понятие. И это остаётся справедливым для высших уровней мышления, в которых элементом суждения действительно является понятие. Здесь последовательный ряд логических форм, упорядоченный по критерию нарастающей сложности, идёт от понятия через суждение к умозаключению. В логике высказываний, составляющей часть современной общей теории символической логики, исходной формой считается суждение, поскольку высказывание является предложением, которое выражает суждение. Элементарным высказыванием и, следовательно, соответствующим ему элементарным суждением является высказывание (суждение), части которого сами не являются высказываниями (суждениями). От внутренней структуры элементарного высказывания и соответствующего ему суждения, рассматриваемых здесь как далее неразложимые единицы, эта логическая система отвлекается. Тем самым вопросы о том, из каких единиц построено суждение, является ли такой единицей понятие или какая-либо другая структура, соответствует ли эта структурная единица, входящая в состав суждения, логической форме более общей, чем суждение, или такая наиболее общая логическая форма есть само суждение, остаются в пределах этой логической системы открытыми. Логика предикатов, являющаяся более широкой логикосимволической теорией, получаемой из логики высказываний путём введения кванторов общности, проникает во внутреннюю субъектно-предикатную структуру высказывания-суждения. Более элементарная единица такой структуры, являясь логическим «атомом» суждения как «молекулярного» образования, вместе с тем по необходимости носит более общий характер. Если такой внутренней структурной единицей суждения является понятие, то, следовательно, и здесь (как Такое абстрагирование естественно ещё и потому, что образ — первичный или вторичный — как собственно психическая структура вообще не является предметом логического исследования. Но тем самым из логики выпадает и вопрос о том, является ли более высокий ранг общности внутренней структурной единицы суждения (по сравнению с самим суждением) результатом того, что эта единица представляет более общую, чем суждение, мыслительную, логическую форму, или выражением принадлежности этой структурной единицы к более общим психическим познавательным процессам, выходящим уже за рамки мысли (как это было бы в том случае, если такой структурной единицей суждения на более элементарных уровнях организации мысли является образ). Когда ребёнок преддошкольного возраста формулирует свои первые суждения такого, например, типа, как «лампа горит», «собака лает» или «человек бежит», то вряд ли есть сколько-нибудь серьёзные основания утверждать, что элементы этих суждений — их субъекты и предикаты, скрывающиеся за соответствующими словесными именами, выражают собой понятийные обобщения («лампа», «собака» или «человек»). Не требуется никаких приёмов психологического экспериментирования и теоретической интерпретации, чтобы увидеть и заключить, что за соответствующими словесными обозначениями скрываются сенсорно-перцептивные образы. Это здесь ясно подсказывается самой динамикой соотношения речевого акта с перцептивным поведением — со следящими движениями глаз, поворотами головы и. т. д. Достаточно очевидно, что эти первичные образы и составляют здесь структурные компоненты суждения. Эти структурные элементы отображают объекты (предметы или их признаки), отношения между которыми выражены в суждении как простейшей форме мысли. Когда ребёнок уже дошкольного возраста формулирует более сложные суждения такого, например, типа, как «вилка — это палочка и зубчики на ней» или «лошадь — это живот, спина, голова, хвост и четыре ноги по углам» (Люблинская, 1958), то и здесь нет ещё понятийных обобщений, а расчленяемыми и связываемыми структурными элементами суждения опять-таки являются образы, которые, однако, на этой ступени могут быть уже не только первичными (сенсорно-перцептивными), но и вторичными (представлениями). И только на грани школьного возраста суждения ребёнка приобретают характер первоначальных понятийных обобщений, имеющих пусть ещё элементарную, но уже родо-видовую структуру, в которой расчленены и соотнесены более частные и более общие компоненты. Таковы, например, суждения ребёнка: «Вилка — это посуда», «Вилка — это вещь такая», «Лошадь — это зверь, это животное», «Кукла — игрушка» (там же). Из всех этих эмпирических данных ясно, что суждение, структурными элементами которого являются понятийные обобщения, представляет лишь высшую, частную форму суждений. Такое эмпирическое заключение вытекает, однако, не только из данных генетической психологии, относящихся к онтогенезу мысли, то есть к детской психологии, и даже не только из соответствующих им эквивалентов исторического генеза мысли, в которых ещё также не были представлены понятийные обобщения (Леви Брюль, 1930), но Весь семантический и поведенческий контекст таких простых суждений взрослого человека свидетельствует в пользу положения о том, что и здесь более общим является вариант, в котором структурными компонентами или операндами, связываемыми операцией суждения в суждение как речемыслительную структурную форму мысли, являются первичные или вторичные образы. Поэтому совершенно не случайно, что в психологии мышления, особенно в генетической, в противовес логике, давно существует эмпирически обоснованная точка зрения, утверждающая вторичный, производный характер понятия как структурной единицы мысли и, соответственно, генетическую первичность суждения как универсальной структурной формы мысли. Так, ещё К. Бюлер, базируясь на экспериментальном материале своих исследований, пришёл к заключению о том, что понятие, будучи производным и тем самым более поздним продуктом развития мышления, вырастает из двух компонентов. Первым из них являются, согласно К. Бюлеру, обобщённые и сгруппированные представления, а вторым — функция суждения. Представления и суждения, взаимодействуя между собой, порождают понятие как вторичную, более сложно организованную и вместе с тем более частную структурную единицу мысли. Первичной же, корневой и более общей формой мысли является, согласно этой точке зрения, суждение, элементами которого являются ещё не понятия, а представления. Л. С. Выготский, критикуя К. Бюлера за то, что он не учитывает наиболее важной роли речи в организации этих мыслительных структур, принимает, однако, его эмпирический вывод о генетической и структурной первичности суждения по сравнению с понятием, считая это заключение экспериментально обоснованным и нашедшим подтверждение в фактическом материале его собственных исследований: «Подобно тому как слово существует только внутри целой фразы, и подобно тому, как фраза в психологическом отношении появляется в развитии ребёнка раньше, чем отдельные изолированные слова, подобно этому и суждение возникает в мышлении ребёнка прежде, нежели отдельные, выделенные из него понятия» (Выготский, 1956. — Таким образом, согласно В том генетически более раннем и, вместе с тем, более общем случае, где структурной единицей самого суждения не является ещё понятие, таким структурным компонентом, воплощающим психическое отображение соотносимых мыслью объектов, служит образ — первичный или вторичный. Будучи структурным компонентом суждения, образ не является, однако, структурной единицей мысли в её специфическом по сравнению с другими познавательными процессами родовом качестве. Здесь образ — «атом» мысли, но не её «молекула», поскольку атом мысли — это ещё не мысль, так же как атом водорода или кислорода — это ещё не вода в её физико-химических свойствах, а молекула воды — это уже вода. Поскольку структурная единица явления данного уровня сложности обладает уже основным родовым качеством, воплощающим специфику этого уровня организации по сравнению с другими, такой структурной единицей или «молекулой» мысли является именно суждение. Этот вывод имеет не только эмпирико-психологические, но и принципиально теоретические основания. Если отображение отношений является хотя и недостаточным, но необходимым признаком мысли, то её структурная единица, как и структурная единица её речевой формы, принципиально моногокомпонентна, в частности трёх- или в пределе двухкомпонентна. Можно сказать иначе: молекулярная единица мысли, воплощающая ещё её родовое специфическое качество «отображение отношений», — «двухатомна», но трёхкомпонентна. Два «атома» реализуют отображение соотносимых объектов, а третий компонент — связка воплощает в себе «химическую связь» между атомами, соединяющую атомы в молекулу. Эта связка соответствует оператору. Таким образом, молекулярная структурная формула мысли включает два операнда и один оператор, реализующий соотнесение операндов. Операнды на разных уровнях сложности, соответствующих различным стадиям развития, могут быть разными. В более общем и генетически более раннем случае — это понятия (структурную специфичность которых предстоит выяснить на следующих этапах нашего анализа). Необходимостью наличия минимум двух операндов и одного оператора в молекулярной структурной единице мысли и определяется как структура суждения, воплощающего универсальную логическую форму мысли, так и структура его речевого эквивалента — трёхчленного предложения. Здесь, в этой универсальной трёхкомпонентной формуле — именно потому, что в ней разведены компоненты, относящиеся к операндам и оператору, и оператор представлен отдельным элементом — связкой, воплощено единство структурной формы и операционного состава мысли. Суждение — это одновременно логическая структурная единица мысли и вместе с тем акт мысли, объективированный в этой структуре. Иначе говоря, суждение — это универсальная единица как предметной, так и операционной структуры мысли. Тем самым операционные компоненты — и это видно уже на уровне эмпирического описания — представлены не только в процессуальной динамике мышления (что будет кратко описано ниже), но В отличие от сенсорно-перцептивного или вторичного образа, процессуальная динамика становления которого также связана с операционными компонентами, не вычленяющимися, однако, в отдельный компонент его результативной структуры, в мысли компоненты предметной и операционной структуры разведены в виде её отдельных самостоятельных элементов, совместно и равноправно представленных в единой структурной формуле. Уже одно это сразу же обнаруживает, что характер соотношения собственно предметных структурных компонентов мысли с её операционным составом существенно иной, чем в сфере образов, определённые уровни организации которых формируются в опоре на движение объекта и прямо не связаны с преобразующей операционной активностью субъекта. В мысли же, как это показывает реализуемое здесь первичное эмпирическое описание, структурные и собственно операционные компоненты принципиально необособимы. Поскольку эта взаимосвязь воплощена в структуре суждения как универсальной структурной единицы мысли, она включается в состав специфичности мысли по сравнению с образом. Опосредствованность мыслиРассмотренная выше принципиальная органическая взаимосвязь операндов и операторов в составе и структуре мысли подводит к следующему эмпирическому признаку мысли — её опосредствованному характеру. Выше было показано, что это свойство мысли, если усматривать его сущность в возможности выхода за пределы непосредственного опыта, не достаточно для описания и выявления специфики мысли по сравнению с образом, поскольку и представление является образом объекта, непосредственно не действующего на орган чувств, и воплощает «портрет класса», отдельные представители которого не были восприняты в прошлом опыте. Не будучи достаточным для выделения специфичности мысли, свойство опосредствованности является, Описание опосредствованности как эмпирической характеристики требует ответа на вопрос, чем же именно непосредственно предметная картина опосредствованна даже Однако самый факт речевого сопровождения образных процессов ещё не создаёт опосредствованности как мыслительной характеристики. Обозначение отдельного образа отдельным словом, реализуя акт называния, хотя и составляет существенную предпосылку мышления, само по себе, однако, ещё не возводит этот образ в ранг собственно мысли. Такого рода наречение объекта именем путём воплощения образа в слове, происходит ли оно на ранних стадиях онтогенеза в самом начале речевого развития или даже у взрослого человека, вполне может осуществляться и на уровне оречевленной перцепции. Таким образом, наличие речевого опосредствования является, Исходя из существа описанных выше свойств мысли, есть основание думать, что опосредствованность как именно мыслительная характеристика связана с наличием и необходимой ролью операционных компонентов мысли. Однако само по себе наличие операционных компонентов в динамике образов (то есть манипулирование образами), как и само по себе наличие речевых компонентов, не возводит ещё такую динамику в ранг мысли — оно может ещё не содержать в себе определённого отражения отношений, воплощённого в универсальную структурную формулу мысли. Манипуляции с образами сновидной конструкции и даже в условиях бодрствования в мечте, грезе или фантастическом калейдоскопе, как и манипуляции с вещами, сами по себе в общем случае не создают ещё мысли и не заключают в себе опосредствованности как мыслительной характеристики. Таким образом, операционные, как и речевые, компоненты составляют, Этот переход, анализируемый здесь на уровне эмпирического описания, опосредствован, с одной стороны, включением символически-речевых операндов, Обобщённость мыслиПоследовательное рассмотрение приведённого выше перечня тесно взаимосвязанных между собой эмпирических характеристик мысли приводит в данном пункте к выявлению специфики её обобщённости. Как многократно упоминалось, сама по себе обобщённость, будучи сквозным параметром всех познавательных процессов, в этом своём родовом качестве не может быть носителем видовой специфичности мысли. Не может быть таким носителем и более высокая степень обобщённости, поскольку, как уже упоминалось, сам по себе количественный рост степени обобщённости образа приводит лишь к более обобщённому образу и не может обеспечить перехода через образномыслительную границу. С другой стороны, сам факт наличия обобщённости мысли, как и факт более высокой степени её выраженности, чем в сфере образов, не заключает в себе, Вопрос, таким образом, сводится к тому, в чём заключается специфика мыслительной обобщённости. Предварительный, пока только эмпирический ответ на этот вопрос подсказывается сочетанием рассмотренных выше характеристик. Трёхчленная формула молекулярной единицы мысли, относящаяся как к её внешней — речевой, так Это вычленённое посредством соответствующей операции отношение, поскольку оно охватывает класс пар объектов, объединённых связью независимо от конкретной специфичности соотносящихся операндов, является общим признаком всех пар класса. Таким образом, отношение представлено здесь в обобщённой форме, а эта обобщённость является обобщённостью именно отношений. Так как это обобщённое отношение выделено и представлено самой структурной формулой молекулярной единицы мысли, эта формула тем самым является одновременно и структурной формулой обобщённости именно как характеристики мысли, в отличие от обобщённости образа, в котором отношения «вмонтированы» в целостную структуру отображаемой ситуации, а обобщённость представлена не вычленением общих отношений посредством операции сопоставления, а выделением наиболее общих компонентов самой этой целостной структуры. Феномен «понимание»Произведённое выше описание эмпирических характеристик мысли как результативного психического образования ясно показывает, что все они, воплощая разные аспекты её структуры, органически взаимосвязаны и каждая из предшествующих характеристик проливает свет на особенность последующих. В данном звене последовательно составляемой «цепи» основных характеристик эта их органическая взаимосвязь вводит в сферу рассмотрения такую сугубо специфическую особенность мысли, как её «понятность» или, наоборот, «непонятность», обозначаемые в экспериментальной психологии мышления как «феномен понимания». Понимание как психологическая специфичность мыслиПерефразируя известное положение А. Эйнштейна (1965), что самое непонятное в этом мире — то, что он понятен, можно ещё на больших, пожалуй, основаниях сказать, что самой непонятной характеристикой мысли как раз является её понятность или непонятность. Парадоксальность этой особой непонятности природы понимания состоит в чрезвычайно резком разрыве между впечатлением непосредственной субъективной ясности и кажущейся «очевидности» того, что значит «понятно», и необычной трудностью не только теоретически определить, но и чётко эмпирически описать это специфическое явление и адекватно соотнести его субъективные и объективные показатели и особенности. Первое обстоятельство, на которое здесь следует указыва, состоит в том, что, хотя термин «понимание» как в обыденной жизни, так Понятной или непонятной может быть также своя собственная или чужая эмоция. Но непонятная эмоция не перестаёт быть эмоцией как «психической реальностью» (Сеченов, 1947), также как непонятый перцептивный образ не перестаёт быть образом во всей его основной психологической специфичности. В отличие от этого непонятая мысль, если в ней действительно отсутствуют даже проблески понимания, перестаёт быть мыслью в её специфическом качестве и может быть только механически воспроизведённой, что как раз и означает, что в этом случае от неё остаётся лишь пустотелая речевая оболочка. Жизненная практика, в частности Исходя из всего этого, если абстрагироваться от зародышевых проявлений и переходных форм, можно, не допустив существенной погрешности, утверждать, что без понимания нет мысли в её психологической специфичности. Для такого заключения в данном контексте есть тем большие основания, что здесь речь идёт не о процессе мышления, где понимание на разных фазах может быть выражено в разной степени, «Неуловимость» конкретного состава понимания как специфической характеристики мысли и вытекающая из этого трудность экспериментального анализа определяют скудость и чрезвычайную разрозненность соответствующего эмпирического материала. Тем не менее экспериментальная психология располагает некоторыми эмпирическими выводами, основные моменты которых должны быть в виде краткого схематического описания включены в составляемый перечень. Перечислим их последовательно. Понимание как «синтетический инсайт»Обобщая большой материал своих экспериментальных исследований продуктивного мышления, Такое понимание отношений именно как синтетическое обнаружение, согласно К. Дункеру, возможно потому, что ситуация репрезентирована в мысли определённой структурой. Каждой определённой структуре соответствуют представленные ей отношения элементов или функции. Из такого соответствия функций структуре следует, что если какие-либо структурные компоненты ситуации включаются в другую целостную структуру, то эта новая структура раскрывает — именно в силу указанного соответствия — новые функции включённых в неё компонентов. Новые функции или отношения усматриваются, предстают перед субъектом, и возникает их понимание как результат переструктурирования ситуации и синтетически целостного охвата новой структуры, которая раскрывает неизбежно скрытые в ней новые отношения: «Синтетическое обнаружение возможно благодаря тому факту, что в ситуации, данной в определённой структуре и характеризующейся определёнными функциями (аспектами), могут обнаруживаться новые функции (аспекты), когда эта ситуация, не претерпевая существенных изменений, включается в новые образования. Под новыми я понимаю функции, которые не использовались в характеристике первоначальной ситуации» (Дункер, 1965. — Поскольку синтетически целостная пространственно-временная структура ситуации скрывает в себе соответствующие ей функции, которые могут быть из неё извлечены, К. Дункер усматривает в этом механизме переформулирования отношений из структурной формы в функциональную ответ на кантовский вопрос об источнике синтетических суждений о новых отношениях. Сочетание пространственно-структурных и символически-операционных компонентов мысли в феномене пониманияЭкспериментальные факты и следующие из них эмпирические выводы, близкие к положениям К. Дункера, но вместе с тем характеризующие органическую связь понимания не только с целостными пространственноструктурными, но
Однако, несмотря на возможность получать правильные ответы при помощи данного метода, М. Вертгеймер указывает на его крайнюю искусственность, эмпирически выраженную в том принципиальном факте, что испытуемые, последовательно применяя заданный алгоритм и получая ответ, не понимают, что они делают. На вопрос о том, могут ли они доказать правильность полученного результата, испытуемые, решившие задачу, не могут ответить. Таким образом, в этих условиях и процесс решения, и его результат, несмотря на их формальную адекватность, лежат вне пределов понимания. Осмысленности здесь нет ни на промежуточных фазах, ни на конечном этапе. Иначе говоря, суждение, выражающее ответ, не будучи понятым именно как правильное решение, не является здесь мыслью в её специфическом психологическом качестве. Если, однако, использование этой формулы площади параллелограмма непосредственно следует за обучением определению площади прямоугольника, то некоторые испытуемые начинают сопоставлять обе задачи. И в тот момент, когда, говоря словами К. Дункера, наступает «синтетическое обнаружение» того факта, что на одном конце не хватает как раз того, что выступает на другом, и что если выступающую часть перенести на другой конец, то получится обычный прямоугольник, возникает понимание. М. Вертгеймер связывает его с «уяснением структуры». В чём же Сопоставляя параллелограмм с соответствующим прямоугольником (см. Pис. 12), испытуемые обнаруживают, что величина b выражает основание прямоугольника, полученного путём перестановки левого скошенного конца направо, а величина корня из (а - с) ( Сопоставление такого психологического состава решения с тем, что имеет место, когда слепо найденное по формуле решение остаётся непонятым, ясно показывает, что представленный здесь в самом материале эмпирически выявленный состав понимания заключается в определённом адекватном сочетании оперирования символами, аналитически заданного формулой, со структурными, пространственно-временными компонентами мысли, отображающими её объекты. Можно, таким образом, на основе этих достаточно ясных и простых фактов сделать эмпирическое заключение о том, что по крайней мере для рассмотренных ситуаций как символически-операторные, так и структурно-предметные пространственно-временные компоненты мысли являются необходимыми ингредиентами феномена понимания. В данном пункте анализа естественно напрашивается сопоставление с фактическим материалом, рассмотренным выше в связи с составлением перечня основных пространственно-временных характеристик мысли, Поскольку эмпирические выводы М. Вертгеймера относятся к особенностям мысли, формирующейся в ходе обучения, целесообразно прежде всего соотнести их с материалами современной педагогической психологии, которые ясно свидетельствуют о зависимости успешности обучения от использования модельных представлений при решении соответствующих учебных, в частности физических, задач. Самые же эти психические модели необходимо включают в себя пространственную схему объектов, составляющих материал задачи, адекватно сочетающуюся с символическиоператорными компонентами, воплощёнными в естественном (словесном) или искусственном (математическом) языке. Аналогичные данные о роли модельных представлений и сочетаний образно-пространственных и символических компонентов мысли содержатся Особенно, пожалуй, ясным и демонстративным является органическое родство эмпирических выводов К. Дункера и М. Вертгеймера с приведёнными выше данными нейро- и патопсихологии. В самом деле, синтетическое обнаружение у К. Дункера и уяснение структуры у М. Вертгеймера, явно опирающиеся на целостную пространственно-временную схему, по своему прямому смыслу заключают в себе то же самое содержание, которое в нейропсихологии обозначается как симультанный синтез (Лурия, 1975). В фактах К. Дункера Операционные компоненты феномена пониманияСледующий ингредиент состава понимания по существу в скрытом виде уже содержится в рассмотренных выше фактах. Если понимание связано с адекватным сочетанием пространственно-временных и символических, речевых компонентов мысли, а последние, как это вытекает из рассмотрения её структурной единицы (сужденияпредложения), в свою очередь, представлены сочетанием операндных и операционных элементов, то из этого прямо вытекает существенная зависимость понимания и от этого последнего сочетания, то есть от того, насколько в мысли реально (или в её итоговой структуре — потенциально) представлены операции с операндами. Если реальные операции, выделяющие и соотносящие между собой элементы отображаемого содержания, не представлены в познавательном акте, то в нём не представлены и отношения между этими элементами как особый объект отражения. В данном случае отношения могут быть отображены на более общем и элементарном познавательном уровне (например, в первичном или вторичном образе), а мысль как отображение собственно отношений или, иначе, именно как понимание отношений при отсутствии операций с соответствующими объектами оказывается невозможной. Это как раз тот упоминавшийся уже выше случай, когда при сохранении внешней речевой формы мысли фактически от мысли как высшего специфического познавательного акта остаётся лишь пустотелая словесная оболочка. Такое положение является не только неизбежным следствием последовательного распутывания всего узла предшествующих характеристик мысли, входящих в составляемый перечень, но и прямым эмпирическим выводом из непосредственного экспериментального анализа самого явления понимания. Так, «Для осмысления нового необходимо не только иметь знания, но ещё и владеть приёмами использования их. Основным компонентом понимания как стороны мышления является именно применение определённых приёмов (представляющих собой совокупность мыслительных операций) установления новых связей на основе использования старых знаний» ( Это положение — не только вывод из специального экспериментального исследования, вместе с тем, оно представляет экстракт из всего огромного опыта педагогики и педагогической психологии. Всякий педагог хорошо знает, насколько острый и больной вопрос практики обучения скрывается в этом пункте: всякая заученная, но не понятая формулировка обнаруживает свою пустоту и фактическое отсутствие мысли при первой же необходимости произвести соответствующую мыслительную операцию и выделить то отношение, которое составляет содержание данной мысли. Дальнейшее комментирование этой связи понимания с самостоятельным оперированием соотносимыми компонентами мысли, Понимание как инвариант вариативных характеристик мыслиСвязь понимания с операционным составом мысли имеет ещё один эмпирический аспект, представляющий теоретический интерес и имеющий большое практическое значение для педагогической психологии. Педагогическая практика с достаточной определённостью показывает, что существуют хотя и очень мало исследованные и даже почти не описанные и не сформулированные в терминах их конкретных параметров, но на интуитивном уровне хорошо известные каждому педагогу объективные критерии понимания. Наиболее важный из этих критериев связан с вариативностью конкретного операционного состава и конкретных частных особенностей операндов-объектов мысли при неизменности отображаемого ей отношения, составляющего её основной смысл. Вариативность является наиболее важной общей характеристикой психически регулируемых действий, проявляющейся на разных уровнях их построения и управления (Бернштейн, 1947; 1966; 1996). И речевые действия не составляют здесь исключения. Если на уровне сенсорно-перцептивной регуляции предметного действия вариативность выражается, например, в возможности изменить направление, последовательность, скорость и траекторию движения при неизменности его общей предметной структуры (Веккер, 1964), то по отношению к речемыслительному действию эта вариативность проявляется в том, что суждение, воплощающее в себе структурную единицу мысли и отображающее определённое отношение между её операндами — субъектом и предикатом, может быть выражено разными логическими и грамматическими средствами. Ход и последовательность состава операций, соотносящих операнды для выявления отношений между ними, могут быть разными. Субъект и предикат могут меняться местами, субъект может становиться предикатом, а предикат субъектом, операция соотнесения может начинаться как с субъекта, так Так, например, определённое отношение между объектами «Земля» и «Солнце», являющееся содержанием мыслительного отражения, остаётся инвариантным при различных вариациях отображающих это отношение суждений и соответствующих им предложений: «Солнце освещает Землю», «Земля освещается Солнцем», «Землю освещает Солнце», «Солнцем освещается Земля». Эта инвариантность смысла, выражающего одно и то же отношение при различных вариациях соотнесения соответствующих операндов, представлена здесь очень элементарным отношением, воплощённым в простой логикограмматической конструкции, но она имеет место на всех уровнях организации мысли. При этом по мере повышения уровня сложности отображаемого отношения и выражающей его логико-грамматической структуры эта вариативность операций растёт. С другой стороны — и это в данном контексте представляет главный интерес, — если объективным фактором, определяющим меру возможной вариативности в рамках инвариантного смысла, является сложность соответствующего отношения и выражающей его мыслительной структуры, то субъективно-психологическим условием этих вариаций в рамках смыслового инварианта является понимание отношения, отображённого данной мыслью. Чем полнее глубина понимания данного отношения, тем большим числом способов оно может быть раскрыто и выражено. И наоборот, чем менее это отношение понято, то есть чем с меньшей определённостью оно выделено с помощью соответствующей операции, тем менее вариативной, или более стандартной, будет мыслительная структура. Можно даже, Вместе с тем, именно и только при условии выделенности и понятости соответствующего отношения как инварианта, сохраняющегося при различных вариациях операндного и операторного состава мысли, может осуществляться адекватный перенос и использование этой мысли в ситуации, где отношение остаётся тем же, а объектьюперанды и соотносящие их операторы являются уже иными. Другим качественным показателем и количественным критерием понимания является мера переноса, или транспонируемости, инвариантного отношения, выраженного данной мыслью. Поэтому вполне обоснованным является эмпирический вывод К. Дункера (1965) о том, что «в той же мере, в какой определённое решение «понято», оно «транспонируемо», то есть при изменённой ситуации оно соответствующим образом (то есть с сохранением своего значения для решения) изменяется. Решение является транспонируемым именно тогда, когда осознано его функциональное значение, его общий принцип, то есть инвариант, из которого путём введения варьирующих условий ситуации каждый раз получается соответствующая задаче вариация решения» ( | |||
Оглавление | |||
|---|---|---|---|
| |||