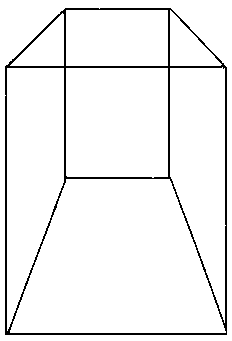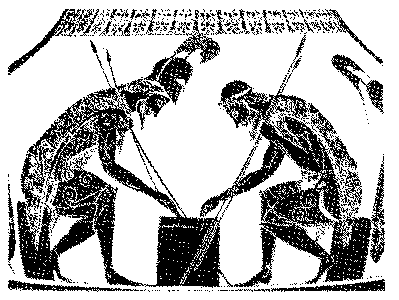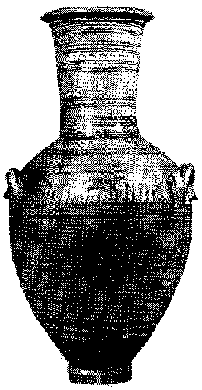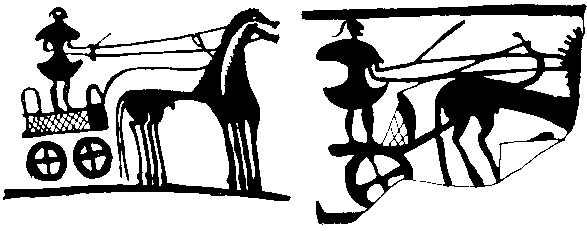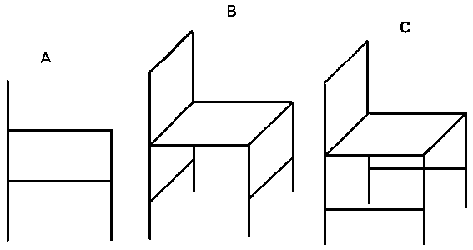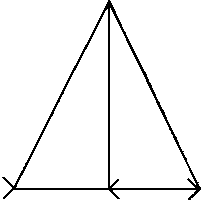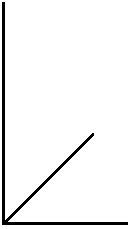| |||||||||||||||||||||
Я с большой симпатией отношусь к концепции, ясно и изящно сформулированной Уорфом (и предвосхищённой Бэконом), которая утверждает, что языки и схемы реакций, содержащиеся в них, представляют собой не просто инструменты для описания событий (фактов, положений дел), а являются также формообразующими матрицами событий (фактов, положений дел) [1] и что их «грамматика» содержит некоторую космологию, всеобъемлющее воззрение на мир, общество и положение в нём человека [2], которое оказывает влияние на мышление, поведение и восприятие людей [3]. Согласно Уорфу, космология языка отчасти выражается посредством явно используемых слов, однако она также опирается на классификации, «которые не имеют явных обозначений… но действуют через незримый «центр обмена» соединительными связями так, что детерминируют другие слова, обозначающие классы» [4]. Так, «род имён существительных, таких, как мальчик, девочка, отец, жена, дядя, женщина, дама, включая тысячи даваемых им имён, например Джордж, Фред, Мери, Чарли, Изабелла, Исидора, Джейн, Джон, Алиса, Алоис, Эстер, Лестер, и так далее, хотя и не имеет отличительного признака особого рода, подобно латинским -us или -а, тем не менее каждое из таких слов устойчиво связано с абсолютно точным словом «Он» или «Она», которые, однако, лишь подразумеваются до тех пор, пока ситуация не потребует их явного выражения» [5]. Скрытые классификации (которые благодаря своей неявной природе «скорее чувствуются, чем понимаются, — осознание (их) носит интуитивный характер» [6], — которые «вполне могут быть более рациональными, нежели явно выраженные классификации» [7], и которые могут быть весьма «тонкими» и не иметь связи «с какой-либо важной дихотомией» [8]) создают «устойчивое противодействие значительному отклонению точек зрения» [9]. Если такое противодействие направлено не против признания истинными противостоящих альтернатив, а против самого допущения об их существовании, то мы получим пример несоизмеримости. Я думаю также, что такие научные теории, как теория движения Аристотеля, теория относительности, квантовая теория, классическая и современная космологии, являются достаточно общими, «глубокими» и разработанными для того, чтобы их можно было уподобить естественным языкам. Дискуссии, которые подготавливают переход к новой эпохе в физике или астрономии, вряд ли ограничиваются обсуждением явных особенностей ортодоксальной концепции. Они часто обнаруживают скрытые идеи, заменяют их идеями другого сорта и изменяют как явные, так и неявные классификации. Анализ «аргумента башни», осуществлённый Галилеем, привёл к более ясной формулировке аристотелевской теории пространства и одновременно обнаружил различие между импетусом (абсолютной величиной, присущей объекту) и моментом (который зависит от избранной системы отсчёта). Эйнштейновский анализ одновременности выявил некоторые особенности ньютоновской космологии, которые, хотя и не были осознаны, (Поскольку несоизмеримость зависит от глубинных классификаций и предполагает важные концептуальные изменения, постольку вряд ли можно дать её явное определение. Обычные «реконструкции» не способны извлечь её на поверхность. На феномен несоизмеримости следует указать, а затем с помощью разнообразнейших примеров подготовить читателя к тому, чтобы он сам мог судить о нём. Именно такой метод будет принят в настоящей главе [12].) Интересные случаи несоизмеримости встречаются: уже в области восприятия. (Это неудивительно, если вспомнить соображения, высказанные в главе 14.) При подходящих воздействиях, но при разных системах классификации (разных «психических установках») наш перцептивный аппарат способен создавать столь разные перцептивные объекты, что их трудно сравнивать [13]. Непосредственная оценка невозможна. Мы можем сравнить две позиции в памяти, но не в момент концентрации внимания на одном и том же рисунке. Первый из приведённых ниже рисунков идёт ещё дальше. Он порождает такие перцептивные объекты, которые не отрицают в то же время других перцептивных объектов, и вместе с тем не позволяют сформировать вообще никакого объекта (следует отметить, что средний цилиндр постепенно исчезает по мере того, как мы продвигаемся слева направо). Здесь даже память не помогает нам вполне рассмотреть альтернативы.
Каждый рисунок, обладающий даже очень небольшой перспективой, обнаруживает это свойство: мы можем направить наше внимание на сам лист бумаги, на который нанесены линии, — тогда у нас не будет трёхмерного изображения; с другой стороны, мы можем попытаться исследовать свойства изображения — в этом случае поверхность листа исчезает или превращается в то, что можно назвать иллюзией. И нет способа «ухватить» переход от одного к другому [14]. Во всех этих случаях чувственный образ зависит от «психических установок», которые можно изменять по собственному желанию, не прибегая к помощи наркотиков, гипноза или перестройки сознания. Однако психические установки могут застывать благодаря болезни, в результате воспитания в рамках определённой культуры или выхода Интересный пример физиологически детерминированных установок, приводящих к несоизмеримости, даёт развитие человеческого восприятия. Как показали Пиаже и его школа [15], восприятие ребёнка проходит в своём развитии различные стадии, прежде чем достигнет относительно устойчивой зрелой формы. На одной из стадий объекты ведут себя подобно послеобразам и вызывают к себе соответствующее отношение. Ребёнок следит глазами за объектом до тех пор, пока тот не исчезнет; он не делает ни малейшей попытки вернуть его, даже если это требует минимального физического (или интеллектуального) усилия, даже если это усилие уже вполне доступно для ребёнка. Здесь нет никакого стремления к поиску объекта, и, говоря «концептуально», это вполне понятно. В самом деле, было бы бессмысленно «искать» послеобраз, ибо его «понятие» не предусматривает для этого никаких операций.
Формирование понятия и чувственного образа материального объекта резко изменяет ситуацию. Происходит коренное преобразование схем поведения и, как можно предположить, мышления. Послеобразы и подобные им явления всё ещё существуют, однако теперь их трудно обнаружить, и для этого требуются специальные методы (следовательно, более ранний мир визуальных объектов буквально исчезает) [16]. Эти методы опираются на новую концептуальную схему (послеобразы существуют только в человеческом сознании и не принадлежат физическому миру) и не могут точно реконструировать явления предыдущей стадии. (Поэтому реконструированные феномены следует называть иным именем, скажем «псевдопослеобразами» — весьма интересная перцептивная аналогия для перехода, например, от ньютоновской механики к специальной теории относительности.) Ни послеобразы, ни псевдопослеобразы не имеют места в новом мире. Они не рассматриваются, например, как свидетельства, на которые опирается новое понятие материального объекта. Их нельзя использовать и для объяснения этого понятия: послеобразы появляются вместе с ним, зависят от него и отсутствуют в мышлении тех, кто ещё не осознает материальных объектов. Псевдопослеобразы исчезают тотчас же, как только происходит такое осознание. Поле чувственного восприятия никогда не содержит послеобразов вместе с псевдопослеобразами. Следует допустить, что каждая стадия в развитии чувственного восприятия обладает некоторым «базисом» наблюдения, на который обращают особое внимание и из которого получают совокупность утверждений. Однако этот базис а) изменяется при переходе от одной стадии развития к другой, Рассматривая эти соображения, мы можем предположить, что семейства понятий, концентрирующиеся вокруг понятий «материальный объект» и «псевдопослеобраз», несоизмеримы именно в том смысле, который здесь обсуждается. Эти семейства не могут использоваться в одно и то же время, и между ними нельзя установить ни логических, ни перцептивных связей. Разумно ли предполагать, что концептуальные и перцептивные изменения такого рода возможны только в детстве? Можем ли мы радоваться тому факту — если это действительно факт, — что взрослый человек привязан к устойчивому перцептивному миру Попытка прорвать границы данной концептуальной системы и сбросить «попперианские очки» [18] является существенной частью такого исследования (а также существенной частью всякой интересной жизни). Такая попытка представляет собой нечто большее, чем затянувшееся «критическое обсуждение» [19] — пережиток эпохи Просвещения, в который мы должны верить. Нужна способность создать и осознать новые перцептивные и концептуальные отношения, включая те, которые непосредственно не даны (скрытые отношения, см. выше), а этого нельзя достигнуть одним лишь критическим обсуждением (см. «Архаический стиль», как он определён Э. Леви в его работе о древнегреческом искусстве [21], обладает следующими особенностями:
Эти стилистические элементы, различные модификации которых можно найти в детских рисунках, во «фронтальном» искусстве Древних Египтян, в раннем греческом искусстве, а также у малоразвитых народов, Леви объясняет, опираясь на психологические механизмы: «Наряду с образами, которые реальность представляет физическому глазу, существует совершенно иной мир образов, которые живут или, лучше сказать, становятся живыми только в нашем мышлении и которые, хотя и внушены реальностью, совершенно преобразованы. Каждый простейший акт рисования… пытается воспроизвести эти образы, и только их, с инстинктивной закономерностью физической функции» [26]. Архаический стиль изменяется в результате «громадного числа целенаправленных наблюдений природы, которые модифицируют чисто мыслительные образы» [27], дают толчок движению к реализму и, таким образом, начинают историю искусства. Для архаического стиля и его изменения существуют естественные, физиологические основания. Остаётся неясным, почему воспроизводить образы памяти более «естественно», чем образы восприятия, которые являются гораздо более чёткими и устойчивыми [28]. Мы обнаруживаем также, что реализм часто предшествует более схематичным способам изображения. Так было в древнекаменном веке [29], в искусстве Древнего Египта [30], в геометрическом искусстве Аттики [31]. Во всех перечисленных случаях «архаический стиль» представляет собой скорее результат сознательного усилия (которому, несомненно, могут способствовать или препятствовать неосознанные склонности и физиологические законы), чем естественную реакцию на воздействие внешних стимулов [32]. Поэтому вместо того, чтобы заниматься поисками психологических причин некоторого «стиля», мы должны в первую очередь постараться обнаружить его элементы, подвергнуть анализу их функции, сравнить их с другими явлениями той же культуры (литературным стилем, построением предложений, грамматикой, идеологией) и таким образом выявить лежащее в его основе мировоззрение, включая понимание того способа, которым это мировоззрение влияет на восприятие, мышление, аргументацию, и тех границ, которые оно ставит воображению. Мы увидим, что такой анализ основополагающего мировоззрения даёт гораздо лучшее понимание процесса концептуального изменения, чем натуралистический подход или избитые фразы типа «критическое обсуждение и сравнение… различных структур всегда возможно» [33]. Конечно, Иллюстрация В говорит о следующих характеристиках человеческой фигуры: «Люди очень высокие и тонкие, туловище имеет вид треугольника, суживающегося к талии, голова шарообразная с выпуклостью на месте лица: к концу периода существования этого стиля голова становится более живой — схематично изображается шар головы, и точка обозначает глаз» [34]. Все или почти все части тела изображаются в профиль и соединяются вместе, как части кукол. Они не объединены в органичное целое. Эта «аддитивность» архаического стиля с наибольшей чёткостью проявляется в трактовке глаза. Глаз не принимает участия в действиях тела, не руководит им
Не отличаясь от тела живого человека, оно вдобавок просто изображено в положении смерти. Другой пример — рисунок козленка, пожираемого львом [36]. Лев выглядит свирепым, козлёнок — мирным, а акт съедения просто присоединяется к представлению о том, что есть лев и что есть козлёнок. (Мы имеем здесь дело с механическим конгломератом: всем элементам такого конгломерата придано равное значение, единственное отношение между ними — отношение последовательности; не существует никакой иерархии, ни одна часть не подчинена другим и не детерминирована ими.) Рисунок говорит: вот свирепый лев и мирный козлёнок, вот пожирание козленка львом.
Стремление выделить каждую существенную часть ситуации часто приводит к разделению тех частей, которые в действительности соединены. Так, на иллюстрации D возница изображён стоящим над тележкой (которая представлена в своём полном виде) и не закрытым её боковой стенкой, так что можно ясно видеть его ноги, дно и стенку тележки. Это не вызывает беспокойства, если мы рассматриваем данный рисунок как наглядное перечисление частей некоторого события, а не как изображение самого воспринимаемого события (беспокойства не возникает, если мы говорим: его ноги соприкасаются с дном тележки, которое является прямоугольным, и он окружён боковыми стенками… [37]). Но такого рода интерпретации нужно учиться; её нельзя просто вычитать из рисунка.
Это обучение может потребовать значительного труда. Некоторые египетские рисунки можно расшифровать лишь с помощью самого изображённого объекта или его трёхмерного представления (скульптуры людей, животных, и так далее). Опираясь на эту информацию, мы узнаем (
Способность «читать» определённый стиль включает в себя также знание о том, какие свойства несущественны. Отнюдь не каждая особенность архаического изображения имеет смысловое значение, как не каждая особенность написанного предложения играет роль в выражении его содержания. Этого не учли греки, которые впервые начали задумываться над «величественными позами» египетских статуй (об этом высказывался уже Платон). Такой вопрос «мог бы озадачить египетского художника, как озадачил бы нас вопрос о возрасте или о настроении короля на шахматной доске» [40]. Таковы некоторые особенности архаического стиля. Стиль можно описывать и анализировать различными способами. Данное выше описание обращает внимание на формальные особенности: архаический стиль даёт наглядное перечисление вещей, части которых располагаются приблизительно так, как они встречаются в «природе», за исключением тех случаев, когда такое расположение могло бы скрыть важные элементы. Все части находятся на одном уровне, и предполагается, что мы «прочитываем» перечни предметов, а не «видим» их, как это происходит в случае чувственного восприятия ситуации [41]. Эти перечни организованы отношением «стой последовательности, то есть вид некоторого элемента не зависит от наличия других элементов (добавление льва и акта пожирания не делает козленка несчастным; добавление процесса умирания не делает человека ослабевшим). Архаические рисунки представляют собой сочетания рядоположенностей (paratactic aggregates), а не целостные системы. Элементами подобных сочетаний могут быть физические части, например головы, руки, колеса; это могут быть положения дел, например факт смерти человека; наконец, это могут быть действия, например действие поедания пищи. Вместо того чтобы описывать формальные особенности некоторого стиля, мы можем обратиться к описанию онтологических особенностей того мира, который состоит из элементов, представленных в стиле и упорядоченных определённым образом. Мы можем также описывать то впечатление, которое некоторый мир производит на зрителя. Так поступает художественный критик, анализирующий поведение персонажей, изображённых художником, и их «внутреннюю жизнь», на которую должно указывать это поведение. Дж. Хэнфман [42] пишет об архаических фигурах: «Независимо от того, Нисколько оживлённы и воодушевлены архаические герои, они не производят впечатления, что движутся по своей собственной воле. Их жесты являются объяснительными формулами, навязанными актёрам извне для объяснения того, какое происходит действие. Решающей же помехой для убедительного изображения внутренней жизни является необычайная обособленность архаического взгляда. Взгляд показывает, что личность живёт, но он не соответствует требованиям конкретной ситуации. Даже в тех случаях, когда архаический художник достигает успеха в изображении юмористического или трагического настроения, эти искусственные жесты и отстранённый взгляд напоминают преувеличенное оживление кукольного спектакля». Онтологическое описание часто добавляет к формальному анализу лишь малосодержательные рассуждения, которые представляют собой не более чем упражнения в остроумии и «чувствительности». Однако не следует упускать из виду возможность того, что некоторый конкретный стиль даёт точное изображение мира, как его: воспринимали художник и современники, и что каждая формальная особенность соответствует (скрытым или явным) предположениям, включённым в фундаментальную космологию. (Для случая архаического стиля мы не должны отвергать возможность того, что в ту эпоху человек действительно чувствовал себя куклой, руководимой внешними силами, и что он соответствующим образом видел и понимал своих соотечественников [43].) Такая реалистическая интерпретация стилей и других изобразительных средств находится в одном ряду с тезисом Уорфа относительно того, что, будучи инструментами описания событий (которые могут обладать ещё и другими свойствами, не охватываемыми каким-либо описанием), языки вдобавок ещё представляют собой формы событий (так что существует некоторый лингвистический предел того, что может быть высказано в данном языке, и этот предел совпадает с пределами самой вещи) [44]. Реалистическая интерпретация представляется весьма правдоподобной, хотя её нельзя считать доказанной [45]. Её нельзя считать несомненной, ибо существуют технические ошибки, узко специфические цели (карикатура), способные изменить некоторый стиль, не затрагивая космологии. Следует также помнить о том, что у всех людей приблизительно один и тот же нейрофизиологический аппарат, так что восприятие нельзя изменить в каком угодно направлении [46]. И в некоторых случаях мы действительно можем показать, что отклонения от «точного воспроизведения природы» встречаются при наличии детального знания объекта и наряду с более «реалистическими» изображениями: в мастерской скульптора Тутмоса в Тель-аль-Амарне (древний Ахет-Атон) имеются маски, снятые непосредственно живых моделей и сохраняющие все детали строения головы (вмятины) и лица, а также скульптурные изображения головы, созданные на основе таких масок. Некоторые из имеющихся изображений сохраняют индивидуальные детали, в других они устранены и заменены более простыми формами. Наиболее ярким примером такой манеры изображения является совершенно стилизованная голова египтянина. Это показывает, что «по крайней мере некоторые художники сознательно сохраняли независимость по отношению к натуре» [47]. Способ изображения дважды претерпел изменение в период правления Аменофиса IV ( Требуемое обоснование (которое никогда не может стать окончательным) заключается в указании на характерные черты, проявляющиеся в далёких друг от друга областях, Если особенности некоторого конкретного стиля живописи можно обнаружить также в скульптуре и грамматике существующих языков (а здесь, в частности, в неявных классификациях, которые трудно изменить), если можно показать, что этими языками в равной мере пользуются художники и обычные люди, если существуют философские принципы, сформулированные на этих языках, которые провозглашают, что данные особенности являются свойствами самого мира, а не внесены в него человеком, и ставят вопрос об их источнике, если человек и природа сохраняют эти особенности не только в живописи, но Пятая часть текста поэм Гомера состоит из строчек, которые целиком повторяются много раз. В 28 тысячах строк этих поэм содержится около 25 тысяч повторяющихся фраз. Повторения встречаются уже в придворной поэзии Микен, и их можно проследить в поэзии восточных дворов: «Титулы богов, властителей и людей должны быть переданы правильно, Условия жизни при (шумерском, вавилонском, урартском, хеттском, финикийском, микенском) дворах объясняют также наличие стандартных элементов содержания (типичные сцены: властитель и знать на войне Экономия требует, чтобы для каждой данной ситуации и при определённых условиях размера (для начала, середины или конца строки) существовал единственный способ продолжения рассказа, и это требование выполняется с удивительной точностью: «Все главные персонажи «Илиады» и «Одиссеи», если их имена могут быть вставлены во вторую половину строфы вместе с эпитетом» имеют эпитет, выраженный именем существительным в именительном падеже и начинающийся с простого согласного звука, который вставляется между цезурой третьей стопы хорея и концом строфы: например, πολυτλας διος ’ Οδυσσευς («многострадальный Одиссей»). Из тридцати семи персонажей, которым приданы формулы данного типа, включающие в себя всё то, что имеет какое-либо значение для поэм, имеется лишь три имени, которым придана вторая формула, способная замещать первую» [52]. «Если в пяти грамматических случаях вы возьмёте единственное число всех существительных, входящих в формулу эпитетов для Ахиллеса, то вы обнаружите, что получили сорок пять разных формул, из которых ни одна не имеет того же метрического значения в одном и том же случае» [53]. При таких условиях поэт гомеровской эпохи «не был заинтересован в оригинальности выражения или в разнообразии. Он использовал или приспосабливал унаследованные формулы» [54]. У него не было «выбора, и он даже не думал о выборе; для каждой данной части строки, независимо от того, о чём шла речь, запас формул сразу же давал ему готовую комбинацию слов» [55]. Используя формулы, поэт гомеровской эпохи изображает типичные сцены, описывая объекты посредством «добавления частей к вереницам готовых слов» [56]]. Идеи, которые сегодня мы рассматриваем как логически подчинённые другим идеям, формулировались в отдельных, грамматически независимых суждениях. Пример (Илиада, 9.556): Мелеагр «у супруги законной лежал, Клеопатры прекрасной, от Евенины рождённой, прекраснолодыжной Марпессы, и от Идаса, который в то время средь всех земнородных самый могучий был муж. За жену молодую Марпессу на самого Аполлона властителя лук свой он поднял. С этого времени в доме отец и почтенная матерь дочь Алкионой прозвали, на память о том»… (перевод В. Вересаева. — Геометрический человек представляет собой наглядный перечень частей и положений, гомеровский человек составлен из конечностей, поверхностей, связей, выделенных посредством сравнения их с неодушевлёнными объектами точно определённого вида: туловище Гипполоха покатилось, подобно ступе, после того как Агамемнон отрубил ему руки и голову (Илиада, 11.146; ολμος — круглый камень цилиндрической формы), тело Гектора крутится, как волчок (Илиада, 14.412), голова Горгифиона поникла, «как маковый цвет поникает средь сада головкой, и семенною коробкой, и вешним дождём отягчённой» (Илиада, 8.303) [60], и так далее. К тому же и формулы эпической поэмы, в частности комбинации эпитетов-существительных, часто используются не в связи с содержанием, Этого «высшего единства» нельзя найти Эта кукла не обладает душой в нашем смысле слова. Как «тело» представляет собой механическую совокупность членов, торса, движения, так и «душа» является суммой «психических» событий, которые вовсе не обязательно должны быть личными и могут принадлежать разным индивидам. «В своих описаниях мыслей или эмоций Гомер никогда не идёт дальше чисто пространственного, или количественного, определения; никогда он не пытается выявить их особую, нефизическую природу» [63]. Действия стимулируются не «автономном Я», а другими действиями, событиями, происшествиями, включая божественное вмешательство. И воспринимаются психические события именно таким образом [64]. Сновидения, необычные психические проявления, например внезапное воспоминание о Суммируем: архаический мир был гораздо менее компактным, нежели тот мир, который окружает нас, и воспринимался как менее компактный. У архаического Человека отсутствовало «физическое» единство, его «тело» было составлено из множества частей, членов, поверхностей, связей; Упомянутое выше отсутствие компактности воспроизводится в области идеологии. Существует терпимость в религиозных вопросах — та терпимость, которую более поздние поколения сочли морально и теоретически неприемлемой и которая даже в настоящее время рассматривается как проявление поверхностного и незрелого мышления [71]. Архаический человек был религиозным эклектиком, он не выступал против богов и мифов других народов, а спокойно добавлял их к существующему содержанию мира, не пытаясь осуществить синтез или устранить противоречия. Не было жрецов, не было догм, не существовало категорических утверждений о богах» человеке, мире [72]. (Эту терпимость ещё можно найти у ионийских натурфилософов, которые разрабатывали свои идеи бок о бок с мифами и не пытались устранять последние.) Религиозной «морали» в нашем смысле не существовало, и боги ещё не стали абстрактным воплощением вечных принципов [73]. Это произошло позднее, в течение архаической эпохи, Аналогичные замечания справедливы и для «теории познания», неявно включённой в раннее мировоззрение. Музы в «Илиаде» (2.284) обладают знанием потому, что они близки вещам и им не нужно опираться на слухи, а также потому, что им известно все множество тех вещей, на которые последовательно направляется внимание автора. «Количество, а не глубина является стандартом суждения» и знания у Гомера [75], что выясняется из таких слов, как πολυφρων и πολυμητις — «многодумающий» и «многомыслящий», а также из более поздних критических высказываний, например «многознание (πολυμαθιη) уму не научает» [76]. Живой интерес к окружающему миру и стремление понять многие удивительные явления (такие, как землетрясения, затмения Солнца и Луны, неожиданные разливы Нила) приводили к тому, что каждое явление получало своё собственное объяснение, которое не опиралось на универсальные принципы. Эта манера сохранялась в описаниях ионийцев VIII и VII (и более поздних) столетий до новой эры (которые просто перечисляют племена, встречавшиеся во время путешествия, их привычки или особенности береговой линии). Даже такой мыслитель, как Фалес, довольствуется тем, что фиксирует много интересных наблюдений и высказывает множество отдельных объяснений, не пытаясь объединить их в цельную систему [77]. (Первым мыслителем, создавшим «систему», был Анаксимандр, который следовал Гесиоду.) При таком понимании знание получают не с помощью попыток уловить сущность, лежащую в основе чувственных впечатлений. Для этого нужно: 1) поместить наблюдателя в правильное положение относительно объекта (процесса, совокупности), поставить его на подходящее место в той сложной структуре, которая образует мир; 2) суммировать элементы, которые можно заметить в этих обстоятельствах. Познание есть результат сложного осмотра, осуществляемого с удобного наблюдательного пункта можно подвергнуть сомнению неясное сообщение или сообщение, полученное из вторых рук, однако невозможно усомниться в том, что ясно видишь собственными глазами. Нарисованный или описанный объект представляет собой подлинный порядок элементов, который может включать в себя явления, связанные с перспективой [78]; Тот факт, что весло в воде выглядит сломанным, не имеет здесь той скептической силы, которую ему приписывает другая идеология [79]. Как сидящий Ахиллес не вызывает у нас сомнений в том, что он быстроногий, — в сущности, мы могли бы начать сомневаться в его быстроногости только в том случае, если бы оказалось, что он в принципе не способен сидеть, — точно так же изгиб весла в воде не заставит нас усомниться в том, что в воздухе оно является совершенно прямым, — в сущности, мы могли бы усомниться в том, что оно прямое, только если бы в воде оно не выглядело изогнутым [80]. Изгиб весла в воде отнюдь не является аспектом, который противоречит другому аспекту и тем самым разрушает наше понимание природы весла, это — отдельная часть (ситуации) реального весла, которая не только совместима с его прямолинейностью, но даже требует её. Таким образом, мы видим, что объекты познания оказываются столь же аддитивными, как и наглядные перечни архаического художника и ситуации, описываемые архаическим поэтом. Не существует сколько-нибудь единой концепции познания [81]. Громадная совокупность различных слов использовалась для выражения того, что сегодня мы считаем разными формами познания или разными способами получения знания. Слово σοφια [82] означало знания и опыт в определённой профессии (плотника, певца, полководца, врача, возничего, борца), включая различные виды искусства (причём художник оценивается не как выдающийся творец, а как мастер своего дела); слово ειδεναι, буквально «увиденное» (having seen), говорит о знании, полученном в результате осмотра; слово δυνιημι, встречающееся в «Илиаде», хотя часто переводится как «слушание» или «понимание», по своему содержанию является более сильным, так как включает в себя мысль о повиновении: тот, кто слышит, понимает и действует в соответствии с услышанным. И так далее. Многие из этих выражений предполагают установку на восприятие со стороны познающего субъекта; в своих действиях он повторяет поведение окружающих его вещей, следует им [83]; он действует так, как это подобает сущности, помещённой на Повторим и сделаем вывод: изобразительные средства, использовавшиеся в Греции раннего архаического периода, нельзя рассматривать как выражение некомпетентности или особых художественных интересов, они дают верное представление о том, в чём именно чувствовал, видел, мыслил фундаментальные особенности мира человек архаической эпохи. Этот мир является открытым. Его элементы не скреплены и не сформированы некоторой «фундаментальной субстанцией»; они не считаются просто явлениями, из которых при достаточной проницательности можно вывести существование этой субстанции. Иногда они объединяются в группы. Отношение отдельного элемента к группе, в которую он входит, подобно отношению части к совокупности частей и не похоже на отношение части к главенствующему целому. Отдельная совокупность, называемая «человеком», иногда посещается «психическими событиями». Такие события могут жить в нём самом, но способны и проникать в человека извне. Подобно любому другому объекту, человек представляет собой скорее точку пересечения различных влияний, чем неповторимый источник деятельности, некоторое «Я» (в этом мире у «cogito» Декарта нет точки приложения, поэтому его аргумент был бы лишён исходного пункта). Имеется большое сходство между этой точкой зрения и космологией Маха, за исключением одного: элементами архаического мира были легко узнаваемые физические и психические образы и события, в то время как элементы Маха носят более абстрактный характер — они представляются ещё неизвестными целями исследования, а не его объектами. Таким образом, характерные единицы архаического мировоззрения допускают реалистическую интерпретацию, выражают стройную, последовательную онтологию, и для них справедливы соображения Уорфа. Здесь я прерву свои рассуждения, с тем чтобы высказать некоторые замечания в связи с предшествующим» обсуждением проблем философии науки. 1Могут возразить, что ракурс и другие указания на перспективу являются столь очевидными чертами нашего перцептивного мира, что они просто не могли отсутствовать в перцептивном мире древних. Следовательно, архаическая манера изображения неполна, а её реалистическая интерпретация неправомерна. Ответ: перспектива не представляет собой очевидной черты нашего перцептивного мира, если не уделять ей специального внимания (в эпоху фотографии и кинематографа это случается довольно часто). Если мы не являемся профессиональными фотографами, создателями кинофильмов, художниками, то мы воспринимаем вещи, а не аспекты. Быстро двигаясь среди сложных объектов, мы замечаем в них гораздо меньше изменений, чем заметили бы при восприятии аспектов. Аспекты и ракурсы, если они вообще проникают в наше сознание, обычно подавляются нами, точно так же как подавляются послеобразы, когда завершён соответствующий этап перцептивного развития [84] и их можно заметить только в особых ситуациях [85]. В Древней Греции такие ситуации возникали в театре у зрителей первых рядов на представлениях волнующих произведений Эсхила и Агатарха. Существует целая школа, которая именно театру приписывает решающее влияние на развитие-перспективы [86]. Кроме того, почему перцептивный 2Читатель должен обратить внимание на метод, использованный для обоснования особенностей архаической космологии. В принципе этот метод совпадает с методом антрополога, анализирующего мировоззрение некоторого племенного объединения. Вполне заметные различия обусловлены бедностью свидетельств и частными условиями их получения (письменные источники, произведения искусства; отсутствие личного контакта). Взглянем более внимательно на метод, используемый в обоих случаях. Антрополог, пытающийся открыть космологию изучаемого им племени и способы отображения её в языке, в искусстве Обнаружив ключевые идеи, антрополог пытается понять их. Он делает это точно так же, как Например, исследователь не должен пытаться получить лучшее понимание идей племени, сравнивая их с известными идеями, или искать более широких, более точных идей. Он ни в коем случае не должен прибегать к «логической реконструкции». Такая процедура привязала бы его к уже известному или к тому, что поддерживается Завершив своё исследование, антрополог оказывается носителем как своей собственной, так и туземной культуры и теперь может перейти к их сравнению. Сравнение показывает, может ли быть воспроизведён изучаемый способ мышления в европейских терминах (если существует единственное множество «европейских терминов») и обладает ли он своей собственной логикой, не обнаруживаемой ни в одном из европейских языков, В процессе такого сравнения антрополог может выразить некоторые туземные идеи на английском языке, Из этого не следует, что независимо от сравнения английский язык сам по себе соизмерим с туземными выражениями. Это означает, что можно изменять языки в самых разных направлениях и что понимание не зависит от какого-либо отдельного множества правил. 3Анализ ключевых идей проходит различные стадии, ни одна из которых не приводит к полной ясности. Исследователь должен установить твёрдый контроль над своим стремлением к ясности и логическому совершенству. Он никогда не должен пытаться сделать некоторое понятие более ясным, чем это допускает материал (за исключением тех случаев, когда это предпринимается временно с целью дальнейшего исследования), Именно материал, а не его логическая интуиция, должен определять содержание понятий. Рассмотрим пример. Ньюэ (Nuer), племя, живущее в долине Нила и исследованное Эванс-Притчардом, пользуется интересными пространственно-временными понятиями [90]. Исследователь, плохо знакомый с мышлением Ньюэ, сочтёт эти понятия «неясными и недостаточно точными». Чтобы улучшить дело, он может попытаться эксплицировать их, использовав для этого понятия специальной теории относительности. Такая процедура может привести к ясным понятиям, однако они уже не будут понятиями Ньюэ. С другой стороны, если он хочет получить понятия, которые являются ясными Каждая порция информации представляет собой «строительный блок» понимания, а это означает, что ясность должна быть результатом обнаружения новых блоков в языке и идеологии изучаемого племени, а не плодом преждевременных определений. «… Ньюэ… не могут говорить о времени как о 4Высказанные замечания применимы 5За этот предмет отвечают логики. Они указывают на то, что анализ значений и отношений между терминами представляет собой задачу логики, а не антропологии. Правда, под «логикой» можно подразумевать по крайней мере две различные вещи. «Логика» может означать изучение, или результаты изучения, структур, свойственных определённому типу рассуждения. Но это слово может обозначать и отдельную логическую систему или множество систем. Изучение первого вида принадлежит антропологии. Для того чтобы увидеть, например, является ли тождество AB V Следует согласиться с тем, что сами по себе эти документы не детерминируют единственного решения нашей проблемы [93]. Но разве Мы хотим раскрыть структуру той области рассуждения, о которой документы не дают полного представления. Мы стремимся изучить эту область, ни в коей мере не изменяя её. В обсуждаемом примере нас вовсе не интересует вопрос о том, использует ли усовершенствованная квантовая механика будущего принцип AB V Сформулировав наш вопрос таким образом, мы понимаем теперь, что на него нельзя дать какого-либо ответа. Не может существовать одна-единственная «квантовая теория», которая равным образом используется всеми физиками. Различия между Бором и, скажем, фон Нейманом приводят к мысли о том, что существование такой теории весьма сомнительно. Для проверки этой мысли нам нужно проанализировать конкретные случаи. Анализ же конкретных случаев может привести нас к выводу, согласно которому теоретики в области квантовой механики расходятся между собой так же далеко, как католики и протестанты различных сект: они почитают одну и ту же книгу (хотя даже это сомнительно, если сравнить Дирака с фон Нейманом), однако убеждены, что занимаются разными вещами. Потребность антропологического изучения научной области, в которой на первый взгляд господствует единый миф, остающийся неизменным и всегда одинаково употребляемым, указывает на то, что наше распространённое знание о науке может быть существенно неполным. Оно даже может оказаться совершенно ошибочным (на некоторые ошибки было указано в предыдущих главах). В этих условиях единственно надёжный путь заключается в том, чтобы признать своё невежество, отбросить реконструкции и начать изучение науки с самого начала. Мы должны подойти к её изучению так, как антрополог подходит к изучению психических нарушений у знахарей вновь открываемых племён. И нам нужно быть готовыми к тому открытию, что эти нарушения окажутся чрезвычайно нелогичными (при оценке их с точки зрения формальной логики) и что они должны быть чрезвычайно нелогичными, чтобы функционировать так, как они это делают. 6Однако лишь немногие из философов науки интерпретируют слово «логика» в таком смысле. Лишь немногие философы готовы допустить, что базисные структуры, лежащие в основе некоторых вновь открытых способов речи, могут радикально отличаться от базисных структур самых известных систем формальной логики; и абсолютно никто не готов согласиться с тем, что это может оказаться справедливым также и для науки. «Логика» (в обсуждаемом здесь смысле) отдельного языка или теории чаще всего непосредственно отождествляется с особенностями одной из логических систем без учёта исследования адекватности такого отождествления. Например, профессор Гедимин понимает под «логикой» свою любимую систему, которая довольно широка, но ни в коем случае не является всеобъемлющей. (Например, она не включает в себя идей Гегеля, и её нельзя использовать для их выражения. И среди математиков некоторые выражают сомнение в том, что она пригодна для выражения неформальной математики.) Логическое изучение науки, в понимании Гедимина и согласных с ним логиков, сводится к изучению множеств формул этой системы, их структуры, свойств их элементарных конституент (интенсионал, экстенсионал, и так далее), их последовательностей и возможных моделей. Если такое изучение не приводит к тем особенностям, которые антрополог обнаруживает, скажем, в науке, то это свидетельствует либо о том, что наука страдает определёнными недостатками, либо о том, что антрополог не знает логики. Для логика в этом втором смысле не имеет ни малейшего значения то обстоятельство, что его формулы не похожи на научные утверждения, что они используются не так, как используются научные утверждения, и что наука просто не смогла бы двигаться по тем простым направлениям, которые он способен понять (и поэтому считает единственно допустимыми). Он либо не замечает этой разницы, либо объясняет её недостатками, которые должны быть устранены при правильном подходе. Ему никогда не приходит в голову мысль о том, что эти «недостатки» способны выполнять важные функции и что прогресс науки мог бы оказаться невозможным после их устранения. Наука для него есть аксиоматика плюс теория моделей плюс правила соответствия плюс язык наблюдения. При таком способе действия бессознательно предполагается, что антропологическое исследование, открывающее нам явные и скрытые классификации науки, уже завершено и что оно свидетельствует в пользу аксиоматического (и так далее, и так далее) подхода. Однако такое исследование даже и не проводилось. А имеющиеся на сегодняшний день фрагментарные результаты, полученные главным образом усилиями Хэнсона, Куна, Лакатоса и других, показывают, что логический подход «отбрасывает не отдельные малосущественные аксессуары науки, а те наиболее важные её особенности, которыми обусловлен прогресс науки и, следовательно, само её существование. 7Обсуждения значения, о которых я упоминал выше, являются ещё одной иллюстрацией недостатков логического подхода. Для Гедимина, посвятившего этому вопросу две длинные сноски, данный термин и его производные, например термин «несоизмеримость», являются «неясными и недостаточно точными» [94]. Я согласен с этим. Гедимин хочет сделать эти термины более ясными и стремится лучше понять их. Я опять согласен. Ту ясность, отсутствие которой чувствует Гедимин, он пытается получить посредством экспликации в терминах одной из систем формальной логики и двуслойной модели языка, ограничивая обсуждение «интенсионалом» и «экстенсионалом», как это принято в избранной им логике. Здесь между нами начинается расхождение. Вопрос вовсе не в том, какой вид имеют «значение» и «несоизмеримость» в некоторой частной логической системе. Вопрос в том, какую роль они играют в (реальной, нереконструированной) науке. Увеличение ясности должно достигаться за счёт более тщательного изучения этой роли, а пробелы следует восполнять результатами такого изучения. А поскольку это требует времени, ключевые термины будут оставаться «неясными и недостаточно точными» годы, а может быть, даже десятилетия (см. также выше, пункты 8Логики и философы науки не смотрят на ситуацию с этой стороны. Не обладая желанием и способностью осуществить содержательный анализ, они требуют «прояснения» главных терминов такого анализа. «Прояснить» же термины, участвующие в обсуждении, с их точки зрения, вовсе не означает изучить дополнительные и ещё неизвестные свойства обсуждаемой области и тем самым сделать термины более понятными. Это значит заменить их уже имеющимися понятиями из совершенно иной области — логики и здравого смысла, желательно близкими к наблюдению, поскольку они звучат привычно, и позаботиться о том, чтобы процесс замены удовлетворял признанным законам логики. Разрешается проводить анализ только после того, как его первоначальные шаги были модифицированы подобным образом. Вот так процесс исследования насильственно загоняется в узкое русло давно понятных вещей и возможность фундаментальных концептуальных открытий (или фундаментальных концептуальных изменений) значительно уменьшается. Со своей стороны фундаментальное концептуальное изменение предполагает новое мировоззрение и новые языки, способные его выразить. Опять-таки создание нового мировоззрения и соответствующего нового языка есть процесс, требующий значительного времени — как в науке, так Следовательно, повышать ясность аргументов, теорий, терминов, точек зрения и дискуссий можно по крайней мере двумя различными способами: а) вышеописанным путём, который возвращает нас к знакомым идеям и истолковывает новое как специальный случай того, что уже понятно, Создание нового языка (служащего для понимания мира или познания) представляет собой процесс точно такого же рода, за одним исключением: первоначальные «ядра» не даны, а должны быть изобретены. Здесь мы видим, как важно учиться говорить о непонятных вещах и сколь гибельное влияние должно оказать на наше понимание требование немедленной ясности. (Кроме того, такое требование чаще всего свидетельствует с примитивности и узости мышления: «Непринуждённое обращение со словами и выражениями без тщательного их отбора по большей части не считается неблагородным, напротив, скорее обратное: говорит о недостатке свободного воспитания» [96].) Все высказанные замечания большей частью тривиальны и могут быть иллюстрированы очевидными примерами. Классическая логика выходит на авансцену только там, где уже накоплен достаточный аргументативный материал (в математике, риторике, политике), который может служить отправным пунктом и основой для проверки. Арифметика длительное время развивалась, не имея сколько-нибудь ясного представления о понятии числа; такое представление возникло лишь после того, как появилось достаточное количество арифметических «фактов», придавших ему содержание. Точно так же и подлинная теория значения (и несоизмеримости) может быть создана лишь после того, как будет собрано достаточное число «фактов», способных сделать эту теорию 9Имеется ещё одна догма, которую следует рассмотреть, прежде чем мы вновь обратимся к основной теме. Это убеждение в том, что все люди и все объекты совершенно автоматически подчиняются законам логики и должны подчиняться этим законам. Если это так, то антропологическая исследовательская работа оказывается излишней. «Что истинно в логике, то истинно в психологии… в научном методе Единственным феноменологически адекватным описанием будет следующее: «Она движется в пространстве, но не изменяет своего местоположения», а это описание самопротиворечиво [98]. Можно привести примеры из геометрии [99]: замкнутая фигура (которая не обязательно кажется одной и той же разным лицам) выглядит как равнобедренный треугольник, основание которого не делится пополам перпендикуляром, проведённым из вершины. Существуют ситуации, в которых единственным феноменологически адекватным описанием является выражение «a = b&b = c&a > с» [100]. Более того, нет ни одной науки или какой-либо иной формы жизни, которая полезна, прогрессивна и одновременно находится в согласии с логическими требованиями. В каждой науке существуют теории, которые несовместимы
Кроме того, допустим, что выражения «психология», «антропология», «история науки», «физика» обозначают не факты и законы, а определённые методы сбора фактов, включая определённые способы связи наблюдения с теориями и гипотезами. Иначе говоря, будем рассматривать деятельность «науки» и её различных подразделений. К этой деятельности можно подходить двояким образом. Можно сформулировать идеальные требования к познанию и приобретению знаний и попытаться реконструировать (социальный) механизм, удовлетворяющий этим требованиям. Именно так поступают почти все эпистемологи и философы науки. Иногда им удаётся найти механизм, способный работать в определённых идеальных условиях, однако они никогда не исследуют и даже не считают нужным исследовать, выполняются ли эти условия в нашем реальном мире. В то же время такое исследование могло бы выяснить, как в действительности учёные контактируют с окружающими их вещами; оно могло бы проанализировать подлинный вид их продукта, то есть «знания», и способ его изменения в результате решений и действий в сложных социальных и материальных условиях. Короче говоря, такое исследование было бы антропологическим. Нельзя предсказать заранее, на что именно прольёт свет антропологическое исследование. В предшествующих главах, представляющих собой грубый набросок антропологического изучения отдельных эпизодов, было выяснено, что наука всегда полна пробелов и противоречий, что невежество, слепое упрямство, предрассудки, лживость не только не препятствуют развитию познания, но являются его существенными предпосылками и что если бы такие традиционные добродетели, как точность, непротиворечивость, «честность», уважение к фактам, максимум знания при данных обстоятельствах, и так далее, действительно проводились в жизнь, то это могло бы привести к прекращению познания. Было установлено также, что логические принципы играют весьма незначительную роль в (демонстративных или недемонстративных) процессах, продвигающих науку вперёд, и что попытка навязать их всем принесла бы науке серьёзный вред. (Нельзя сказать, что фон Нейман развил квантовую теорию. Однако он, несомненно, сделал обсуждение её основ более многословным и громоздким [103].) Далее, учёный, занимающийся некоторой частью исследования, ещё не совершил всех шагов, приводящих к определённым результатам. Перед ним — неизвестное будущее. Послушает ли он унылого и безграмотного логика, проповедующего ему добродетели ясности, непротиворечивости, экспериментального подкрепления (или экспериментальной фальсификации), корректности аргументации, «честности», и так далее, или будет подражать предшественникам в своей области, которые добивались успеха, нарушая большую часть правил, навязанных ему логиком? Будет ли он полагаться на абстрактные предписания или на результаты изучения конкретных эпизодов развития науки? Я полагаю, ответ ясен и вместе с тем ясно значение антропологической работы не только для самого антрополога, но также и для членов того сообщества, которое он исследует. Теперь я возвращаюсь к своей основной теме и приступаю к описанию перехода от аддитивного (paratactic) универсума греков архаического периода к универсуму последующих поколений, включающему дихотомию субстанция — явления. Архаическая космология (которую теперь я буду называть космологией А) содержит вещи, события, их части; в ней нет никаких явлений [104]. Полное познание объекта заключается в полном перечислении его частей и особенностей. Нельзя получить полного знания. Существует слишком много вещей, слишком много событий и ситуаций, а человек может быть окружён лишь немногими из них (Илиада, Новая космология (космология В), которая сформировалась между VII и V веками до новой эры, проводит различие между «многознанием» (πολυμαθιη) [106] и истинным знанием и рекомендует не доверять «обычаю, порождённому даже обширным опытом» (εθος πολυπειρον) [107]. Это различие и подобная рекомендация имеют смысл только в таком мире, структура которого значительно отличается от структуры А. В том варианте, который сыграл значительную роль в развитии западной цивилизации и который лежит в основе таких проблем, как проблема существования теоретических сущностей и проблема отчуждения, новые события образуют то, что можно назвать Истинным миром, в то время как события повседневной жизни теперь оказываются лишь явлениями, его неясным и обманчивым отражением [108]. Истинный мир прост и непротиворечив, он допускает единообразное описание. Для того чтобы охватить все его элементы, можно действовать следующим образом: несколькими абстрактными понятиями заменить огромное число понятий, использовавшихся в космологии А для описания способов, которыми человек мог быть «включен» в своё окружение, и для выражения столь же многочисленных типов получаемой информации. Теперь существует лишь один важный тип информации, это — знание.
Концептуальный тоталитаризм, возникший в результате постепенного формирования мира В, влечёт интересные следствия, немногие из которых неприемлемы. Ситуации, обладающие смыслом только в связи с частным типом познания (cognition), теперь оказываются изолированными, непонятными, явно несовместимыми с другими ситуациями: мы получаем «хаос явлений». Этот «хаос» является непосредственным следствием того упрощения языка, которое сопровождает веру в Истинный мир [109]. Кроме того, все разнообразные способности наблюдателя теперь направляются на этот Истинный мир, они приспосабливаются к единой цели, формируются в одном частном направлении, становятся всё более похожими друг на друга, а это означает, что человек обедняется точно так же, как и его язык. Он становится беднее как раз в тот самый момент, когда открывает автономное «Я» и приходит к тому, что некоторые склонны называть «более развитым понятием бога» (приписываемым Ксенофану), которое представляет собой понятие бога, лишённого богатого разнообразия типично человеческих черт [110]. «Психические» события, которые прежде рассматривались по аналогии с телесными событиями и соответствующим образом переживались [111], становятся более «субъективными» — они превращаются в модификации, действия, откровения самопроизвольной души: различие между явлением (скорее впечатлением, простым мнением) и реальностью (истинным знанием) распространяется на всё. Даже задача художника теперь заключается в таком расположении образов, чтобы легко можно было осознать лежащую в их основе сущность. В живописи это ведёт к разработке того, что можно назвать методом систематического обмана зрения: архаический художник рассматривал поверхность, на которой рисовал, так, как мог бы рассматривать писатель кусок папируса; это реальная поверхность, предполагается, что она и видна именно как реальная поверхность (хотя не всегда на неё направлено внимание), и линии, которые проводит на ней художник, можно сравнить с линиями плана или буквами слова. Они представляют собой символы, информирующие читателя о структуре объекта, его частей, о способе, которым эти части связаны между собой. Простой рисунок, состоящий из трёх линий, встречающихся в одной точке, может представлять, например, три дороги, сходящиеся в одном пункте. С другой стороны, художник, пользующийся перспективой, рассматривает поверхность и свои отметки на ней как стимулы, вызывающие иллюзию расположения трёхмерных объектов. Эта иллюзия возникает вследствие того, что человеческое мышление способно порождать иллюзорные восприятия при соответствующей стимуляции. Упомянутый рисунок теперь воспринимается как угол куба, ближайший по отношению к зрителю, или как угол куба, удалённый от зрителя (куб виден снизу), или просто как плоскость, парящая над поверхностью бумажного листа и передающая двухмерное изображение встречи трёх путей. Соединяя этот новый способ видения с описанной выше новой концепцией познания, мы получаем новые сущности, а именно физические объекты в том смысле, как они истолковываются большинством современных философов. Для разъяснения вновь обратимся к ситуации с веслом. В архаическом представлении «весло» есть некоторая сложная совокупность частей, одни из которых являются объектами, другие — ситуациями, третьи — событиями. Вполне можно сказать: «Прямое весло сломано» (не «кажется сломанным»), точно так же как можно сказать: «Быстроногий Ахиллес медленно прогуливается», ибо все элементы имеют разное значение. Они являются частями механической совокупности. Аналогично тому как путешественник изучает все части чужой страны и заносит их в «реестр», перечисляющий особенности этой страны одну за другой, точно так же изучающий такие простые объекты, как весла, лодки, кони, люди, помещает себя в «основные ситуации, связанные с веслом», соответствующим образом понимает их и описывает с помощью списка свойств, событий, отношений. И как подробный реестр исчерпывает всё, что можно сказать о стране, так подробный список исчерпывает всё, что можно сказать относительно объекта [112]. «Сломано в воде» точно так же принадлежит веслу, как принадлежит ему «прямое в руке», они — «равно реальны». Однако в космологии В «сломано в воде» является лишь «видимостью», которая противоречит тому, что внушается «видимостью» прямизны и, следовательно, обнаруживает фундаментальную ненадёжность всякой видимости [113]. Понятие объекта изменилось: место понятия совокупности равнозначных воспринимаемых частей заняло понятие невоспринимаемой сущности, лежащей в основе множества обманчивых феноменов. (Можно предположить, что аналогичным образом изменилось и восприятие объекта, что теперь объекты выглядят менее «плоскими», чем прежде.) Рассматривая эти изменения и особенности разных ступеней, допустимо предположить, что сравнение космологий А Начать с того, что космос А и космос В построены из разных элементов. Элементами А являются относительно независимые части объектов, включённые во внешние связи. Они входят в различные совокупности, не изменяя своих внутренних свойств. «Природа» отдельной совокупности детерминирована её частями и способами связи этих частей между собой. Перечислите части в надлежащем порядке — и вы получите объект. Это справедливо для физических совокупностей, для человеческих существ (мыслей и тел) и животных, а также для социальных образований, таких, как воинская часть. Элементы космологии В распадаются на два класса: сущности (объекты) и явления (объектов, что верно лишь для некоторых упрощённых вариантов В). Объекты (события, и так далее) опять могут соединяться. Они способны образовывать стройные целокупности, в которых каждая часть придаёт значение целому Таким образом, переход от А Действительно, вполне можно допустить, что некоторые характерные черты В, такие, как аспекты, видимость, обманчивость чувств [118], становятся заметными в результате значительного роста самосознания [119]. Здесь можно склониться к тому, чтобы объяснить этот переход следующим образом: космология архаического человека была ограниченной; Некоторое время назад я называл теорию, лежащую в основе такого объяснения, «теорией швейцарского сыра» или «дырчатой теорией» языка (и других средств представления). Согласно теории дыр, каждая космология (каждый язык, каждый способ восприятия) имеет значительные пробелы, которые можно заполнить, не затрагивая всего остального. Теория дыр встречает значительные трудности. В рассматриваемом случае одна из трудностей заключается в том, что космос В не содержит ни одного элемента космоса А. После того как произошёл переход к В, ни терминология здравого смысла, ни философские теории, ни живопись, скульптура, художественные концепции, ни религия и теологические спекуляции не содержат ни одного элемента А. Это исторический факт [120]. Случаен ли этот факт или же А обладает
Я уже упоминал пример, который может дать нам некоторое указание на причину того, почему в В нет места для Ситуация становится более прозрачной, когда мы обращаемся к понятиям. Выше я говорил о том, что «природа» объекта (= совокупности) в А детерминирована его элементами и отношениями между ними. Следует добавить, что эта обусловленность «замкнута» в том смысле, что элементы и их отношения составляют объект: если они даны, то объект тоже дан. Например, «элементы», описываемые Одиссеем в его речи (Илиада, 9.225 и сл.), составляют честь, благоволение, уважение. Таким образом, Точно такие же замечания применимы к «открытию» индивидуального «Я», отличного от внешнего облика, поведения, объективных «психических состояний» того типа, который принадлежит А, к «открытию» некоторой субстанции, лежащей позади «явлений» (прежних элементов А), или к «открытию» того, что честь может отсутствовать, несмотря на наличие всех её внешних проявлений. Утверждение Гераклита: «Идя к пределам души, их не найдёшь, даже если пройдёшь весь путь: таким глубоким она обладает логосом» (Дильс-Кранц, В 45) — ничего не добавляет к космосу А, а просто отсекает те принципы, которые требуются для построения «психических состояний» Интересно видеть, как проявляется этот процесс исчезновения в отдельных случаях. В своей длинной речи (Илиада, 9.308 и сл.) Ахиллес хочет сказать, что честь может отсутствовать, даже если всё её внешние проявления налицо. Используемые им языковые выражения так тесно связаны с определёнными социальными ситуациями, что у него «нет слов, чтобы выразить своё разочарование. Однако он выражает его весьма примечательным образом. Он делает это, искажая язык, имеющийся в его распоряжении. Он задаёт вопросы, на которые нельзя ответить, и выставляет требования, которые нельзя удовлетворить» [121]. Он поступает в высшей степени «иррационально». Такую же иррациональность можно найти в сочинениях всех других ранних авторов. В сравнении с А досократики действительно говорят странно. Так поступали и лирические поэты, которые изучали новые возможности «открытой» ими личности. Освободившись от пут правильно построенного и однозначного способа выражения и мышления, элементы А теряют свои привычные функции и начинают бесцельно варьировать — возникает «хаос впечатлений». Освобождённые от устойчивых и однозначных социальных ситуаций, ощущения становятся текучими, неопределёнными, противоречивыми. «Я люблю и не люблю, я проклинаю и не проклинаю», — пишет Анакреон [122]. Освободившись от правил поздней геометрической живописи, художники создают странную смесь перспективы и плоского рисунка [123]. Оторванные от жёстких психологических установок и освобождённые от своего реалистического значения, понятия теперь могут использоваться «гипотетически», не навлекая обвинений в заведомом обмане, и художники могут начать исследовать возможные миры в своём воображении [124]. Это тот самый «шаг назад», который, как мы видели выше, является необходимой предпосылкой изменения и, может быть, даже прогресса [125]. Но теперь мы имеем дело не только с отказом от наблюдений, но также Вспомним обстоятельства, которые привели к этой ситуации. У нас имеется точка зрения (теория, структура, космос, способ представления), элементы которой (понятия, «факты», изображения) созданы в соответствии с определёнными принципами построения. Эти принципы в некотором смысле «замкнуты»: существуют вещи, которые не могут быть высказаны, или «открыты», без нарушения данных принципов (это не означает, что они противоречат принципам). Выскажите эти вещи, сделайте открытие — и вы подорвете принципы. Теперь возьмём конструктивные принципы, лежащие в основе каждого элемента космоса (теории), каждого факта (каждого понятия). Назовём такие принципы универсальными принципами рассматриваемой теории. Устранение универсальных принципов означает устранение всех фактов и всех понятий. Наконец, назовём открытие, утверждение или позицию несоизмеримыми с данным космосом (теорией, структурой), если они устраняют некоторые из его универсальных принципов. Фрагмент 45 Гераклита несоизмерим с психологической частью А: он устраняет правила, которые нужны для построения личности, и делает невозможным получение Следует отметить предварительный и неопределённый характер данного объяснения «несоизмеримости», а также отсутствие логической терминологии. Причины неопределённости были указаны выше (пункты Следует также отметить, что под «принципом» я подразумеваю не просто некоторое утверждение, такое, например, как «понятия применимы в тех случаях, когда выполнено конечное число условий» или «познание есть перечисление дискретных элементов, образующих сочетания рядоположенностей», а грамматическую привычку, соответствующую такому утверждению. Приведённые утверждения описывают привычку считать объект данным, когда представлен полный список его частей. Эта привычка устраняется (но не вступает в противоречие) предположением о том, что даже самый полный список не исчерпывает объекта; она устраняется также (но опять не вступает в противоречие) любым непрекращающимся поиском новых аспектов и свойств. (Следовательно, недопустимо определять «несоизмеримость» посредством ссылки на утверждения [127].) Если привычка устранена, то Как преодолевается «иррациональность» этого переходного периода? Обычным образом (см. выше пункт 8), то есть решительным созданием бессмыслицы до тех пор, пока произведённый материал не станет достаточно богат, чтобы позволить новаторам раскрыть и сделать ясными для каждого новые универсальные принципы. (Такое открытие не обязательно должно заключаться в формулировке принципов в виде ясных и точных утверждений.) Безумие превращается в норму, если оно достаточно богато и последовательно для того, чтобы функционировать в качестве базиса нового мировоззрения. А когда это происходит, перед нами встаёт новая проблема: как сравнить старую концепцию с новой? Сказанное выше делает очевидным, что мы не можем сравнить содержания А Мне представляется, что отношение между, скажем, классической механикой (в реалистической интерпретации) и квантовой механикой (интерпретированной в соответствии с воззрениями Н. Бора) или между ньютоновской механикой (в реалистической интерпретации) и общей теорией относительности (также в реалистической интерпретации) во многих аспектах подобно отношению между космологией А и космологией В. (Конечно, имеются и существенные отличия, например современные переходы от одной теории к другой не затрагивают искусства, обыденного языка и восприятия.) Так, каждый факт механики Ньютона опирается на предположение о том, что размеры, массы, интервалы изменяются только благодаря физическим взаимодействиям, а теория относительности устраняет это предположение. Аналогично квантовая теория образует факты в соответствии с соотношением неопределённостей, которое устраняется классическим подходом. Я закончу эту главу, ещё раз повторив её результаты в форме тезисов. Можно считать, что эти тезисы суммируют важный антропологический материал для разъяснения в соответствии с пунктами Первый тезис гласит: существуют несоизмеримые структуры мышления (действия, восприятия). Повторяю, что это — исторический (антропологический) тезис, который должен быть подкреплён историческими (антропологическими) свидетельствами. Подробности см. выше в пунктах Разумеется, структуру, которая с точки зрения западной науки выглядит странной и непонятной, всегда можно заменить другой, напоминающей какие-либо элементы западно-европейского здравого смысла (содержащей науку или не содержащей её) или смутное предвосхищение каких-либо его черт или похожей просто на фантастическую сказку. Большая часть ранних антропологов разрушала объект своего изучения именно таким образом и поэтому легко приходила к выводу о том, что английский (немецкий, латинский или греческий) язык достаточно богат для того, чтобы понять и выразить даже самый необычный миф. Ранние словари очень непосредственно выражают эту веру: здесь можно найти простые определения всех «примитивных» терминов и простые объяснения всех «примитивных» понятий. Постепенно выяснилось, что словари и переводы — весьма неудачный способ вводить понятия языка, не имеющего тесных связей с нашим собственным языком, или идей, которые нельзя подогнать под западно-европейский способ мышления [128]. Такие языки нужно изучать с самого начала, как ребёнок учит слова, понятия, явления [129] (именно «явления», ибо вещи и их обличья не «даны», они должны быть «прочитаны» определённым способом, Возвращаясь от полевых исследований к собственным концепциям и языку, например английскому, антрополог часто осознает, что прямой перевод стал невозможен и что его воззрения и воззрения культуры, представителем которой он является, вообще несоизмеримы с теми «примитивными» идеями, которые он только что начал понимать (или что существует их пересечение в одних областях и несоизмеримость в других). Конечно, он стремится выразить эти идеи на английском языке, однако для этого он должен быть готов употреблять знакомые термины в необычной и новой манере. Возможно, ему потребуется создать совершенно новую языковую игру из английских слов, и он сможет начать свои объяснения лишь после того, как эта языковая игра станет достаточно сложной. Сейчас нам известно, что почти в каждом языке имеются средства, позволяющие преобразовать значительные части его концептуального аппарата. Без этого были бы невозможны популяризация научных знаний, научная фантастика, сказки, рассказы о сверхъестественном и даже сама наука. Следовательно, в некотором хорошем смысле мы можем сказать, что результаты полевых исследований всегда можно выразить на английском языке. Однако это не означает, как считают некоторые самозваные рационалисты, что мой первый тезис ложен. Такой вывод был бы оправдан лишь в том случае, если бы удалось показать, что корректное представление (а не словарная карикатура) новых воззрений на избранном языке, например на английском, не изменяет «грамматики» этого языка. Подобного доказательства никогда ещё не было [130] и вряд ли оно когда-либо появится. Второй тезис. Мы видели, что несоизмеримость имеет аналог в области восприятия и что она входит в историю восприятия. Это образует содержание моего второго тезиса о несоизмеримости: индивидуальное развитие восприятия и мышления проходит ряд взаимно несоизмеримых стадий. Третий тезис говорит о том, что концепции учёных, в частности их воззрения по фундаментальным проблемам, часто расходятся между собой столь же сильно, как идеологии, лежащие в основе разных культур. Дело обстоит даже хуже: существуют научные теории, которые взаимно несоизмеримы, хотя внешне они имеют дело «с одним и тем же предметом». Конечно, не все конкурирующие теории обладают этим свойством, и, даже если несоизмеримость имеет место, она связана с особой интерпретацией теорий, например такой, которая обходится без ссылки на «независимый язык наблюдения». Иллюзия того, что мы имеем дело с одним и тем же предметом, в этих случаях возникает в результате неосознанного смешения двух различных типов интерпретации. При «инструменталистской» интерпретации теорий, которая видит в них не более чем инструменты для классификации определённых «фактов», возникает впечатление, что существует некоторый общий предмет. При «реалистической» интерпретации, пытающейся понять теорию в её собственных терминах, такой общий предмет исчезает, хотя сохраняется определённое чувство (неосознанный инструментализм), что он должен существовать. Теперь посмотрим, как могут возникать несоизмеримые теории. Научное исследование, утверждает Поппер, начинается с проблемы и развивается благодаря её решению. Данная характеристика не учитывает того обстоятельства, что проблемы могут быть сформулированы ошибочно и что можно заниматься исследованием свойств вещей и процессов, которые более поздними концепциями будут объявлены несуществующими. Проблемы такого рода не решаются — они исчезают или устраняются из области допустимых исследований. Примерами могут служить проблема абсолютной скорости Земли, проблема траектории электрона в зонах интерференции или «важный» вопрос о том, способны ли инкубы (В средневековой демонологии «инкубы» — дьявольские создания, сожительствующие с женщинами. — Первая проблема была устранена теорией относительности, которая отрицает существование абсолютных скоростей. Вторая проблема была устранена квантовой теорией, отрицающей существование траекторий в областях пространства, где имеет место интерференция. Третья проблема была устранена, хотя и менее решительно, современными (то есть появившимися после XVI столетия) психологией и физиологией, а также механистической космологией Декарта. Изменения онтологии, подобные только что описанным, часто сопровождались концептуальными изменениями. Открытие того факта, что некоторые сущности не существуют, может побудить учёного к новому описанию событий и процессов, которые считались их проявлениями и поэтому описывались в терминах, предполагающих их существование. (Или, скорее, это может побудить его ввести новые понятия, поскольку старые слова ещё продолжают использоваться в течение значительного времени.) Это справедливо главным образом для тех «открытий», которые подрывают значимость универсальных принципов. «Открытия» «основополагающей субстанции» и «самопроизвольного Я» относятся, как мы видели, к открытиям именно такого рода. Особенно интересно, когда ошибочная онтология является универсальной (comprehensive), то есть когда считается, что её элементы входят в каждый процесс, происходящий в определённой области. В этом случае каждое описание в данной области должно быть изменено и заменено иным утверждением (или вообще Теория относительности, по крайней мере в интерпретации, признаваемой Эйнштейном и Бором, приводит к выводу о том, что указанные выше свойства не существуют, что геометрические формы, массы, временные интервалы представляют собой лишь отношения между физическими объектами и системой координат и могут изменяться при переходе от одной системы координат к другой без какого-либо физического воздействия. Вместе с тем теория относительности выдвигает новые принципы для образования фактов механики. Возникающая таким образом новая концептуальная система вовсе не отрицает существования классического положения дел, в то же время она не позволяет нам формулировать утверждений, выражающих такое положение дел. У неё нет и не может быть ни одного утверждения, общего с её предшественницей, если помнить о том, что теории отнюдь не являются классификационными схемами для упорядочивания нейтральных фактов. Если обе теории мы интерпретируем реалистически, то «формальные условия, которым должна удовлетворять подходящая преемница опровергнутой теории», сформулированные в главе 15 (она должна сохранять успешные следствия предыдущей теории, отрицать её ложные следствия и делать дополнительные предсказания), не могут быть выполнены и позитивистская схема прогресса с её «попперианскими очками» разваливается. С этим результатом не может справиться даже смягчённый вариант, предложенный Лакатосом, ибо он также опирается на предположение о том, что можно сравнивать классы содержания разных теорий, то есть что между ними можно установить отношение включения, исключения или пересечения. Безнадёжно также пытаться связать классические утверждения с релятивистскими посредством эмпирических гипотез. Такие гипотезы были бы столь же смешны, как смешно утверждение о том, что, «как только возникает одержимость дьяволом, происходит резкое изменение в мозге», которое выражает связь между терминами теории одержимости, объясняющей эпилепсию, и более современными «научными» терминами. Очевидно, мы не хотим вечно сохранять старую демонологическую терминологию и принимать её всерьёз только для того, чтобы обеспечить сравнимость классов содержания. В случае же сопоставления релятивистской и классической механики гипотезы такого рода даже нельзя сформулировать. Используя термины классической механики, мы принимаем некоторый универсальный принцип, который не принимается релятивистской механикой. Последнее означает, что этот принцип устраняется всякий раз, когда мы пишем некоторое предложение с намерением выразить релятивистское положение дел. Используя классические и релятивистские термины в одном и том же предложении, мы одновременно принимаем и устраняем определённые универсальные принципы, а это означает, что таких предложений просто не существует: сопоставление релятивистской и классической механики даёт нам пример двух несоизмеримых структур. Другими примерами будут квантовая теория и классическая механика [132], теория импетуса и механика Ньютона [133], материализм и дуализм души и тела, и так далее. Конечно, все эти случаи можно интерпретировать иначе. Шэйпир, например, критиковал моё обсуждение теории импетуса, утверждая, что «у самого Ньютона не было полной ясности относительно того, нужна ли причина для инерционного движения» [134]. Кроме того, он видит «много… сходных черт и плавных переходов» от Аристотеля к Ньютону там, где я вижу несоизмеримость [135]. Первое возражение легко устраняется с помощью: а) указания на формулировку Ньютоном первого закона движения: «corpus omne perseverare in statu quiescendi vel movendi uniformiter in directum…», в которой движение рассматривается скорее как состояние, а не как изменение [136]; б) демонстрации того факта, что понятие импетуса определено в соответствии с некоторым законом, который не принимается Ньютоном и, следовательно, перестаёт служить в качестве принципа, используемого для образования фактов (с некоторыми подробностями это сделано в моём обсуждении данного случая). Пункт б) отвечает и на второе возражение: верно, конечно, что несоизмеримые структуры и несоизмеримые понятия могут обладать формальным сходством, однако это не затрагивает того факта, что одна: структура отменяет универсальные принципы другой. Именно этот факт лежит в основе несоизмеримости, которая сохраняется, несмотря на открываемое нами сходство структур. Шэйпир (и вслед за ним другие) пытался также показать, что несоизмеримые теории не только представляют собой большую редкость, но они невозможны с философской точки зрения. Обратимся к рассмотрению этих аргументов. Я уже сказал, что научное изменение может привести к замене утверждений в некоторой области и что такая замена будет повсеместной, если мы имеем дело с универсальными идеологиями. Она затронет не только теории, но также утверждения наблюдения и (см. выше о творчестве Галилея) естественные интерпретации. Такая подгонка (adaptation) наблюдения к теории ( Кроме того, возникает подозрение, что наблюдения, интерпретируемые в терминах новой теории, уже не могут быть использованы для опровержения этой теории. Нетрудно дать ответ по всем этим пунктам. Что касается высказанного возражения, то в соответствии с изложенным выше (см. Второе возражение направлено против интерпретации науки, которая кажется необходимой для существования несоизмеримости. Я уже указывал на то, что вопрос: «Являются ли две отдельные универсальные теории, например классическая механика и теория относительности, несоизмеримыми?» — не будет законченным вопросом. Теории можно интерпретировать Таким образом, если теоретические термины не обладают «независимой интерпретацией», то их нельзя использовать для корректировки интерпретации утверждений наблюдения, которая оказывается источником их значения. Отсюда следует, что реализм в описанной выше форме невозможен и что несоизмеримость не может появиться до тех пор, пока мы держимся в границах «здравого» (то есть эмпирического) научного метода. Руководящая идея, лежащая в основе этого широко распространённого возражения, заключается в том, что новые и абстрактные языки не могут быть введены прямым путём, а сначала должны быть связаны с ранее существующими и, Более старые теории или язык наблюдения принимаются не вследствие их теоретического превосходства (его не может быть, так как более старые теории обычно давно опровергнуты). Они приняты потому, что «используются некоторым языковым сообществом в качестве средств коммуникации» [143]. В соответствии с этим методом фраза «иметь большую релятивистскую массу, чем»… частично интерпретируется благодаря её связи с некоторыми дорелятивистскими терминами (терминами классической физики или терминами языка здравого смысла), которые «общепонятны» ( Этот подход, применение которого может опираться на внушительный логический аппарат и который поэтому часто рассматривается как dernier cri (последний крик моды — фр.) истинно научной философии, выглядит даже хуже, чем популярное И наконец, простой здравый смысл подсказывает нам, что усвоение, изучение или построение новых и неизвестных языков не следует портить чуждым им материалом. Лингвисты ещё раз напоминают нам о том, что совершенный перевод невозможен, даже если мы прибегнем к сложным контекстуальным определениям. В этом состоит одна из причин важности полевой работы, в процессе которой новый язык изучается с самого начала, и неприятия как неадекватного любого подхода, который опирается на возможность полного или частичного перевода. Однако как раз то, что предано анафеме в лингвистике, логические эмпиристы считают несомненным, а именно, мифический язык наблюдения, заменивший английский язык переводчиков. Так начнем же полевую работу также Третье возражение состоит в том, что якобы существуют решающие эксперименты, опровергающие одну из как будто бы несоизмеримых теорий и подтверждающие другую. Считается, например, что эксперимент Майкельсона — Морли, изменение массы элементарных частиц, эффект Допплера опровергают классическую механику и подтверждают теорию относительности. Ответ на это возражение также нетрудно найти. Встав на точку зрения теории относительности, мы обнаруживаем, что эти эксперименты, которые теперь, конечно, будут описаны в релятивистских терминах, то есть с использованием релятивистских понятий длины, длительности, массы, скорости, и так далее [145], важны для данной теории и, более того, они поддерживают данную теорию. Приняв классическую механику (с эфиром или без него), мы вновь обнаруживаем, что перечисленные эксперименты, которые теперь описаны в совершенно иных терминах классической физики (то есть приблизительно так, как описал их Лоренц), важны, но вместе с тем они подрывают классическую механику (в соединении с электродинамикой). Откуда следует, что в нашем распоряжении обязательно должна оказаться терминология, позволяющая нам утверждать, что один и тот же эксперимент подтверждает одну теорию и опровергает другую. Правда, разве мы не можем попытаться сами ввести такую терминологию? В отдельных случаях было бы нетрудно, хотя и утомительно, выразить это, не предполагая тождества. Вместе с тем отождествление нисколько не противоречит моему тезису, поскольку теперь мы не используем терминов теории относительности или классической физики, как это было в процессе проверки, а ссылаемся на них и их отношение к физическому миру. Язык, в котором осуществляется это рассуждение, может быть классическим, релятивистским или языком шаманов. Не следует думать, что учёные действуют, не осознавая сложностей ситуации [146]. Если они действительно действуют так, то они либо инструменталисты (см. выше), либо ошибаются: в настоящее время многие учёные проявляют интерес главным образом к формулам, я же обсуждаю интерпретации. Возможно также, что, будучи хорошо знакомыми с обеими теориями, они так быстро переходят от одной из них к другой, что может показаться, будто они всё время остаются в одной области рассуждения. (Между прочим, последнее замечание имеет в виду то возражение, что «переход от теории тяготения Ньютона к общей теории относительности Эйнштейна нельзя считать иррациональным скачком», поскольку теория Ньютона «следует из теории Эйнштейна» как её прекрасная аппроксимация [147]. Глубокие мыслители способны удачно совершать подобные скачки, а из существования формальных связей ещё вовсе не следует связь интерпретаций, что теперь должно быть известно каждому, кто знаком с пресловутым «выведением» закона тяготения из законов Кеплера.) Следует также сказать, что, признав существование в науке несоизмеримости, мы больше не можем с уверенностью ответить на вопрос, объясняет ли новая концепция то, что она должна была объяснить, и не отклонилась ли она в Возражение, тесно связанное с предыдущим, отталкивается от понятия объяснения, или редукции, и подчёркивает, что данное понятие предполагает непрерывную связь понятий (другие понятия могут быть использованы для аналогичного аргумента). Предполагается, что теория относительности должна объяснять сохранившие значение части классической физики, следовательно, она не может быть несоизмерима с ней. Ответ на это возражение опять-таки очевиден. Почему учёного, разрабатывающего теорию относительности, должна интересовать судьба классической механики? Существует лишь одна задача, решения которой мы имеем право требовать от теории: она должна давать нам правильное понимание мира, то есть совокупности фактов, полученных на основе её собственных фундаментальных понятий. Что добавляют принципы объяснения к этому требованию? Не разумнее ли согласиться с тем, что концепция, скажем классическая механика, которая обнаружила свои недостатки в различных отношениях и испытывает трудности со своими собственными фактами (см. выше о решающих экспериментах), не может содержать вполне адекватные понятия? Не разумнее ли допытаться заменить её понятия понятиями более успешно развивающейся космологии? Кроме того, почему понятие объяснения должно быть обременено требованием концептуальной непрерывности? Такое понятие объяснения уже давно сочтено чрезмерно узким (когда оно включало в себя условие выводимости) и расширено за счёт включения частичных и статистических связей. Ничто не препятствует нам расширить его ещё больше и принять, например, «объяснение через двусмысленность (equivocation)». В таком случае несоизмеримые теории могут быть опровергнуты с помощью указания на их собственные разновидности опыта, то есть с помощью открытия внутренних противоречий, которыми они поражены. (Однако в отсутствие соизмеримых альтернатив эти опровержения совершенно беспомощны, что можно видеть из аргументов в пользу пролиферации, приведённых в главах В этом состоит последний аргумент, нужный для обоснования выводовглаве 17 (и книги в целом перед наиболее изощрёнными рационалистами). Приложение 5Уорф говорит об «идеях», а не о «событиях» или «фактах», и потому трудно понять, одобрил бы он моё развитие его точки зрения или нет. С одной стороны, он говорят о том, что «время, скорость и материя несущественны для построения стройной картины универсума» [389], Согласно этому принципу, «люди, пользующиеся заметно разными грамматиками, направляются своими грамматиками к наблюдениям различных типов Вторая интерпретация находит подтверждение в тех отрывках, в которых утверждается, что различные элементы значения, извлечённые из языков английского и шавни (shawnee), «использованы для описания одного и того же опыта» ( Данное изменение не было вызвано открытием новых фактов, Наука приняла новые лингвистические формулировки старых фактов, и теперь, когда мы получили в своё распоряжение новые способы выражения, специфические черты старой терминологии больше не связывают нас» ( У некоторых философов может возникнуть мысль связать несоизмеримость с проблемами, поставленными возможностью так называемого «радикального перевода». Насколько я могу судить, это мало что даёт. Радикальный перевод представляет собой тривиальность, выросшую из важного философского открытия: ни поведение, ни субъективные данные наблюдения никогда не могут однозначно детерминировать интерпретацию (см. об этом мою статью [105]. И последующий рост этой тривиальности (например, замороженный гиппопотам Дэвидсона) оказался возможен только потому, что представители лингвистической философии, | |||||||||||||||||||||
Примечания | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||