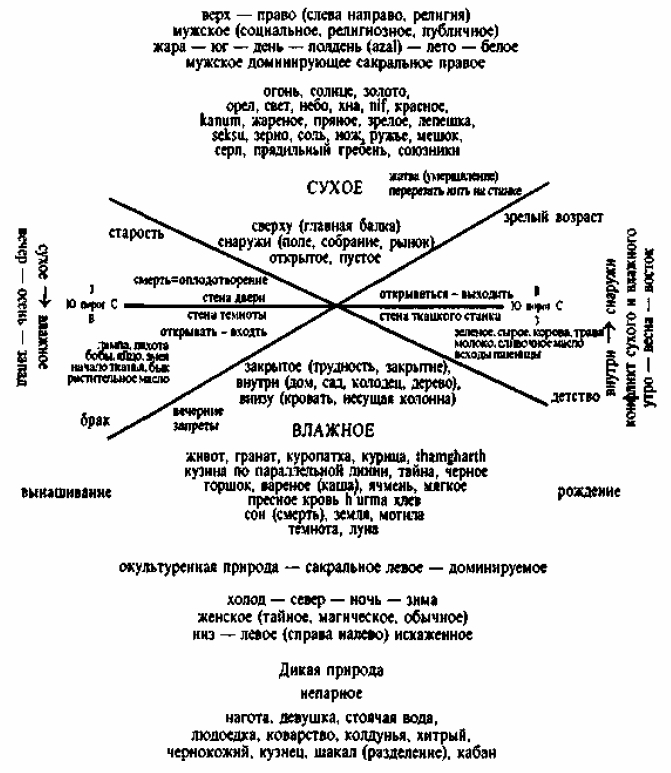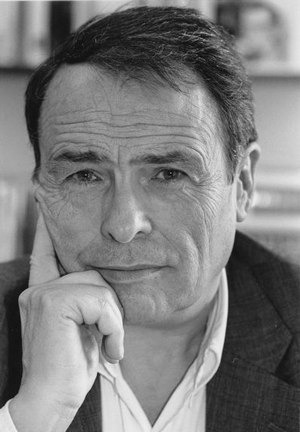 Работа французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | ||||||||||||||||||||||||||
Аристофан. Лисистрата (перевод А. Пиотровского).
Вирджиния Вулф. Орландо. | ||||||||||||||||||||||||||
Заведомая подозрительность, с которой феминистская критика относится к мужским рассуждениям о различии полов, вполне оправдана. Не только потому, что аналитик, запутавшийся в том, что, по его мнению, он понимает, способен выдавать свои собственные предпосылки и предрассудки (в силу невольного желания оправдать) за разоблачение предпосылок и предрассудков анализируемых им агентов. Эта подозрительность оправдана ещё и потому, что, имея дело с социальным институтом, на протяжении тысячелетий встроенным в объективность социальных структур Не надо быть адептом «симптоматического чтения», чтобы увидеть за словом «заметное» (saillant) слово «спаривание» (saillie) — властный и животный сексуальный акт, а за словом «схватить» (attraper) — наивную мужскую гордость перед жестом женского подчинения, гордость от присвоения себе вожделенного, а не просто желаемого атрибута. (Saillie — во французском языке используются слова saillant (выступающий, заметный) и saillie (спаривание), имеющие общий корень. Происходят от лат. salire — покрывать самку, прыгать. — Очевидно, что нужно идти много дальше в таком антропологическом прочтении психоаналитических текстов, их подтекста, допущений и оговорок. В качестве иллюстрации я отсылаю к двум отрывкам известного текста 3. Фрейда, где достаточно простого сопоставления, чтобы увидеть, как в ходе рассуждения биологическое различие становится недостатком, и даже этической неполноценностью: «Она [маленькая девочка] замечает большой хорошо выделяющийся пенис своего брата или приятеля по игре, сразу же признаёт его как превосходящую копию своего собственного спрятанного органа, Это пространство дискурса и ритуальных действий, полностью ориентированных на воспроизводство социального и мирового порядка, основанного на чрезвычайно последовательном утверждении примата мужественности, предлагает исследователю систематизированный и необработанный пример «фаллонарциссической» космологии, сохраняющей власть и над нашим бессознательным. Именно посредством социализированного тела (то есть габитуса) и ритуальных практик (частично вырванных из временного контекста с помощью стереотипизации и бесконечного повторения), прошлое продолжает воспроизводиться, пока существует коллективная мифология, относительно независимая от непостоянства индивидуальной памяти [8]. Это значит, что принцип деления, управляющий этим видением мира, проявляется со всей очевидностью В действительности упорядоченная свобода, предоставляемая большими ритуальными церемониями для манифестации легитимирующей мифологии, имеет мало общего с теми узкими и контролируемыми просветами, которые наши общества оставляют в виде поэтической вольности или приватного психоаналитического сеанса. Можно убедиться в культурном единстве средиземноморских обществ (как в настоящем, так В исследовательских целях предпочтительнее обращаться к системе, которая всё ещё функционирует, то есть непосредственно наблюдаема как таковая, когда с ней взаимодействуешь, и которая позволяет методично изучить весь универсум отношений, чем, как я это уже показал ранее [12], обращаться к литературным источникам, созданным в разное время. Эти источники способны искусственно для целей анализа синхронизировать последовательные и различные этапы развития системы и, особенно, приписывать одинаковый эпистемологический статус текстам, которые подвергли более или менее глубокой переработке старые мифоритуальные представления. Действительно, интерпретатор, пытающийся действовать в качестве этнографа, рискует принять за информаторов тех, кто, как и он сам, действует в качестве этнографа и чьи заметки и признания, даже, казалось бы, самые древние, такие как тексты Гомера и Гесиода, предполагают искажения, пропуски или толкования. Главное достоинство работы Пажа дю Буа в том, что он описывает эволюцию мифоритуальных сюжетов, которая получает свой смысл, когда мы её соотносим с развитием художественного текста, идущего в том же направлении. С этой точки зрения мы лучше понимаем, что женщина, о которой сначала думали, используя известные аналогии между женским телом и обрабатываемой с помощью «мужского плуга» землёй, или между женским животом и печью, в итоге стала восприниматься через совершенно книжную аналогию между женским телом и грифельной доской. Вообще, использование документов, которые интегрировали в научное рассуждение мифологизированный опыт тела [13], сопряжено со многими трудностями, поскольку они сильно подвержены «эффекту Монтескьё». Так, совершенно бесполезно пытаться определить, что в этих текстах позаимствовано у авторитетных авторов (например, у Аристотеля, который в основных пунктах сам воспроизводит старую мужскую мифологию), а что является интерпретацией бессознательных структур, по возможности одобренных чужим знанием. Символическое насилие: контроль через телоМужское господство гарантировано настолько надёжно, что у него нет необходимости искать оправдания. Ему достаточно быть и казаться на практике Деление полов, кажется, соответствует самому «порядку вещей» (как иногда говорят о том, что нормально, естественно, неизбежно), потому что оно присутствует как в социальном мире, в объективированном состоянии, так Нететические «тезисы» доксы никогда не ставятся под вопрос. Оказываясь «выбором», который не замечают, эти тезисы рассматриваются как нечто само собой разумеющееся и полагаются вне той системы отношений, где они могут подвергнуться критике: фактическая универсальность мужского господства [16] на практике исключает эффект «денатурализации», или, если хотите, релятивизации, который, как показывает история, происходит почти всегда при столкновении с различными образами жизни, способными показать, что «выбор», натурализованный традицией, является произвольным, исторически установленным (ex Institute), что он основан на привычке или законе (nomos, потф), но не на природе (phusis, phusei). Мужчина (vir) — это особое существо, которое живёт как существо универсальное (homo) и фактически и юридически обладает монополией на понятие человека вообще, то есть на универсальность; он социально уполномочен чувствовать себя носителем всех форм человеческого существования [17]. Чтобы это проверить, достаточно проанализировать, что в Кабилии ( Мифоритуальная система вписана в деления социального мира или, точнее, в социальные отношения доминирования и эксплуатации, установленные между полами, а также в систему представлений, существующую в виде принципов видения (vision) и деления ( Что касается мужчин, то, занимая полюс внешнего, официального, публичного, правого, сухого, высокого, прерывистого, они присваивают себе все действия, одновременно быстрые, рискованные и зрелищные. Такие действия, как резать скотину, пахать или жать, не говоря уже об убийстве или войне, которые вносят разрывы в обычное течение жизни и заставляют пользоваться инструментами, сделанными с помощью огня. Деление вещей и практик в соответствии с оппозицией мужского и женского, которое в изолированном состоянии воспринимается как произвольное, получает свою объективную и субъективную необходимость, поскольку встроено в систему гомологичных оппозиций: высокий/низкий, сверху/снизу, впереди/сзади, правый/левый, прямой/согнутый (и коварный), сухой/влажный, твёрдый/мягкий, острый/пресный, светлый/тёмный и так далее, которые, будучи схожи в своём различии, достаточно согласованы, чтобы поддерживать друг друга
Постепенная соматизация фундаментальных отношений, конституирующих социальный порядок, приводит к формированию двух типов «природы», то есть двух систем натурализованных социальных различий, которые одновременно вписаны как в телесный экзис (в форме двух противоположных и взаимодополняющих типов поз, походки, осанки, жестов и тому подобное), так Символическая эффективность негативных предрассудков, социально установленных в общественном порядке, в действительности во многом определяется тем, что они подтверждают сами себя, действуя как self-fulfilling prophecy посредством amor fati, которая заставляет своих жертв посвящать и обрекать себя на судьбу, к которой они в любом случае социально предназначены. Это же, естественно, верно и для позитивных предрассудков, действующих через, казалось бы, более понятный механизм: «положение обязывает». (Self-fulfilling prophecy — англ. — самосбывающееся пророчество. — Таким образом, получив в удел, как мы это видели, такие свойства, как маленький, обыденный, кривой, именно женщины, склонённые к земле, собирают оливки или ветки, в то время как мужчины, вооружённые шестом или топором, режут и заставляют падать. Именно женщины, уполномоченные заниматься вульгарными проблемами ежедневного управления домашней экономикой, находят мелочное удовольствие в экономике обменов, учёте платежей и расчётливости, как это делают все, но человек чести, имеющий возможность ими играть и пользоваться благодаря своему посреднику, должен научиться это презирать [19]. Посредством такого поведения, на которое мужчины взирают свысока и снисходительно, кабильские женщины неизбежно воспроизводят образ, приписываемый им мужчинами, и таким образом создают видимость природного основания для социально навязываемой им идентичности. Подкрепление, порождаемое антиципациями негативных предрассудков, установленных внутри социального порядка и практик, которые эти антиципации порождают и лишь усиливают, замыкает мужчин и женщин в зеркальный круг, где бесконечно отражаются противоположные, но годные для взаимного признания образы. Не имея возможности понять фундамент общей веры, находящийся в основании самой игры, они могут воспринимать только отрицательные свойства, которыми доминирующая точка зрения наделяет женщин. К ним относится, например, хитрость, или, если взять более положительную характеристику — интуиция [20]. В действительности они навязываются женщинам посредством силовых отношений, которые объединяют и разделяют так же, как и приписываемая женщинам негативная добродетель. Дело представляется так, как будто в самом понятии согнутого кроется понятие коварства, а женщина, которая символически обречена на подчинение и покорность, может получить некоторую власть в домашней борьбе, лишь используя такую силу, как хитрость, способную обратить против сильного его же собственную силу. Например, женщина может действовать как серый кардинал, согласный оставаться в стороне Очевидно, что эту специфическую форму доминирования можно адекватно понять, лишь преодолев наивную оппозицию между насилием и подчинением или принуждением и согласием. В действительности, принуждение, производимое символическим насилием, реализуется посредством вынужденного признания, которое доминируемые не могут не даровать доминирующим, поскольку, чтобы мыслить самих себя и доминирующих, они располагают лишь теми мыслительными инструментами, что являются общими как для доминируемых, так и для доминирующих. Причём данные мыслительные инструменты представляют собой всего лишь инкорпорированную форму отношений господства. Это приводит к тому, что скрытые, или лучше — вытесненные (в смысле 3. Фрейда) — формы господства и эксплуатации, особенно получающие свою эффективность от специфической логики отношений родства (то есть от опыта и языка долга и чувств, часто связанных с логикой аффективного самопожертвования), таких как отношение между супругами или между старшим и младшим (или младшей) [22], или даже отношение господина и раба, или патрона и рабочего, когда говорят о патернализме — все они представляют неразрешимую трудность для экономизма любого рода. Они вводят в игру совсем другую экономику, а именно экономику символической власти, которая реализуется, как по волшебству, вне всякого физического принуждения и благодаря видимой бескорыстности в противовес обычным экономическим законам. Но эта видимость исчезает, как только мы замечаем, что условиями возможности этой символической эффективности и её экономических следствий (в широком смысле слова) является громадная предварительная работа по внушению и длительной трансформации тела, которая необходима, чтобы произвести постоянные и переносимые в другие области диспозиции, на которые в действительности опираются символические действия, способные их приводить в действие или пробуждать. Любая власть имеет символическое измерение: она должна получить от подчинённых согласие, основанное не на продуманном решении просвещённого сознания, но на непосредственном и дорефлективном подчинении социализированного тела. Доминируемые применяют ко всем вещам мира, Соматизация отношений господстваИтак, символическое насилие, являющееся элементом любого отношения господства и составляющее сущность мужского господства, можно понять, лишь введя понятие габитуса и поставив вопрос о социальных условиях его производства, которые в конечном итоге и являются скрытым условием действительной эффективности такого по видимости магического действия, как символическое насилие. Поэтому необходимо восстановить всю воспитательную работу, осуществляемую либо через знакомство с символически структурированным миром, либо через коллективное внушение, скорее скрытого, чем явного, частью которого являются важные коллективные ритуалы, и посредством которой производится длительная трансформация тела и привычных способов его использования. Эта работа, похожая на все виды терапии с помощью практики или дискурса, не сводится к внушению знаний или воспоминаний. Говорить о габитусе — значит вводить такой способ закрепления и запоминания прошлого, который совершенно невозможно помыслить в рамках старой бергсоновской альтернативы памяти-образа и памяти-привычки, первая из которых — «духовная», а вторая — «механическая». боксёр, уклоняющийся от удара, импровизирующий пианист или оратор, просто женщина, которая идёт, садится, держит нож (правой рукой), или мужчина, приподнимающий шляпу или наклоняющий голову в знак приветствия, — все они отнюдь не воскрешают в памяти образ, записанный в уме после первого опыта того действия, которое они собираются выполнить. В то же время нельзя сказать, что это всего лишь результат свободной игры химических, физических или материальных механизмов. Поэтому не случайно, что у нас возникает столько проблем при создании роботов, способных механически подражать говорящему человеку, который произносит только одну простую, но действительно адекватную фразу, из всех тех, что возможны в ситуации (и это даже ещё труднее, в противоположность иерархии, которую неявно ввёл А. Бергсон, чем воспроизвести образ театрального события или политической манифестации). Все эти агенты используют обобщённые формы, порождающие схемы, которые — в противоположность альтернативе, в которую их желает втиснуть механицизм или интеллектуализм, — не являются ни суммой локальных механически агрегированных рефлексов, ни согласованным результатом рационального расчёта. Эти схемы, имеющие самое общее применение, позволяют конструировать ситуацию как целостность, наделённую смыслом, в виде практических действий почти телесного предвосхищения, и давать подходящий ответ, который, никогда не являясь простой реализацией некоторого плана или модели, представляет собой связанное и моментально понимаемое единство. Этот экскурс полезен, поскольку мне хотелось бы попытаться предотвратить ошибочное чтение, возможное Социальный мир обращается с телом так, как мы — с неким запоминающим устройством [23]: он записывает на нём, особенно в форме социальных принципов деления, которые обыденный язык сводит в пары оппозиций, фундаментальные категории видения мира (или, если хотите, системы ценностей или предпочтений). Заставляя его притворяться, или «глупеть», согласно выражению Б. Паскаля, социальный мир даёт ему некую возможность стать ангелом или принять совсем другую культурную идентичность, всегда более или менее противостоящую (биологической) природе, которую социальный мир требует от тела. Социализировать животное, окультурить природу в виде и посредством безусловного подчинения тела часто неявным приказам социального порядка, поскольку они не проговариваются и не декларируются, — значит дать животному возможность думать в соответствии со своей собственной логикой, совершенно отличной от той, что мы спонтанно ассоциируем с идеей мышления после двух тысячелетий многословного платонизма. Это означает дать ему возможность мыслить себя самого, то есть мыслить тело и практику с той точки зрения (точки зрения практики), которую нам трудно помыслить, потому что это в принципе трудно, но также и потому что мы воспроизводим в нашем уме Насилие, осуществляемое социальным миром по отношению к каждому из своих субъектов, состоит в том, чтобы запечатлеть в каждом теле (метафора — буквы здесь получают свой полный смысл) настоящую программу восприятия, оценивания и действия. (Во французском варианте используется слово caractere имеющее несколько значений: 1) характер, нрав; 2) свойство, признак, отличительная черта; 3) буква, литера. — Сексизм — это эссенциализм, так же как этнический или классовый расизм. Он стремится свести исторически сформированные социальные различия к биологической природе, функционирующей как некоторая сущность, из которой неумолимо выводятся все жизненные акты. И среди других форм эссенциализма, несомненно, труднее всего искоренить сексизм. Труд, направленный на то, чтобы сделать «природой» произвольный продукт истории, в данном случае находит очевидное основание во внешних телесных различиях, а также в совершенно реальных результатах, произведённых в телах и умах (то есть в реальности Аналитик, стремящийся избежать легитимации реальности под видом её научного описания, сталкивается с огромными трудностями. Это верно как при исследовании женщин, так и других экономически или символически подчинённых групп, предельным случаем которых являются группы, стигматизированные в силу своего национального или религиозного происхождения, имеющего (или нет) внешнее выражение, как, например, цвет кожи. Проблема в том, что ради популистского гуманизма он может замалчивать те или иные социально сформированные и установленные различия. Как, например, некоторые американские антропологи представляют их под именем «культуры бедности», когда речь идёт об афроамериканцах (это выбор, который более или менее сознательно делают те, кто, стремясь к реабилитации, хотят во что бы то ни стало говорить о «народной культуре»). Это происходит потому, что они боятся дать оружие расизму, который как раз и вписывает эти культурные различия в природу агентов (например, самих бедных), оставляя за скобками условия их существования, то есть бедности как таковой, продуктом которой они являются, и таким образом создавая для себя средства, чтобы «наказывать жертв». Это же можно наблюдать Являясь продуктом записи на теле отношений господства, структурирующие и структурированные структуры габитуса выступают основанием практических действий познания и признания магической границы, которая производит различие между доминирующими и доминируемыми, то есть их социальную идентичность, полностью содержащуюся в этом отношении. Именно это знание тела заставляет доминируемых работать на свою доминируемую позицию, неявно признавая, вне всякого сознательного решения и указаний воли, границы, которые им навязаны, или даже производя и воспроизводя своими собственными практиками юридически отменённые ограничения. Это означает, что освобождение жертв от символического насилия не может осуществиться благодаря указу. Можно даже наблюдать, что наиболее сильно инкорпорированные ограничения проявляются именно тогда, когда исчезают внешние принуждения и достигается формальное равенство (право голоса, право на образование, доступ к любым профессиям, в том числе политическим): самоисключение и «призвание» (как негативное, так и позитивное) занимают место открытого исключения. Схожие процессы можно наблюдать у всех жертв символического господства. Например, среди детей из экономически или культурно обделённых семей, когда им формально и реально открыт доступ к среднему и высшему образованию, или среди членов групп, наиболее обделённых культурно, когда им предлагают воспользоваться их формальным правом доступа к культуре. Но как это можно было наблюдать во множестве революций, предвещавших создание «нового человека», габитус подчинённых часто стремится воспроизвести структуры (продуктом которых эти габитусы являются), временно изменённые революцией. Это практическое знание/признание границ, исключающее саму возможность их нарушения, спонтанно переводится в зону немыслимого. Сильно цензурированное поведение, навязанное женщинам, особенно в присутствии мужчин Давление габитуса таково, что от него нельзя избавиться с помощью простого усилия воли, опирающегося на сознательное стремление к свободе. Тело предает того, кто следует чувству застенчивости, поскольку оно узнает запреты и призывы к порядку, тормозящие реакции, там, где другой габитус, произведённый в других условиях, предрасположен видеть стимулирующие приказы и побуждение к действию. Исключение из публичного пространства, которое, когда оно утверждается так открыто, как у кабилов, обрекает женщин на существование в закрытых зонах и на безжалостную вербальную или телесную цензуру относительно всех форм публичного выражения, когда любой проход через мужское пространство, например, место перед ассамблеей (thajmadth), становится ужасным испытанием. Это исключение может почти столь же эффективно действовать и вне этой системы: оно принимает форму своего рода социально навязанной агорофобии, существующей ещё долго после отмены явных запретов и приводящей к самоисключению женщин из публичной жизни (агоры). Известно, что даже сегодня женщины чаще, чем мужчины, отказываются участвовать в опросах, относящихся к общественным проблемам (и разрыв этот тем больше, чем ниже уровень образования опрашиваемых женщин). Компетенция, социально признанная за некоторым агентом, способствует формированию склонности приобрести соответствующую техническую компетенцию и посредством этого — управляет шансами на обладание той или иной компетенцией. Это происходит особенно благодаря тенденции соответствовать той компетенции, к которой толкает официальное признание права обладать ей. Можно сказать, что женщины реже, чем мужчины, признают за собой право обладать легитимной компетенцией. Например, во время исследования публики музеев было замечено, что множество опрашиваемых женщин, особенно обладавших небольшим культурным капиталом, выражали желание, чтобы вместо них отвечал на вопросы их спутник. Отказ от привычного образа себя вызывал беспокойство. На это указывали взгляды, которые в ходе интервью послушные жёны время от времени бросали то на своих мужей, то на интервьюера. В более общем виде, необходимо было бы перечислить все виды практик, свидетельствующие о едва ли не физических трудностях, которые испытывают женщины перед необходимостью участия в публичных делах или необходимостью преодолеть своё подчинённое положение по отношению к мужчине, который воспринимается одновременно как защитник, судья и лицо, принимающее решения [24]. И подобно тому, как кабильские женщины используют принципы доминирующего видения в магических ритуалах, прямо направленных на его подрыв (как, например, ритуал закрытия, направленный на то, чтобы вызвать половое бессилие мужчин, или ритуалы любовной магии, способные подчинить любимого и сделать его послушным), женщины, казалось бы, наиболее свободные от фаллоцентрического мышления, часто выказывают подчинение этим принципам в тех самых действиях и словах, что направлены на опровержение их эффекта (например, доказывая, что некоторые черты характера являются по природе своей либо женскими, либо неженскими). Посредничество габитуса, предрасполагающего наследника принять своё наследство (мужчины, старшего или аристократа), то есть свою социальную судьбу, столь же необходимо Социальное конструирование полаМожно бесконечно долго перечислять действия, дифференцированные и дифференцирующие по половому признаку, которые направлены на акцентуацию в каждом агенте внешних признаков, лучше всего согласующихся с социальным определением его половой принадлежности, или на поощрение практик, соответствующих его полу и полностью запрещающих или отучающих от неподобающего поведения, особенно в отношениях с представителями другого пола. Хотя эти практики относятся только к внешнему поведению индивида, благодаря настоящему психосоматическому действию они, в конечном итоге, производят диспозиции и схемы, управляющие наиболее неконтролируемыми позами и привычками телесного Мужские и женские тела, и особенно половые органы, которые, в силу того, что конденсируют в себе различия между полами, предрасположены символизировать эти различия, воспринимаются и конструируются в соответствии со схемами габитуса и таким образом становятся исключительной символической опорой значений и ценностей, согласующихся с принципами фаллоцентри-ческого видения мира. Не фаллос (или его отсутствие) выступает производящей основой этого видения мира. Наоборот, именно это видение мира, которое в силу социальных причин (заслуживающих специального исследования) организовано в соответствии с делением на взаимозависизлые категории мужского и женского, может представлять фаллос, определённый как символ мужественности и исключительно мужской чести (nij), основой различения между полами (в смысле принадлежности к мужскому или женскому роду) и оправдывать социальное различие между двумя иерархизированными существами объективными природными различиями между биологическими телами. Мужское первенство, утверждаемое в легитимном определении разделения полового труда и половом разделении труда (в обоих случаях мужчина согласно этим представлениям «берёт верх», в то время как женщина «подчиняется»), стремится навязать себя, через систему схем, составляющих габитус, в качестве матрицы любых представлений, мыслей и действий всех членов общества, а также в качестве бесспорного основания, поскольку оно расположено вне сознания и критики, андроцентрического представления о биологическом и социальном воспроизводстве одновременно. Не только потребности биологического воспроизводства детерминируют символическую организацию полового разделения труда (и постепенно всего социального и природного порядка), но и произвольное конструирование представлений о биологической природе, в частности, мужского и женского тела, его использования и функций, особенно при биологическом воспроизводстве. Это создаёт основания для восприятия в качестве естественной именно мужской точки зрения на разделение полового труда и на половое разделение труда, а посредством этого — всего мужского видения мира. Особая сила мужской социодицеи в совмещении двух операций: она легитимирует отношения доминирования, вписывая их в биологическую природу вещей, которая, в свою очередь, есть не что иное, как биологизированная социальная конструкция. Определение собственно тела, живого носителя работы по натурализации, представляет собой продукт всей социальной работы по конструированию, особенно в том, что касается сексуальности. Именно вознося на вершину символической иерархии понятие дела чести, это основание сохранения и увеличения чести, то есть символического капитала, который вместе с социальным капиталом отношений родства представляет основную (если не единственную) форму накопления, возможную в этом пространстве, кабилы пришли к признанию бесспорного превосходства мужской силы. Даже применительно к этическим аспектам мужская сила всегда продолжает ассоциироваться, по крайней мере неявно, с физической силой, особенно посредством оценивания признаков мужественности (дефлорации невесты, количества потомков мужского пола и так далее), которые ожидаются от настоящего мужчины, а также с фаллосом, который, кажется, создан для того, чтобы служить носителем всех коллективных фантазмов об оплодотворяющей силе [27]. Благодаря способности увеличиваться, столь дорогой Ж. Лакану, фаллос есть то, что набухает и заставляет полнеть. Самое обычное слово для обозначения пениса — abbuch, в женском роде слово имеет форму thabbuchth и обозначает грудь, в то время как фаллос «раздутый» называется ambul, то есть большая колбаса [28]. Схема набухания является порождающим принципом ритуалов плодородия, особенно если речь идёт о пище, когда, стремясь имитировать набухание, обращаются к продуктам, которые набухают и от которых полнеют (как, например, пирожки) и которые принято подавать в тех ситуациях, когда должно осуществляться оплодотворяющие действие мужской силы, как во время свадьбы, а также во время начала пахоты, то есть в ситуации, гомологичной дефлорации [29]. Те же ассоциации, что преследуют Ж. Лакана (набухание, жизненные соки), можно найти в словах, обозначающих мужское семя (zzel), и особенно в понятии ladmara, означающем полноту, благодаря своему корню аатаг (наполнять, развиваться, и так далее), то есть то, что полно жизни, и то, что наполняет жизнь. В ритуалах плодородия схема наполнения (полный/пустой, плодовитый/бесплодный и так далее) постоянно комбинируется со схемой набухания [30]. Именно категории восприятия, сконструированные вокруг оппозиций, отсылающих в конечном итоге к разделению полового труда, которое само организовано в соответствии с этими оппозициями, структурируют восприятие сексуальных органов Естественно, какой бы тесной ни была связь между реальностью (или процессами природного мира) и принципами видения и деления, которые к ней применяются, и каким бы сильным ни был круговой процесс взаимной ратификации, всегда существует место для когнитивной борьбы по поводу смысла предметов социального мира и, в частности, по поводу отношения полов. Когда доминируемые применяют к механизмам или силам, которые над ними господствуют (или просто к самим доминирующим), категории, являющиеся продуктом этого господства, другими словами, когда их сознание и бессознательное структурированы в соответствии со структурами навязанного им отношения господства, их познавательные действия неизбежно становятся актами признания произвола, объектом которого они являются, навязываемого им объективно и субъективно. Это означает, что частичная неопределённость некоторых элементов мифоритуальной системы, даже с точки зрения деления на мужское и женское, лежащая в основании символизма, может служить точкой опоры при антагонистических интерпретациях, с помощью которых доминируемые пытаются защитить себя от этого символического навязывания [32]. Например, женщины, применяя иначе фундаментальные схемы мифопоэтического видения (высокий/низкий, твёрдый/мягкий, прямой/согнутый и тому подобное), могут воспринимать мужские органы по аналогии с безжизненно свисающими предметами (слова laalaleg и asadlag, используемые также для обозначения связок лука или подвешенного мяса, или acherbub, иногда ассоциируемый с ajerbub, то есть лохмотьями) [33]. Хотя в их представлениях продолжают жить категории доминирующего восприятия, они могут извлекать пользу из своего униженного состояния, чтобы утверждать превосходство женского пола, напоминая таким образом, что социальные свойства двух родов являются продуктом доминирования и могут быть всегда использованы в борьбе полов. (Как в кабильской поговорке, используемой женщинами: «У тебя всё висит снаружи (ladlaleq), у меня же всё хорошо спрятано».) Заметим по ходу, что подобное рассуждение верно для любого отношения символического доминирования. Бесполезно противопоставлять символическое доминирование, осуществляемое посредством легитимной культуры, и сопротивление, которое могут оказывать ей доминируемые, часто вооружаясь теми же категориями легитимной культуры, но в виде пародии, насмешки, или карнавального переодевания. Не будучи уверенным, что мои выводы не вызваны ограниченностью имеющейся у меня информации, я полагаю возможным утверждать, что пол женщин является продуктом работы по конструированию, стремящейся сделать из них своего рода негативное существо, определённое в основном через лишение мужских свойств и наделение уничижительными характеристиками, как, например, липкий (achermid — одно из берберских слов, означающее влагалище, одновременно является одним из самых уничижительных для обозначения липкого человека). Как здесь не упомянуть в качестве удивительного антропологического документа сартровский «анализ» женских половых органов как липкой дыры, который часто разоблачается в феминистской литературе. «Непристойность женского полового органа, — пишет И последняя метафора, бесспорно наиболее разоблачающая, а именно, «осы, которая погрузилась в варенье Представление о влагалище как об инвертированном фаллосе, как показывает Мари-Кристин Пушель, изучавшая работы средневекового хирурга, подчиняется тем же фундаментальным оппозициям между позитивным и негативным, лицевой и изнаночной стороной, и которое навязывается, как только мужское оказывается мерой всех вещей [38]. Чтобы убедиться, что социальное определение пола через половые органы не есть простая констатация природных признаков, непосредственно данных восприятию, но результат систематического подчёркивания или замалчивания различий и сходств, осуществляемых в соответствии с социальным статусом, признаваемым за мужчиной и женщиной, как будто для того, чтобы обосновать доминирующее представление о женской природе [39], достаточно проследить историю «открытия» клитора, как это представляет Томас Лакер [40], и потом продолжить её вплоть до теории Зигмунда Фрейда о развитии женской сексуальности от клитора к влагалищу, что может служить ещё одним примером эффекта Монтескьё, то есть научного преображения социального мифа. Всё тело целиком также воспринимается сквозь призму основных культурных оппозиций. Оно имеет свой верх и низ, граница которых отмечена поясом, знак закрытости и символической границы, по крайней мере для женщин, между чистым и нечистым. Тело также имеет свою переднюю часть, место половой дифференциации (естественно, выбираемое системой, стремящейся всё время дифференцировать), и свою заднюю часть, сексуально нейтральную и потенциально женскую, то есть подчинённую (о чём напоминает, в виде жеста или слова, южное оскорбление, направленное преимущественно против гомосексуалистов). Комбинация двух схем формирует оппозицию между благородными и постыдными частями тела. Так, лоб, глаза, усы и рот — это органы представления себя, где концентрируется социальная идентичность, представление о социальной чести, требующее умения оказывать сопротивление и смотреть в прямо лицо. Но есть также и частные, скрытые или постыдные части, которые понятие чести приказывает прятать. Верхняя часть тела (мужская) и её легитимное использование: оказывать сопротивление, смело выступать против (gabel), смотреть в лицо, в глаза, выступать публично и так далее — являются исключительной монополией мужчины. Это значит, что именно посредством полового разделения легитимного использования тела устанавливается связь (сформулированная психоанализом) между фаллосом и логосом. Доказательством этого может служить, например, то, что женщина, которая в Кабилии спрятана от взглядов, если она без вуали, должна в некотором смысле отказаться от использования своего взгляда (в публичном месте она ходит опустив глаза к земле) и своей речи: единственное слово, которое ей подходит, — это wissen не знаю) как своего рода антитеза мужской речи, которая есть утверждение — решительное, резкое и вместе с тем продуманное и взвешенное. И как не видеть, что сам половой акт, хотя он постоянно функционирует как своего рода первоначальная матрица, на основе которой конструируются все формы объединения противоположных принципов лемеха и борозды, земли и неба, огня и воды и тому подобное, постоянно представляется в соответствии с принципом мужского превосходства? Так же как влагалище обязано своим пагубным и зловредным характером тому факту, что является дырой и Смысл этой социодицеи утверждается здесь без обиняков: в самую основу социального порядка, где господствует мужчина, базовый миф вводит элементарную оппозицию (в действительности уже встроенную в ожидания, которые служат, чтобы её оправдать, например, с помощью противопоставления источника и дома) между природой и культурой, между природной и культурной «сексуальностью» [43]. Анемичному акту, свершившемуся у источника по определению женское место) и по инициативе женщины, порочной соблазнительницы, которая самой природой посвящена в любовные дела, противопоставляется акт, соответствующий nomos’у, акту домашнему и одомашненному, совершающемуся по просьбе мужчины в соответствии с порядком вещей (то есть в соответствии с фундаментальной иерархией социального и космического порядка) Но то, что мифический дискурс проповедует в конечном итоге в очень наивной форме, ритуалы назначения, являющиеся в действительности символическими актами по дифференциации, выполняют более скрыто и, несомненно, символически более эффективно. Достаточно указать на практику обрезания — специфически мужской ритуал посвящения, утверждающий различие между теми, кого он наделяет мужественностью, полностью символически подготавливая его быть мужественным, и теми, кто в принципе не приспособлен к тому, чтобы участвовать в этом ритуале, и кто обречён воспринимать себя через призму отсутствия того, что служит поводом и основанием ритуала, подтверждающего мужественность. И психосоматическая работа, проводимая постоянно, особенно посредством ритуалов, нигде не проявляется столь открыто, как в так называемых ритуалах «отделения», функцией которых является эмансипация мальчика от матери и постепенное формирование мужских качеств, побуждая и подготавливая его к столкновению с внешним миром. Это объективное «намерение» упразднить женское в мужском (которое Мелани Кляйн предлагала анализировать как операцию, обратную ритуальной), желание уничтожить связь и привязанность к матери, земле, влажному, тёмному, природе — другими словами, ко всему женскому, обнаруживает себя со всей очевидностью в ритуалах, проводимых в момент так называемого «отделения в январе» (el dazla gennayer), как, например, первая стрижка волос мальчика, и во всех церемониях, отмечающих переход порога мужского мира, которые венчает ритуал обрезания. (Подробнее о зимних ритуалах см. Бурдьё П., Практический смысл. По возвращении они покупали голову быка: как и рога, это фаллический символ, связанный с понятием nif. Та же психосоматическая работа, которая по отношению к мальчикам направлена на воспитание у них мужских качеств, очищая их от всего, что может у них остаться женского, как, например, у «сына вдовы», принимает ещё более радикальную форму, когда речь идёт о девочках. Женщина, формируемая как негативная сущность, определяется через лишение её тех или иных признаков. Поэтому её собственные добродетели могут существовать только в виде двойного отрицания, например, как отвергнутый или преодолённый порок или минимизированное зло. Вся работа по социализации направлена на интерио-ризацию ограничений, касающихся в первую очередь тела (поскольку самое святое, h’aram, связано с использованием тела). Молодая кабильская женщина усваивала фундаментальные принципы женского искусства жизни, одновременно телесные и моральные правила поведения, учась одеваться и носить различные одежды, соответствующие различным этапам жизни (маленькой девочки, девственницы, достигшей половой зрелости, жены, матери семьи), незаметно для себя усваивая — как через бессознательное подражание, так и через открытое подчинение — правильный способ завязывания пояса или волос, правильную походку, взгляд и манеру показывать своё лицо [44]. Это обучение, остающееся по преимуществу неявным, поскольку сами ритуалы действуют с помощью изоляции тех, кто им подвергается, от тех, кто из них исключён, стремится вписать в самые глубокие пласты бессознательного антагонистические принципы мужской и женской идентичности, эти зарубки на теле, даже сегодня управляющие выбором призвания в соответствии с делениями, схожими с половым разделением труда в кабильском обществе. Несмотря на изменения, вызванные промышленной революцией, Поскольку сексуальность — это слишком важная вещь, чтобы оставить её на произвол индивидуальных импровизаций, группа предлагает и навязывает официальное определение легитимного использования тела, исключая как из представлений, так и из практик все (особенно когда речь идёт о мужчинах), что может намекать на свойства, приписываемые другой категории. Работа по символическому конструированию, завершаемая в виде работы по практическому конструированию (Bildung) и образованию, логически действует с помощью отделения от другого социально сконструированного пола. Как следствие, она стремится исключить из пространства мыслимого и возможного всё, что указывает на принадлежность к противоположному полу, в частности, все возможности, биологически вписанные в этот «первертивный полиморф», каким является, если верить 3. Фрейду, совсем маленький ребёнок, чтобы произвести такой социальный артефакт, как мужественный мужчина или женственная женщина. Таким образом, социально сформированное биологическое тело есть тело политизированное, или, если хотите, инкорпорированная политика. Фундаментальные принципы андроцентрического видения мира натурализуются в форме элементарных позиций и диспозиций тела, которые воспринимаются как естественное проявление естественных тенденций. Вся мораль чести может, таким образом, выразиться в слове gabel, тысячу раз повторявшемся нашими информаторами. Оно означает умение противостоять, смотреть в лицо, а также соответствующие телесные позы [45]. Казалось бы, подчинение находит естественное выражение в том, чтобы быть внизу, подчиняться, наклоняться, унижаться, склоняться и тому подобное, и напротив, честность ассоциируется с прямым положением, что является монополией мужчины, в то время как склонённая, гибкая поза и соответствующая покорность считаются свойствами женщин [46]. Поэтому базовое воспитание по сути своей является политическим. Оно стремится внушить способ управления телом в целом или Illusio и социальный генезис libido dominandiЕсли женщины, подчинившись работе по социализации, направленной на то, чтобы их ослабить и исключить, усваивают негативную добродетель самоотречения, смирения и молчания, то и мужчины являются пленниками и тайными жертвами доминирующего представления, хотя оно хорошо сочетается с их интересами. Когда мифоритуальная система полностью утверждается в объективности социальных структур Чтобы похвалить мужчину, достаточно ему сказать: «Вот это мужчина» [49]. Итак, можно сказать, что мужчина — это существо, заключающее в себе понятие «должен», которое навязывается как нечто само собой разумеющееся и принимается без обсуждения: быть мужчиной — значит сразу оказаться в позиции, содержащей в себе власть и привилегии, но одновременно обязанности и все обязательства, вписанные в понятие мужественности как своего рода аристократизм. Речь идёт не о том, чтобы перевернуть обязанности (как это может предположить поверхностное феминистское чтение), но постараться понять, что предполагает эта специфическая форма доминирования, рассмотрев ситуацию именно с позиции мужских привилегий, являющихся одновременно ловушкой. Исключить женщин с агоры и всех публичных мест, где играют в игры, считающиеся самыми серьёзными в человеческой жизни, такие как политика или война, в действительности значит запретить им присваивать себе подобные диспозиции (например, понятие о деле чести), приобретаемые благодаря посещению таких мест и участию в таких играх, которые ведут к соперничеству с другими мужчинами. Главный принцип деления, классифицирующий человеческие существа на мужчин и женщин, предписывает первым только игры, достойные того, чтобы в них играли, при этом настраивая их на усвоение установки воспринимать серьёзно те игры, которые социальный мир утверждает как серьёзные. Это самое привычное illusio, которое делает из человека мужчину. Его можно назвать чувством чести, мужественностью, manliness™, или, на языке кабилов «быть кабилом» (kabilite, thakbaylith). (Manliness (англ.) — мужественность. — Таким образом, доминирующий тоже подчинён, но он зависит от своего собственного статуса доминирующего, что, естественно, сильно меняет ситуацию. Чтобы проанализировать этот парадоксальный аспект символического доминирования, почти всегда игнорируемый феминистской критикой, необходимо, сделав резкий переход от одного культурного полюса к другому, то есть от кабильских горцев к блумсберийской группе, обратиться к Вирджинии Вулф, но не как к автору постоянно цитируемых классических феминистских текстов («Своя комната», «Три гинеи»), а как к романистке, которая благодаря письму и производимому им анамнезу открывает вещи, ранее скрытые от взора представителей доминирующего пола «гипнотической властью доминирования» [50]. Роман «На маяк» предлагает описание отношений между полами, очищенное от всех стереотипов и лозунгов, от понятия денег, культуры или власти, которые всё ещё транслируются более теоретическими текстами. Одновременно мы находим здесь бесподобный анализ того, каким может быть женской взгляд на этот вид отчаянного и достаточно трогательного, В школьном пересказе роман «На маяк» — это история семьи Рэмзи, которая живёт на даче с друзьями на Гебридских островах. Миссис Рэмзи пообещала самому младшему из своих детей, шестилетнему Джеймсу, пойти с ним на следующий день на маяк, зажигающийся каждый вечер. Но мистер Рэмзи объявляет, что завтра точно будет плохая погода. Это становится предметом спора. Проходит время. Миссис Рэмзи умирает. Возвращаясь снова в тот дом, который они надолго оставили, мистер Рэмзи и Джеймс совершают не состоявшуюся Возможно, в отличие от миссис Рэмзи, которая боится, как бы Вся логика данного персонажа заключается в этом видимом противоречии. Мистер Рэмзи, подобно архаичному королю, которого упоминает Бенвенист в «Словаре индоевропейских социальных терминов», — это тот, чьи слова являются вердиктом; тот, кто может одной фразой убить «безмерную радость» своего сына, полностью поглощённого намеченной прогулкой к маяку («Да, но только, — сказал его отец, становясь под окном гостиной, — погода будет плохая»). Его прогнозы имеют способность самосбываться, становиться реальностью: либо они действуют как приказ, как благословение или проклятие, которые волшебным образом заставляют произойти то, что они предвещают; либо, что ещё ужаснее, они выражают то, что ещё только намечается, то, что написано знаками, которые постижимы только в виде прозрений почти божественных мистиков, способных наделять мир смыслом, удваивать силу законов социальной и естественной природы, переводя их в законы разума и опыта, в высказывания науки и мудрости, одновременно рациональные и мистические. Научный прогноз и императивное утверждение отцовского предсказания превращает будущее в прошлое. Мудрое предвидение придаёт этому ещё несостоявшемуся событию одобрение опыта и абсолютного согласия, которое оно подразумевает. Безусловное подчинение порядку вещей и абсолютное утверждение принципа реальности он противопоставляет материнскому понимаю, которое признает бесспорное подчинение закону желания и удовольствия, но удвоенное двойной условной уступкой по отношению к принципу реальности: «Да, непременно, если завтра погода будет хорошая, — сказала миссис Рэмзи. — Только уж встать придётся пораньше, — прибавила она» [53]. Достаточно сравнить эту фразу с отцовским вердиктом [54], чтобы увидеть, что «нет» отца не нуждается в выражении или оправдании. Это «но» («Да, но только погода будет плохая») присутствует здесь, чтобы указать, что для рационального существа («будь разумным», «позднее ты поймёшь») нет другого решения, чем просто подчиниться силе вещей. Именно этот брюзжащий и пособнический реализм порядка мира вызывает ненависть к отцу, ненависть, которая, как в подростковом протесте, направлена не столько против необходимости, на открытие которой претендует отцовский дискурс, сколько против произвольного согласия, которое всемогущий отец за ней признает, доказывая, таким образом, свою слабость. Это покорная соглашательская слабость, которая принимается без сопротивления, та попустительская слабость, хвастающаяся и получающая удовольствие от жестокого удовольствия разочаровывать, то есть заставлять разделять своё собственное разочарование, свою собственную покорность, своё собственное поражение [55]. Самые радикальные детские или подростковые протесты направлены не столько против отца, сколько против самого факта спонтанного подчинения, против того, что первым движением габитуса является подчинение отцу и признание его доводов. Благодаря неопределённости, которую позволяет использование свободного стиля, мы незаметно переходим от точки зрения детей на отца к его восприятию самого себя. Эта точка зрения в действительности совершенно безличная, поскольку является доминирующей и легитимной точкой зрения. Она есть не что иное, как возвышенная идея о самом себе, которую имеет право и обязан иметь о себе самом тот, кто намерен реализовать в своём существе моральный принцип, приписываемый ему социальным миром, в данном случае — идеал мужчины и отца, который он обязан реализовать: «То, что он сказал, была правда. Вечно была правда. На неправду он был неспособен; никогда не подтасовывал фактов; ни единого слова неприятного не мог опустить ради пользы или удовольствия любого из смертных, тем паче ради детей, которые, плоть от плоти его, с младых ногтей обязаны были помнить, что жизнь — вещь нешуточная; факты неумолимы; и путь к той обетованной стране, где гаснут лучезарнейшие мечты и утлые челны гибнут во мгле (мистер Рэмзи распрямился и маленькими сощуренными голубыми глазами обшаривал горизонт), путь этот прежде всего требует мужества, правдолюбия, выдержки» [56]. (Во французском варианте предложение в скобках имеет несколько иную структуру, чем в русском: «Mr Ramsay se redressait etfixait l’horizon», то есть «мистер Рэмзи распрямился и уставился вдаль». Бурдьё подчёркивает выражения распрямиться (se dressait) и уставиться (fixait), акцентируя таким образом, что в описании персонажа используются понятия основной схемы деления на мужское и женское. — И это чувство только усиливается, когда мы узнаем, что непреклонный отец, только что одной неумолимой фразой похоронивший мечты своего сына, оказывается замечен играющим, как ребёнок, и таким образом выдаёт фантазмы libido academica, метафорически выражающиеся в военных играх [57]. Процитируем целиком отрывок о мечтах мистера Рэмзи, в которых воспоминания о военных приключениях, об атаке в долине смерти, о проигранной битве и героизме полководца («Но нет, он не намерен умирать лёжа; он найдёт выступ в скале и там, вглядываясь в бурю, не сдаваясь, прорываясь сквозь тьму, он встретит смерть стоя») смешиваются с беспокойным воспоминанием о посмертной судьбе философа («Единственный в поколении [достигает последней буквы алфавита]», «Никогда ему не добраться до Р»): «Да сколько же человек из тысячи миллионов достигали последней буквы? Разумеется, предводитель обречённой надежды может задать себе этот вопрос и ответить, не подводя соратников-землепроходцев: «Наверно, единственный». Единственный в поколении. Так можно ли его упрекать, что он — не этот единственный? Если он честно трудился, отдавая все силы, покамест стало уже нечего отдавать? Ну, а славы его — надолго ли станет? Даже умирающему герою позволительно перед смертью подумать о том, что о нём скажет потомство. Слава может держаться две тысячи лет. И кто упрекнёт предводителя обречённой кучки, которая всё же вскарабкалась достаточно высоко и видит пустыни лет, угасание звёзд, кто его упрекнёт, если, покуда смерть не сковала совсем его члены, он не без умысла поднимает онемелые пальцы ко лбу, расправляет плечи, чтобы, когда подоспеют спасатели, его нашли мёртвого на посту безупречным солдатом! Мистер Рэмзи широко развернул плечи и очень прямо стоял возле урны. Кто упрекнёт его, если, стоя вот так подле урны, он размечтался на миг о спасателях, славе, мавзолее, который возведут над его костями благодарные продолжатели! Кто, наконец, упрекнёт вождя безнадёжной экспедиции, если» [58]. Техника наплыва, любимая Вирджинией Вулф, здесь просто превосходна: военные приключения и освящающая их слава выступают метафорой интеллектуальных приключений и символического капитала известности, к которому стремится интеллектуальная работа. Это игровое illusio позволяет воспроизвести на более высоком уровне условности, то есть с меньшими усилиями, illusio повседневного существования с его жизненными ставками и эмоциональными инвестициями — всё то, что подстёгивает дискуссии мистера Рэмзи и его учеников. Это же illusio позволяет частичный и контролируемый выход из игры, который необходим, чтобы принять и преодолеть разочарование («Он не гений; он на это не посягает» [59]), полностью сохраняя фундаментальное illusio, то есть инвестиции в саму игру; убеждение, что игра стоит того, чтобы в неё играли несмотря ни на что, до конца и по правилам (поскольку, в конце концов, даже рядовой может всегда «встретить смерть стоя»). Эта исключительно внутренняя захваченность, выражающаяся преимущественно в положениях тела, реализуется в позах, манерах и жестах, содержащих такие характеристики, как прямолинейность, правота, напряжение тела или в их символических субститутах: пирамида, статуя. Illusio, конституирующее мужественность, лежит в основании всех форм libido dominandi, то есть всех специфических форм illusio, формирующихся в разных полях. Именно это первоначальное illusio приводит к тому, что мужчины (в отличие от женщин) так социально устроены, что, как дети, постоянно увлекаются социально предписанными играми, высшей формой которых является война. Оказавшись захваченным врасплох в своих настороженных мечтаниях, раскрывающих детскую тщетность его самых глубоких привязанностей, мистер Рэмзи вдруг открывает для себя, что игры, которым он, как и другие мужчины, всецело отдаётся, всего лишь детские игры. Мы не видим их в истинном свете лишь потому, что именно коллективный сговор приписывает им необходимость и реальность, очевидность которой разделяется всеми. Поскольку среди игр, конституирующих социальный мир, игры, признаваемые серьёзными, закреплены за мужчинами, в то время как женщинам уготованы дети и «детские» проблемы [60], мы забываем, что мужчина — это тоже ребёнок, играющий в мужчину. В основе этой специфической привилегии лежит родовое отчуждение: мужчина обладает монополией на господство, потому что он приучен узнавать социальные игры и ставки, где разыгрывается господство. Именно потому, что он очень рано определён как доминирующий, особенно ритуалами назначения, и на этом основании наделён libido dominandi, он обладает двойной привилегией посвящать себя играм в господство, которые именно для него и предназначены. Прозорливость исключённыхЖенщины обладают привилегией (совершенно негативной) не поддаваться соблазну играть там, где борются за привилегии, и быть свободными от увлечённости игрой, по крайней мере лично. Они могут даже воспринимать это как тщетное занятие и до тех пор, пока не окажутся вовлечёнными в неё «по доверенности», взирать с ироничной снисходительностью на отчаянные усилия «мужчины-ребёнка» быть мужчиной и на разочарование, в которое его повергают неудачи. По отношению к самым серьёзным играм они могут занять позицию зрителя, наблюдающего бурю с берега, за что их могут считать легкомысленными и неспособными интересоваться серьёзными вещами, например политикой. Поскольку эта дистанция является результатом их доминируемого положения, то чаще всего они обречены участвовать в этих играх «по доверенности», в виде эмоциональной солидарности с игроком, что не означает настоящего интеллектуального и эмоционального участия в игре. Поэтому часто они являются преданными, но плохо информированными о реальности игры и её ставках сторонниками [61]. Именно в силу этого миссис Рэмзи моментально понимает всю неловкость ситуации, в которой оказался её муж, декламируя в полный голос «Атаку бригады лёгкой кавалерии». Она боится, что та смешная ситуация, в которой его застигли, вызовет у него страдание. Но ещё больше её страшит страдание, лежащее в основе его странного поведения, действительные причины которого она сразу понимает. Все его поведение говорит об этом, когда обиженный и, таким образом, сведённый к своей истинной позиции большого ребёнка, жестокий отец, который только что ради собственного (компенсаторного) удовольствия «огорчил сына и выставил в глупом свете жену», приходит просить сочувствия к миссис Рэмзи: «Она гладила Джеймса по голове; перенеся на него своё отношение к мужу» [62]. Благодаря одному из переносов, допускаемых практической логикой, миссис Рэмзи, в виде любящего защитного жеста, к которому её предназначает и готовит вся её социальная природа [63], отождествляет будущего мужчину, только что открывшего для себя невыносимую негативность реального, и уже ставшего мужчину, согласного поведать первому всю истину с виду преувеличенного замешательства, в которое его повергает его «разгром» [64]. Даже заботясь о том, чтобы скрыть свою прозорливость, чтобы защитить честь своего мужа, миссис Рэмзи превосходно знает, что безжалостно вынесенный вердикт происходит от жалкого существа, которое, также являясь жертвой неумолимых решений, само заслуживает жалости [65]. Но, возможно, она не устоит перед стратегией несчастного мужчины, которому гарантировано, что, становясь ребёнком, он разбудит диспозиции материнского сочувствия, предписанные женщинам согласно социальным правилам игры. Здесь нужно было бы процитировать весь необыкновенный диалог намёков, в котором миссис Рэмзи всё время щадит своего мужа, с самого начала создавая видимость, что только заботится о бытовых вещах, вместо того, чтобы указать, например, на то, что гнев мистера Рэмзи не соответствует декларируемой причине этого гнева. Каждая с виду невинная фраза двух говорящих затрагивает более важные и глубокие смыслы, и каждый их двух соперников-партнёров это знает, поскольку глубоко и почти абсолютно знает своего собеседника, что позволяет при минимальном наличии недобрых намерений затеять с ним Откуда у миссис Рэмзи её необычайная проницательность, та, например, что позволяет ей «обводя всех сидящих вокруг стола» высвечивать «без труда их мысли и чувства» [67], когда она слушает одну из мужских дискуссий о таких бесполезно серьёзных предметах, как квадратный или кубический корень, Вольтер или мадам де Сталь, характер Наполеона или французская система земельной аренды? Являясь чужой в этих мужских играх, в этом неудержимом восхвалении себя и социальных устремлений, навязываемых ими, она видит, что такие, казалось бы, безупречно чистые и наиболее страстные позиции, как «за» или «против» Вальтера Скотта, часто основаны всего лишь на желании «постоять за себя» (вновь одно из основных движений тела, близкое к понятию «противостоять» у кабилов), по примеру Тэнсли, ещё одному воплощению мужского самолюбия: «И так будет вечно, пока он не сделается профессором, не подыщет жену, когда уж не нужно будет твердить без конца «Я, я, я». Вот к чему его недовольство бедным сэром Вальтером (или это Джейн Остин?) и сводится. «Я, я, я». Он думает о себе, о том, какое впечатление он производит, она все понимала по его голосу, по взвинченности, запальчивости. Ему пойдёт на пользу успех» [68]. Указание на чудовищное отчуждение, встроенное в это доминирование, можно найти Основанием этих любящих диспозиций является статус, приписываемый женщине в разделении труда по доминированию, представляемый И. Кантом на ложно описательном языке, который на самом деле является теоретической моралью, переодетой в науку о нравах: «Женщины, так как их полу не пристало идти на войну, не могут лично отстаивать в суде свои права и самостоятельно вести гражданские дела, а могут это только через своего представителя. И эта основанная на законах недееспособность в общественных делах делает женщину более влиятельной в делах домашнего обихода, так как здесь вступает право более слабого, уважать и защищать которое мужчина считает себя призванным самой своей природой» [72]. Отречение и послушность, приписываемые Кантом женской природе, тщательно встроены в самые глубокие диспозиции, конституирующие габитус, эту вторую природу, которая никогда не выглядит столь естественной и инстинктивной, как в случае, когда социально определённое libido реализуется в специфической форме желания, в обычном значении слова libido. Дифференциальная социализация, настраивающая мужчин любить игры власти, а женщин — любить мужчин, которые в них играют, — мужская харизма есть отчасти очарование властью, обольщение, которое сам факт обладания властью осуществляет в отношении тел, чья сексуальность социализирована политически [73]. В силу того, что социализация вписывает политические диспозиции в диспозиции тела, то сам сексуальный опыт политически ориентирован. Мы не можем не замечать, что существует обаяние власти, стремление или любовь к сильным, искренний и наивный результат, оказываемый властью, когда она воспринимается телом, социально подготовленным её распознавать, желать и любить, то есть как харизма, шарм, изящество, блеск или как красота. Мужское господство находит одну из своих лучших опор в незнании, которому способствует применение к доминирующим категорий мышления, возникших в самом отношении доминирования (большой/маленький, сильный/слабый и тому подобное). Это незнание производит ту предельную форму amorfati, какой является любовь к доминирующему Кант прав, когда говорит, что «делать себя недееспособным, как бы это ни было унизительно, всё же очень удобно» [74]. Доминирующий всегда хорошо видит интересы доминируемых, хотя это не означает, что любое заявление об этих интересах будет им дискредитировано или отклонено. Как постоянно указывает Вирджиния Вулф, будучи исключёнными из участия в играх власти, являющихся одновременно привилегией и ловушкой, мы получаем спокойствие, возникающее благодаря безразличному отношению к игре, и безопасность, гарантированную делегированием полномочий тому, кто в этой игре участвует. Впрочем, безопасность эта довольно иллюзорна и всегда может обернуться самой ужасной бедой, поскольку мы никогда полностью не забываем о действительной слабости большого защитника, и, будучи страстным наблюдателем смертельного трюка, мы эмоционально, посредством дорогого нам человека, вовлечены в действие, не имея действительного влияния на игру [75]. Миссис Рэмзи слишком хорошо знает, что даёт делегирование полномочий божественному Отцу Женщина-объектМужской габитус конструируется и реализуется только через отношение с закреплёнными пространствами, где между мужчинами играются серьёзные игры компетенции. Это могут быть игры чести, предельным случаем которых является война, или, как в дифференцированных обществах, игры, предлагающие всевозможные пространства для различных форм libido dominandi: экономического, политического, религиозного, художественного, научного. Поскольку женщины юридически и фактически исключены из этих игр, им отводится роль зрительниц, или, как говорит Вирджиния Вулф, льстивого зеркала, предлагающего мужчине увеличенный образ его самого, на который он должен и хочет равняться, и усиливающего его нарциссические инвестиции в идеализированный образ самого себя [76]. Женское подчинение обращается (или кажется, что обращается) к некоторой личности в её неповторимости, вплоть до Таким образом, женщины буквально поставлены вне игры [77]. Волшебная граница, что отделяет их от мужчин, совпадает с «мистической демаркационной линией», о которой говорит Вирджиния Вулф. Эта линия разделяет культуру и природу, публичное и частное, предоставляя мужчинам монополию на культуру, то есть на универсальное и человеческое. Поскольку женщины помещены на полюсе частного, то есть исключены из публичных и официальных форм действия, они не могут участвовать как субъекты, то есть от первого лица, в играх, где утверждается и осуществляется мужественность. Мужественность реализуется в виде актов взаимного признания, подразумевающего изотимимные обмены, то есть обмены вызовами и ответами, дарами и ответными дарами, Основанием этого первоначального исключения (которое ратифицируется и усиливается мифоритуальной системой вплоть до того, чтобы сделать из него принцип деления всего универсума) является фундаментальная асимметрия, устанавливающаяся между мужчиной и женщиной в области символического обмена, то есть отношение субъекта и объекта, агента и инструмента. Поле отношений производства и воспроизводства символического капитала, парадигматическим примером которого является матримониальный рынок, опирается на своего рода первоначальный переворот, приводящий к тому, что женщины не могут на нём появиться иначе как в виде объекта или символа. Смысл этого символа формируется вне данного поля, а его функция заключается в том, чтобы способствовать продолжению или увеличению символического капитала, которым обладают мужчины. Решение вопроса об основаниях деления между полами и мужского доминирования состоит в следующем. В логике экономики символических обменов, точнее, в социальном конструировании отношений родства и брака, которое универсально приписывает женщинам социальный статус объектов обмена, определённых согласно интересам мужчин (то есть преимущественно как сестры и дочери), и, таким образом, предназначенных для воспроизводства символического капитала мужчин, кроется объяснение признаваемого во всех культурных таксоно-миях примата мужественности. Запрет на инцест (в котором К. Леви-Строс видит начало общества) как императив обмена, понимаемого в логике равной коммуникации между людьми, в действительности есть обратная сторона первоначального акта символического насилия. Посредством этого акта женщины не воспринимаются как субъекты брака и обмена, осуществляемого при их посредничестве, но сведены к состоянию объекта: женщины рассматриваются как символические инструменты, которые, циркулируя и заставляя циркулировать социально значимые знаки, основанные на общественном доверии, производят и воспроизводят символический капитал, а также, объединяя и поддерживая отношения между агентами, производят и воспроизводят социальный капитал. Поразительно, что важные ритуалы назначения, посредством которых группы приписывают определённую идентичность, часто содержащуюся в имени, почти всегда несут в себе закрепление магического различия между полами (в рамках этой же логики стоит понимать изменение имени, почти всегда навязываемое женщине при вступлении в брак). Это выполняется, идёт ли речь о коллективных и публичных церемониях, направленных на присвоение имени собственного (например, крещение), то есть титула, дающего право на символический капитал группы и заставляющего уважать некоторый набор обязательств, связанных с увеличением и сохранением этого капитала, или, шире, о любых официальных актах номинации, осуществляемых легитимными держателями бюрократической власти. Навязанное женщинам исключение будет самым грубым и строгим, если единственной формой настоящего накопления является накопление символического капитала. Примером этого может служить Кабилия, где существование социальной чести, то есть ценности, общественно признаваемой за той или иной группой в виде коллективного суждения, выносимого в соответствии с фундаментальными категориями общего видения мира, зависит от способности группы заключать браки, обеспечивающие социальный и символический капитал. С этой точки зрения, женщины не только знаки, но и ценности, которые нужно оберегать от оскорблений и подозрений и которые в процессе обмена могут создавать связи, то есть социальный капитал, и престижных союзников, то есть символический капитал. Ценность этих браков, то есть символическая прибыль, которую они могут дать, в значительной мере зависит от символической ценности женщин, имеющихся для обмена. Они несут в себе потенциальные символические барыши, поэтому дело чести братьев или отцов, доходящее до бдительности, столь же ревнивой, и даже параноидальной, что Поскольку основанием и социальными условиями воспроизводства мужского господства является относительно автономная логика обменов, посредством которых обеспечивается воспроизводство символического капитала, постольку оно может сохраняться, несмотря на изменение способов экономического производства. Например, промышленная революция относительно слабо повлияла на традиционную структуру разделения труда между полами [78]. Тот факт, что даже сегодня семьи крупной буржуазии для сохранения своей позиции в социальном пространстве сильно нуждаются — помимо экономического — ещё Главенствующая роль экономики символических благ, которая посредством фундаментального принципа видения и деления ( Хотя практики, связанные с биологическим и социальным воспроизводством рода, казалось бы, признаны и иногда даже сопровождаются праздничными ритуалами, они всё ещё очень сильно недооцениваются нашими обществами. Если данные практики могут быть возложены исключительно на женщин, то лишь потому, что они как будто аннулированы и остаются подчинёнными производству, которое только и достойно настоящего социального одобрения и признания. Известно, что вхождение женщин в профессиональную жизнь предоставило неопровержимые доказательства того, что домашний труд социально не признан как настоящая работа: незамечаемый или отрицаемый, в силу самой своей очевидности, домашний труд продолжал сверх того навязываться женщинам. Джоан Скотт прекрасно анализирует работу по символической трансформации, которую проделали «идеологи», даже самые явные сторонники женщин (например, Жюль Симон), чтобы интегрировать в систему представлений такую немыслимую реальность, как «работница», и чтобы не признать за этой женщиной, участвующей в публичных делах (femme publique), ту социальную ценность, которую ей должно было бы дать участие в экономической жизни. Благодаря удивительному сдвигу Симон переводит её собственную ценность и её ценности в область духовности, морали и чувств, то есть выводит из сферы экономики и власти, что позволяет лишить её работу как в общественном производстве, так Нет нужды далеко ходить, чтобы увидеть эту работу по отрицанию социального существования. Например, отказ женщинам в профессиональных амбициях. Достаточно их высказать женщине, и то, что естественным образом призналось за мужчинами — особенно во времена, когда восхвалялись ценности мужского самоутверждения, — моментально получало статус нереального посредством иронии или мягко снисходительной любезности. Даже в тех областях социального пространства, где мужские ценности доминируют меньше всего, женщины, занимающие властные позиции, тайно подозреваются в том, что это произошло благодаря интригам или сексуальной любезности (источник мужского покровительства): настолько неподобающими по статусу представляются властные позиции, что неизбежно воспринимаются как полученные нечестным путём. Отрицание и опровержение вклада, вносимого женщинами не только в экономическое производство, но Будучи социально предрасположены рассматривать себя как эстетический объект, предназначенный вызывать восхищение и желание и, как следствие — обращать постоянное внимание на всё то, что касается красоты, элегантности, эстетики тела, одежды, манер, в домашнем разделении труда женщины совершенно естественно берут на себя заботу о том, что относится к эстетике и, шире, к управлению общественным имиджем и социальным восприятием членов семейной единицы, естественно, детей, но также и мужей, которые очень часто делегируют им выбор одежды. Они принимают обязанности по украшению повседневной жизни и дома от имени щедрости и бескорыстия, которым всегда находится место, даже среди самых обездоленных. Как некогда на крестьянском огороде всегда отводился уголок под декоративные цветы, так и сегодня самые бедные квартиры рабочих кварталов имеют свои цветочные горшки, свои безделушки и свои лубочные картинки. Именно они, в конечном итоге, обеспечивают управление ритуалами и семейными торжествами, организуют приёмы, праздники, церемонии от первого причастия до свадьбы, включая празднование дней рождения и приглашение друзей), которые предназначены поддерживать социальные отношения и распространять влияние семьи. Уполномоченные управлять символическим капиталом семьи, женщины совершенно логично призваны транслировать эту роль в лоно предприятия. Оно почти всегда доверяет женщинам работу по демонстрации и представлению, встречи и приёмы, а также управление важными бюрократическими ритуалами, которые, как и семейные ритуалы, способствуют поддержанию и увеличению социального и символического капитала. Эти действия по символическому представлению, служащие для предприятия тем же, чем являются стратегии представления себя для индивидов, ради соблюдения всех приличий требуют предельного внимания к физической внешности и диспозициям соблазнения, соответствующим роли, которая чаще всего приписывается женщинам. Только в виде простого расширения их традиционной роли можно доверить женщинам функции (чаще всего подчинённые, хотя культура является почти единственной областью, где они могут занимать руководящие посты) в производстве или потреблении символических благ и услуг или, шире, знаков различения, начиная с косметических продуктов или услуг (парикмахерша, косметичка, маникюрша и тому подобное), до собственно культурных благ. Превращая экономический капитал в символический благодаря таким действиям, как украшение жилища, покупка товаров культуры (картины, мебель и так далее), управление ритуалами и церемониями, демонстрирующими социальный статус семьи, из которых самым типичным является литературный салон [82], женщины играют определяющую роль в диалектике производства и присвоения различий, выступающей двигателем всей культурной жизни. Именно с помощью женщин, или точнее, посредством чувства различия, заставляющего одних занимать дистанцию по отношению к продуктам культуры, потерявшим ценность Страсть назначения (libido d’institution)Забота об истине, особенно в областях, обречённых на мистифицирующее преображение (как это происходит с отношениями полов), заставляет говорить вещи, которые часто убивают и которые имеют все шансы быть неправильно понятыми, особенно когда кажется, что они лишь признают и повторяют доминирующий дискурс. Те, кто тесно связан с доминирующими интересами, будут воспринимать такое разоблачение как пристрастное и корыстное обвинение. При этом оно может быть отвергнутым и теми, кто выступает с критикой положения, поскольку они будут его воспринимать как ратификацию установленного порядка. Это связано с тем, что наиболее распространённый способ описывать или регистрировать события часто вызван желанием (объективным или субъективным) оправдать, а консервативный дискурс часто подаёт свои нормативные указания в виде констатации положения дел [86]. Научное знание политической реальности с необходимостью имеет политические последствия, которые, правда, могут иметь разную направленность. Изучение форм господства, в данном случае мужского, может привести к усилению этого господства, особенно в той мере, в какой доминирующие могут его использовать, чтобы в некотором смысле «рационализировать» механизмы, способствующие его существованию. Но оно может и помешать ему, как разглашение государственной тайны, поскольку создаёт условия для осознания ситуации и мобилизации тех, кто является жертвами данного порядка. Чтобы создать реальные условия для становления «школы-освободительницы», как говорили раньше, а не для воспроизводства школы, консервирующей сложившееся положение вещей, в своё время понадобилось раскрыть, что на деле школа была консервативной. Подобно этому, сегодня надо пойти на риск кажущегося «оправдания» актуального положения женщин, чтобы показать, в чём и как женщины, такие, какие они есть (то есть такие, какими их сделал социальный мир), могут способствовать воспроизводству своего собственного подчинённого положения. Известны опасности, которым неизбежно подвергается любой научный проект, определяемый по отношению к предконструированному объекту, особенно когда речь идёт о доминируемой группе, то есть о «деле», которое, казалось бы, заменяет любое эпистемологическое оправдание и освобождает от собственно научной работы по конструированию объекта. Различные women’s studies, black studies, gay studies, занявшие сегодня место популистских исследований «народных классов», бесспорно, предрасположены к наивности «добрых чувств». (Women’s studies — англ. — женские исследования; black studies — англ. — «чёрные исследования», то есть исследования, посвящённые жизни и культуре народов Африки; gay studies — англ. — гомосексуальные исследования. — Эта наивность с необходимостью не исключает хорошо понятого интереса выгоды, связанной с «добрыми делами», которые освобождают подобные исследования от оправдания их собственного существования. Тот, кто владеет данными прибылями, получает научном гетто. Просто перевести социальную проблему, поставленную доминируемой группой, в проблему социологическую — это значит сразу лишиться того, что составляет саму реальность объекта, это значит поставить на место социального отношения доминирования понятия «субстанция», «сущность» или «мышление-в-себе-и-для-себя» (что уже произошло с men’s studies). Это также означает обречь себя на изоляционизм, имеющий пагубные последствия, когда, например, некоторые образцы «активистской» продукции снабжают основательниц феминистских движений «открытиями», являющимися частью самых старых и давно признанных достижений социальных наук (как тот факт, что различия между полами есть натурализованные социальные различия). Речь не идёт о том, чтобы во имя утопической Wertfreiheit исключить из науки индивидуальную и коллективную мотивацию, приводящую к политической и интеллектуальной мобилизации, и именно отсутствие которой хорошо объясняет относительную слабость men’s studies. Тем не менее, самое лучшее из политических движений обречено на плохую науку и, в конечном итоге, на плохую политику, если оно не сумеет конвертировать свои разрушительные импульсы в критическое вдохновение Лишь коллективное действие, направленное на организацию символической борьбы, способной поставить под вопрос практически все предпосылки фаллонарциссического видения мира, может внести разлад в почти непосредственную согласованность инкорпорированных и объективированных структур. Именно эта символическая борьба является условием действительной коллективной конверсии ментальных структур, не только для представителей доминируемого пола, а также и для представителей пола доминирующего, которые могут способствовать освобождению, только освободясь от западни привилегий. Блеск и нищета мужчины, в смысле vir, состоит в том, что его libido формируется обществом как libido dominandi, как желание господствовать над другими мужчинами, и уже во вторую очередь — над женщинами, которые понимаются как инструменты символической борьбы. Символическая борьба управляет миром. Все социальные игры, от борьбы за честь кабильских крестьян до научного, философского или художественного соперничества мистеров рэмзи всех стран и времён, включая и войну, представляющую собой предельный случай всех возможных игр, устроены так, что мужчина не может в неё войти, не поддавшись желанию играть, то есть желанию победить или, по крайней мере, быть на высоте идеи и идеала игрока, требуемых игрой. Это libido назначения, принимающее форму Часто не замечают, что в силу того, что женщины, полностью исключённые из больших мужских игр и социального либидо, которое там формируется, часто склонны к представлению, близкому к безучастности, проповедуемой всеми мудрецами. Но данная безучастная точка зрения, позволяющая им, по крайней мере, в виде редких вспышек озарения, понимать иллюзорный характер illusio и его ставок, имеет мало шансов противостоять согласию, которое навязывается им, особенно когда они отождествляют себя с делом мужчин. И война против войны, предложенная Лисистратой Аристофана, в которой женщины производят разрыв между обычно объединяемыми libido dominandi (или dominantis) и просто libido, является столь откровенно утопичной программой, что достойна служить только поводом для комедии. Мы не стали бы недооценивать значение символической революции, направленной на разрушение в реальности Не стоит ожидать от простого социоанализа (пусть даже коллективного) и от общего осознания положения вещей какого-либо длительного изменения ментальных диспозиций и реальной трансформации социальных структур, до тех пор пока женщины продолжают занимать в производстве и воспроизводстве символического капитала приниженную позицию, являющуюся действительным основанием низкого статуса, приписываемого им символической системой, а посредством этого — всей социальной организацией. Предварительным условием освобождения женщин является настоящий коллективный контроль над социальными механизмами господства, заставляющими воспринимать культуру, то есть аскезу и сублимацию, в которой и посредством которой формируется человечество, исключительно как социальное различие, устанавливаемое в противоположность тому, что понимается как природа, которая в действительности есть не что иное, как натурализованная судьба доминируемых групп (женщин, бедных, колонизированных, наций-изгоев и тому подобное). Очевидно, что, не будучи всегда и полностью связанными с природой, служащей фоном для всех культурных игр, женщины входят в диалектику производства и присвоения различий скорее как объекты, несли субъекты действия. | ||||||||||||||||||||||||||
Примечания | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phrasikleia: anthropologie de la lecture en Grece ancienne. Paris: La Decouverte, 1988. | ||||||||||||||||||||||||||