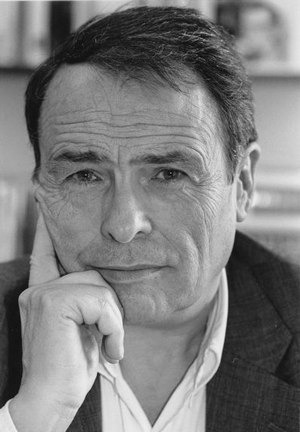 Работа французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
Как писал Вильгельм фон Гумбольдт, «человек постигает предметы преимущественно или даже исключительно — ибо его чувства и поступки основываются на восприятии — такими, какими они ему явлены в языке. Разматывая в нити языка своё бытие, сам он всё больше в него впутывается. Так, всякий язык очерчивает магический круг вокруг народа, им владеющего; круг, из которого можно вырваться, лишь перепрыгнув в другой» [1]. Эта теория языка как средства познания, распространённая Кассирером на все «символические формы» и, в частности, на символику ритуала и мифа, иначе говоря — на религию, мыслимую как язык, применима также к теориям, особенно к теориям религии как средствам конструирования научных фактов. Создаётся впечатление, будто умолчание вопросов и принципов, лежащих в основе остальных способов описания религиозных фактов, является одним из имплицитных условий существования каждой из основных теорий религии (которые, как мы увидим дальше, все могут быть сведены к трём позициям, символизируемым именами Маркса, Вебера и Дюркгейма). Чтобы выйти из одного или другого магического круга, не попадая просто в третий и не обрекая себя на бесконечный переход из одного в другой, иными словами, чтобы получить возможность объединить в связную систему, которая не была бы ни школярской компиляцией, ни эклектичным сплавом, то ценное, что внесли в науку различные частичные и взаимоисключающие теории до сих пор непревзойдённые, как остаются непреодолёнными и противоречия между ними), нужно попытаться встать на геометрическую точку, в которой сходятся все перспективы, то есть в точку, которая открывает взгляду одновременно всё то, что может и не может быть увидено с каждой отдельной точки зрения. Первая традиция рассматривает религию как язык, то есть как средство коммуникации и одновременно как средство познания или, говоря точнее, структурированный (а значит, подлежащий структурному анализу) Вследствие того, что фундаментальный вклад дюркгеймовской школы длительное время умалчивался цензурой спиритуалистической благочинности и «хорошего тона» интеллектуалов, сегодня он не может появиться в изысканной дискуссии иначе, как в более приемлемом обличье соссюровской лингвистики [7]. Это происходит ещё и потому, что наиболее весомый вклад структурализма заключался именно в том, чтобы предоставить теоретические и методологические инструменты, позволяющие реализовать на практике намерение раскрыть имманентную логику мифа или ритуала. Хотя оно присутствует уже в философии мифологии [Philosophic der Mythologie] Шеллинга, отстаивавшего «схематическую» [«tautegorique»] — в противоположность «аллегорической» — интерпретацию мифа, это намерение так и осталось бы благим пожеланием, если бы благодаря структурной лингвистике интерес к мифу как структурированной структуре не возобладал над интересом к мифу в качестве структурирующей структуры, иными словами — в качестве принципа структурирования мира (или «символической формы», «примитивной формы классификации», «менталитета»). Мы намерены временно оставить в стороне вопрос об экономических и социальных функциях мифических, ритуальных или религиозных систем, поскольку они, требуя «аллегорической» интерпретации, затрудняют применение структурного метода. Тем не менее, нужно признать, что такая методологическая установка становится всё более стерильной и опасной по мере того, как мы удаляемся от символической продукции наименее дифференцированных обществ или от наименее дифференцированной символической продукции (как, к примеру, язык, являющийся продуктом анонимной и коллективной работы многих поколений) обществ, разделённых на классы8. Продолжая по инерции использовать метод, который нашёл наиболее строгое и плодотворное применение в области «мифологии» и фонологии, семиология по умолчанию рассматривает все символические системы как простые инструменты коммуникации и познания (строго говоря, этот постулат верен лишь применительно к фонологическому уровню языка), не задумываясь о социальных условиях, лежащих в основе этой методологической привилегии. Вследствие этого она не может избежать обращения по любому поводу к теории консенсуса, вытекающей из примата вопроса о смысле и определённо сформулированной Дюркгеймом в виде теории логической и социальной интеграции как функции «коллективных представлений» и, в частности, религиозных «форм классификации». По причине того, что в основе структуры любых символических систем, к примеру религии, всегда заложен принцип деления, они способны упорядочивать природный и социальный мир не иначе как путём их разбиения на антагонистические классы — одним словом, они порождают смысл и консенсус о смысле с помощью логики включения и исключения. В силу своей структуры они предрасположены осуществлять функции одновременно включения и исключения, соединения [satiation] и разъединения, единства и деления. Эти «социальные функции» (в дюркгеймовском или «структурно-функциональном смысле» слова) имеют тенденцию перерождаться в политические по мере того, как логическая функция упорядочения мира, которую миф выполнял социально недифференцированным образом, производя в универсуме вещей систематический и вместе с тем произвольный диакризис (греч. diakrisis — способность и/или результат различения), всё больше подчиняется социально дифференцированным функциям социальной дифференциации и легитимации различий; иначе говоря, по мере того как классификации, производимые религиозной идеологией, постепенно покрывают собой (в двойном смысле слова) социальные деления на конкурирующие или противодействующие группы и классы. Идея, что такие символические системы, как религия, искусство или даже язык, могут иметь отношение к власти Так, различные «аллегорические» (или внешние) интерпретации мифа, будь то астрономические, метеорологические, психологические, психоаналитические или даже социологические (например, объяснение мифа через его универсальные, но лишённые содержания функции, как у Малиновского, или даже через его социальные функции), придавали ему видимость вразумительности, которая препятствовала «схематической» или структурной интерпретации как минимум не меньше, чем ощущение бессвязности и абсурдности, предрасполагающее видеть в этом дискурсе, кажущемся произвольным, лишь проявление Urdummheit, или «примитивной глупости», либо, в лучшем случае, простейшую форму философской спекуляции, то есть, говоря словами Платона, «деревенскую науку». Создаётся впечатление, что Леви-Строс первым смог пройти по другую сторону зеркала «слишком простых» объяснений, представляющих собой наивные проекции, именно ценой радикального, то есть преувеличенного, сомнения в отношении любого внешнего прочтения, которое приводит его к отрицанию самого принципа взаимосвязанности структур символических систем и социальных структур: «Психоаналитики, как и некоторые этнологи, хотят заменить космологическую и натуралистскую интерпретации объяснениями, заимствованными из социологии и психологии. В таком случае всё становится слишком уж просто. Пусть в некой системе мифов отводится важное место какому-либо персонажу, скажем, очень недоброжелательной бабке; тогда нам объяснят, что в Точно так же, заявляя с самого начала, что магические или религиозные действия являются в своей основе внутри-мирскими (diesseitig) и что их нужно выполнять, «чтобы прожить долго» [11], Макс Вебер мешает себе увидеть сущность религии такой, как её понимает Леви-Строс, то есть как продукт «интеллектуальных операций» (в противоположность «аффективным» или практическим), и задаться вопросом о собственно логических и гносеологических функциях того, что он рассматривает как почти исчерпывающую совокупность ответов на многие экзистенциальные вопросы. Но Таким образом, в основу относительной автономии, которой наделяет религию, не сделав из этого всех должных выводов, марксистская теория [12], Вебер кладёт исторический генезис корпуса специализированных агентов. Благодаря этому ему удаётся обнаружить сердцевину системы производства религиозной идеологии, то есть наиболее характерный (но не главный) принцип идеологической алхимии, посредством которой происходит преображение социальных отношений в сверхъестественные, и, следовательно, вписанные в порядок вещей, а потому оправданные. Теперь, чтобы выявить общий корень обеих частичных и взаимоисключающих традиций, достаточно переформулировать дюркгеймовский вопрос о «социальных функциях» религии для общества в целом в форме вопроса о политических функциях, которые она способна выполнять для различных классов определённой социальной формации благодаря своей собственно символической эффективности. Принимая всерьёз дюркгеймовскую гипотезу социального генезиса схем мышления, восприятия, оценки и действия и одновременно факт деления общества на классы, мы с необходимостью придём к той мысли, что между социальными (то есть властными) и ментальными структурами существует соответствие, которое устанавливается посредством структуры символических систем — языка, религии, искусства и так далее. Точнее, мы увидим, что религия способствует (скрытому) утверждению тех или иных принципов структурирования восприятия и понимания мира — в частности, социального, навязывая систему практик и представлений, чья структура, объективно основанная на принципе политического разделения, предстаёт как естественная-сверхъестественная структура космоса. 1. Развитие разделения религиозного труда, процесс морализации и систематизации религиозных практик и верований1.1Технологические, экономические и социальные изменения, связанные с рождением и развитием города и, в частности, с разделением интеллектуального и физического труда, составляют общую предпосылку двух процессов, которые могут осуществляться лишь в отношении взаимозависимости и взаимного усиления: образование относительно автономного поля религии и возникновение нужды в «морализации» и «систематизации» религиозных верований и практик. Рождение и рост основных мировых религий связаны с появлением и развитием города. Противостояние между городом и деревней ознаменовало фундаментальный разрыв в истории религии, как и одно из наиболее важных для каждого общества религиозных разделений, затронутых этой морфологической оппозицией. Отмечая, что «основное разделение труда на материальный и духовный является результатом отделения города от деревни», Маркс писал в «Немецкой идеологии»: «Разделение труда становится действительным разделением лишь с того момента, когда появляется разделение материального и интеллектуального труда. С этого момента сознание может действительно вообразить себе, что оно нечто иное, чем осознание существующей практики, что оно может действительно представлять себе Напротив, экономические и социальные изменения, коррелирующие с урбанизацией, — развитие торговли и особенно ремёсел, то есть профессиональной деятельности, более-менее не зависящей от случайностей природы и потому относительно рациональной и рационализируемой, или развитие интеллектуального и духовного индивидуализма, связанное с появлением всё большего числа индивидов, вырвавшихся из обволакивающих традиций старых социальных структур, — могут лишь способствовать «рационализации» и «морализации» религиозных потребностей. По замечанию Вебера, «экономическое существование буржуазии построено на более непрерывной (в сравнении с сезонным характером сельскохозяйственного труда) и более рациональной по меньшей мере, в эмпирическом плане) работе. Это позволяет, главным образом, предвидеть и «осмысливать» отношение между целью, средствами и успехом или неудачей». По мере того как исчезает «непосредственная связь с жизнеобразующей и витальной реальностью природных стихий», «эти стихии перестают быть доступными непосредственному пониманию и превращаются в проблемы», и возникает «рационалистический вопрос о «смысле жизни», в то время как религиозный опыт очищается и прямые отношения с клиентом привносят в религиозность ремесленника нравственные ценности [16]. Но наибольшая заслуга Макса Вебера заключалась в том, что он показал, что урбанизация (и сопутствующие ей преобразования) способствует «рационализации» и «морализации» религии лишь постольку, поскольку она благоприятствует развитию корпуса специалистов, распоряжающихся ценностями спасения. «Процессы «интериоризации» и «рационализации» религиозных феноменов и, в частности, появление нравственных критериев и императивов, превращение богов в этические силы, поощряющие и вознаграждающие «добро» и наказывающие «зло», обеспечивая тем самым сохранность нравственных устремлений, и, наконец, культивация чувства «греха» и жажды «спасения» — все эти черты усиливались параллельно с совершенствованием индустриального труда и, по большей части, в прямой связи с развитием города [17]. Однако было бы неверно говорить об однозначном отношении зависимости между этими двумя процессами: рационализация религии обладает собственной нормативностью, для которой экономические условия могут выступать лишь как «общие пути развития» (Entwicklungswege) и которая связана, прежде всего, с формированием специфического священнического сословия». (Иерократия — государственный строй, при котором высшая власть принадлежит духовенству, организованному в соответствии со строгой внутренней иерархией. — Это произошло благодаря тому, что в отличие от средиземноморского полиса, не произведшего рационализированной религии Евреи, которым вследствие усложнения политической обстановки оставалось уповать лишь на соблюдение божьих заповедей в вопросе улучшения своей будущей судьбы, постепенно пришли к признанию недостаточности различных традиционных форм культа и, в частности, оракулов, дающих двусмысленные и загадочные ответы. Исходя из чего возникла потребность в более рациональных методах, позволяющих узнать божественную волю, 1.2Процесс, ведущий к образованию инстанций, специально предназначенных для производства, воспроизводства или распространения религиозных продуктов, и преобразование (относительно независимое от экономических условий) системы этих инстанций в более сложную и дифференцированную структуру, то есть в относительно автономное поле религии, сопровождаются процессом систематизации и морализации религиозных практик и представлений. Этот процесс ведёт от мифа как объективно целостной [квази]системы к религиозной идеологии как чётко упорядоченной [квази]системе и, параллельно с этим, от табу и магической контаминации — к греху, или от маны, от «иррационального» [«numineux»], от Бога карающего, своевольного и непредсказуемого — к Богу доброму и справедливому, защитнику и хранителю природного и общественного порядка. Развитие настоящего монотеизма, крайне редко встречающегося в первобытных обществах (в отличие от «монокульта», представляющего собой по сути разновидность политеизма), связано, по мнению Пола Радина, с появлением хорошо организованного жречества [19]. Это означает, что монотеизм, совершенно неизвестный обществам, чья экономика базируется на собирательстве, охоте и/или рыбалке, встречается исключительно в доминирующих классах обществ, характеризующихся более развитым сельским хозяйством, делением на классы (как, например, некоторые западно-африканские общества, полинезийцы, индейцы Дакота и Виннебаго), где дальнейшее разделение труда сопровождается соответствующим разделением светской и особенно духовной власти. Попытки представить этот процесс систематизации и морализации как прямое и непосредственное следствие экономических и социальных изменений связаны с незнанием того, что их собственное действие ограничивается созданием предпосылок — путём двойного отрицания, то есть путём отмены негативных экономических условий развития мифа — для постепенного формирования относительно автономного поля религии, предполагающего совпадение усилий священнослужителей (несмотря на внутреннюю конкуренцию) и «экстрасвященнических сил», иначе говоря — религиозных потребностей некоторых категорий мирян и метафизических или этических откровений пророка [20]. Существенным следствием процесса морализации таких понятий, как ate, time, aidos, phtonos и тому подобные, стал «перенос понятия чистоты из области магического в категорию морали», то есть превращение вины как пятна (miasma) в «грех». Чтобы полностью осмыслить этот процесс, необходимо принять во внимание, помимо сопутствующих ему трансформаций экономических и социальных структур, изменения в структуре отношений символического производства, которые к V веку привели к образованию настоящего интеллектуального поля в Афинах. Жречество становится участником процесса рационализации религии: законность своего положения оно основывает на (С древнегреч.: ate — стыд, time — честь, почёт, aidos — совесть, достоинство, phtonos — зависть, недоброжелательство.) теологии, которая приобретает статус догмы, незыблемой и вечной. К практике экзегезы его вынуждает соположение или столкновение различных мифоритуальных традиций, отныне помещённых в одно и то же пространство города, и, кроме того, необходимость придания потускневшим ритуалам и мифам нового смысла, который бы лучше согласовался с этическими нормами Эти новые толкования стремятся заменить объективную цельность мифологий интенциональной связностью теологических, если не философских, построений, тем самым подготавливая почву для превращения синкретической аналогии, лежащей в основе магическо-мифической мысли, в рациональную и осознанную аналогию своих принципов или даже в силлогизм [21]. Другим выражением автономии поля религии является тенденция специалистов замыкаться на самореферентной сумме религиозного знания и на эзотеризме квазикумулятивной продукции, адресующейся, в первую очередь, самим производителям [22]. Отсюда типично священнический вкус к нестрогой имитации и озадачивающей неточности, намеренной полиномии и двусмысленности, систематической неясности и метафоре — в общем, ко всей этой словесной игре, которую можно обнаружить в любой книжной традиции 1.3Формирование поля религии является результатом монополизации корпорацией специализированных служителей культа права сношения со сверхчувственным миром. Эти служители получают социальное признание в качестве эксклюзивных носителей специфической компетенции, необходимой для производства и воспроизводства специально организованной совокупности тайных (а значит, редких) знаний, что объективно связано с исключением из этого пространства всех тех, кто наделяется статусом мирянина (или профана, в двойном смысле слова), лишённого религиозного капитала (как итога символической работы) и признающего законность этой экспроприации, поскольку не замечает её как таковую. Объективная экспроприация означает не что иное, как объективное отношение, складывающееся между новым типом ценностей спасения, возникшим в результате разъединения материальной и символической деятельности, а также в результате углубления в разделении религиозного труда, и группами или классами, занимающими низшее положение в структуре распределения религиозных благ. Данная структура, в свою очередь, накладывается на структуру распределения средств религиозного производства, то есть религиозной компетенции или, в терминологии Макса Вебера, «квалификации». Объективная экспроприация не обязательно подразумевает духовную «пауперизацию», иначе говоря — процесс, целью которого являлось бы накопление и концентрация в руках некоторой группы религиозного капитала, до тех пор более равномерно распределённого среди всех членов общества [24]. Однако, даже если данный капитал (как его содержание, так и распределение) может довольно длительное время оставаться неизменным, постепенно обесцениваясь в своём взаимодействии с новыми формами капитала, это обесценивание способно рано или поздно повлечь за собой истощение традиционного капитала и тем самым духовную «пауперизацию» и символическое разделение между сакральным знанием и профанным неведением, которое выражает и усиливает тайна. 1.3.1.Все общественные формации тяготеют к одному из крайних полюсов: религиозное самообеспечение, с одной стороны, 1.3.1.1.Этим двум крайним типам структуры распределения религиозного капитала соответствуют:
Этическое неприятие эволюционизма и социально с ним связанных, без какой-либо логической зависимости, расистских идеологий приводит некоторых этнологов к обратному этноцентризму, заключающемуся в том, чтобы наделять все общества, даже самые «примитивные», формами культурного капитала, которые могут появиться лишь на определённой стадии развития системы разделения труда. Так же Именно это делает Дюркгейм (однако не развивает данную мысль, поскольку у него другая цель), проводя различие между «первобытными» и «сложными» религиями, характеризующимися «теологическими столкновениями, изменчивостью ритуалов, множественностью группировок, разнообразием индивидов»: «Возьмём религии Египта, Индии или классической древности! Это запутанное переплетение многочисленных культов, меняющихся в зависимости от местности, храмов, поколений, династий, вторжений и так далее. Народные суеверия смешаны в них с самыми рафинированными догмами. Ни религиозное мышление, ни деятельность не распределены здесь равномерно в массе верующих; разными людьми, кругами, в различных обстоятельствах верования, как и обряды, воспринимаются Кроме того, стремясь сегодня отставить в сторону во имя наивно антифункционалистской идеологии проблему связи между социальной структурой и структурой мифических или религиозных представлений, они теряют возможность поставить вопрос на который могут ответить только сравнительные исследования) об отношении между степенью развития религиозного аппарата и структурой или тематикой вероучения [message]. В общем, интеллектуальная традиция самой дисциплины, относительно слабая дифференцированность структуры (даже с точки зрения религии) изучаемых ей обществ и используемый идиографический метод как бы навязывают этнологу теорию религии, которую резюмирует дюркгеймовское определение церкви, диаметрально противоположное дефиниции Макса Вебера: «Но маг для магии — то же, что священник для религии, а коллегия священнослужителей — не церковь, так же как и религиозная конгрегация, которая под сенью монастыря посвятила бы какому-нибудь святому особый культ. Церковь — это не просто жреческое братство; это нравственная община, образованная всеми верующими одной и той же веры, как её последователями, так и священнослужителями» [27]. Из этого следует, что вопреки фундаментальной амбиции Дюркгейма [28], желавшего объяснить «сложные религии» при помощи «простых», правомерность дюркгеймовского анализа религии и любого метода, рассматривающего социологию религии просто как измерение «социологии знания», неизбежно ограничена тем, что из поля зрения исследователя исчезает проблема вариативности формы и степени дифференциации производительной деятельности и непосредственно — символического производства, а также проблема вариативности функций и структуры религиозных учений [29]. Исходя из того, что мировоззрение, заключённое в основных мировых религиях, является, по верному замечанию Вебера, плодом деятельности конкретных групп (пуританских теологов, конфуцианских учёных, индийских брахманов, еврейских левитов и так далее) или даже индивидов (пророков), говорящих для определённых групп, — анализ внутренней структуры религиозного учения должен обязательно учитывать социологически сконструированные функции, которые они несут, 1.3.1.2.Противопоставление между обладателями монополии на управление сферой сакрального и мирянами, которые объективно определяются как профаны в двойном смысле слова — как несведущие в религии, а также как чуждые сакральному и не имеющие отношения к корпусу управляющих им профессионалов — лежит в основе оппозиции сакрального и мирского и, соответственно, легитимного обращения с сакральным (религия) и профанной и профанирующей манипуляцией (магия или волшебство), будь то объективная профанация, то есть магия или волшебство как подчинённая религия, или намеренная профанация, то есть магия как антирелигия или извращённая религия. Вследствие того, что религия, подобно любой символической системе, несёт функцию объединения и разъединения или, говоря точнее, функцию различения, любая система практик и верований обречена быть низведённой до магии или волшебства, если окажется в подчинённом положении в структуре соотношений символической власти, то есть в системе отношений между различными системами практик и верований, сосуществующими в некоторой социальной формации. Так, под магией обычно понимается либо низшая и древняя, а значит, примитивная религия, либо низшая и современная, а следовательно, профанированная (в смысле, вульгаризованная) и профанизирующая религия. Таким образом, с появлением религиозной идеологии древние мифы переместились в положение магии или волшебства. По замечанию Вебера, противопоставление магии и религии возникло как следствие упразднения по воле политической или церковной власти) культа в пользу другой религии, сводящей древних богов в ранг демонов [30]. Значит, мы вправе задаться вопросом, смогла ли этнологическая традиция действительно порвать с этим изначальным и примитивным смыслом, когда она прибегает к оппозиции между магией и религией, чтобы различать социальные формации, наделённые неодинаково развитыми церковными аппаратами Лучшим примером этому могут служить отношения между конфуцианством и верой китайских рабочих классов, отбрасываемой в разряд магии презрением и недоверием образованных классов. Последние вырабатывают рафинированный ритуал государственной религии и им удаётся утвердить и легитимировать свои доктрины и социальные теории, несмотря на некоторые локальные и временные победы таоистских и буддистских священнослужителей, чьи доктрины и практики лучше отвечают духовным запросам масс [31]. Констатируя наличие, с одной стороны, отношения, которое связывает уровень систематизации и морализации религии с уровнем развития церковного аппарата, и, с другой стороны, отношения, которое связывает прогресс в разделении религиозного труда с развитой системой разделения труда и высоким уровнем урбанизации, мы понимаем, что большинство авторов стремится наделить магию характеристиками, которыми обладают системы практик и представлений, свойственные наименее экономически развитым социальным формациям или наименее обеспеченным группам классовых обществ [32]. Кроме того, большинство авторов опознают магические практики по их направленности на выполнение конкретных и специфических, локальных и сиюминутных задач (в противоположность более абстрактным, более общим и удалённым во времени целям, которые характеризовали бы религию), по стремлению манипулировать сверхъестественными силами или ставить их себе на службу (в отличие, например, от созерцательных и искупительных установок молитвы), или по их замкнутости в формализме и обрядовости do ut des (Лат. — Do ut des — даю, чтобы ты дал. Формула римского права, устанавливающая правовые отношения между двумя лицами.). Это происходит оттого, что, являясь порождением условий жизни, которые характеризуются экономической нуждой, не позволяющей абстрагироваться от сиюминутных нужд настоящего и мало способствующей развитию учёной компетенции в области религии, все эти черты с большей вероятностью встречаются, естественно, в обществах или социальных классах, наименее обеспеченных с экономической точки зрения и посему вынужденных занимать подчинённое положение в материальных и символических соотношениях власти [33]. И более того: любая занимающая подчинённое положение практика или вера обречена на то, чтобы считаться профанной, поскольку одним своим существованием, и даже в отсутствие малейшего к тому намерения, она объективно оспаривает монополию на управление сакральной сферой, а следовательно — легитимность обладателей этой монополии. Вообще, выживание есть всегда сопротивление, то есть несогласие с экспроприацией средств религиозного производства. Вот почему магия, движимая стремлением к профанации, представляет собой не что иное, как крайний случай или, точнее говоря, истинную сущность магии как объективной профанации. Как пишет Дюркгейм, «магия доставляет нечто вроде профессионального удовольствия процессом профанации святых вещей, в обрядах она является противовесом религиозным церемониям» [34]. Колдун доходит до конца в логике оспаривания монополии, когда усугубляет святотатство тем, что вводит мирянина-профана в отношение со священным предметом, инверсируя или пародируя сложные и искусные действия, которые должны выполнять обладатели монополии на распоряжение религиозными благами, чтобы легитимировать своё положение. 2. Собственно религиозный интерес2.1В качестве структурированной символической системы, которая сама действует как структурирующий принцип, религия:
Таким образом, религия берёт на себя идеологическую функцию — практическую и политическую функцию абсолютизации относительного и легитимации произвольного, которую она может осуществлять лишь постольку, поскольку несёт логическую и гносеологическую функцию. Эта функция заключается в том, чтобы усиливать материальную и символическую власть, мобилизуемую некоторой группой или классом с целью легитимации всего того, что социально определяет эту группу или этот класс, то есть все свойства, присущие данному образу жизни как одному среди многих других (а значит — произвольные) и объективно с ним связанные в силу того, что он занимает определённое положение в социальной структуре (эффект узаконивания как сакрализация через «натурализацию» и увековечивание). 2.1.1.Религия производит эффект узаконивания:
Не следует путать эффект легитимации, который стремится производить любая система религиозных практик и представлений прямым и непосредственным образом — в случае доминирующих классов, и опосредованно — в случае подчинённых классов, с эффектом знания-незнания, который обязательно создаётся системой религиозных практик и представлений в виде навязывания проблематики и который, безусловно, является самым незаметным каналом осуществления действия легитимации. Схемы мышления и восприятия, образующие религиозную проблематику, не могут производить объективность иначе, как создавая эффект непризнания границ знания, которое они делают возможным (то есть непосредственное принятие на веру мира традиции, воспринимаемого как «естественный мир»), и скрывая произвольность проблематики, или системы вопросов, которая никогда не ставится под вопрос. Так, мы впадем в противоречие, если станем приписывать народной религиозности мистификаторскую функцию перемещения политических конфликтов и одновременно рассматривать некоторые формы религиозных движений, к примеру, средневековые ереси, как скрытую форму классовой борьбы. Мы сможем избежать этого противоречия, принимая в расчёт, в противоположность Энгельсу, эффект знания-незнания, то есть всё то, что проистекает из факта, что классовая борьба может иметь место в определённый момент времени, лишь приняв форму религиозной войны и заимствуя её язык (а вовсе не скрывая её собой). Короче говоря, религиозные войны не являются ни «жестокими теологическими распрями», как их чаще всего представляют, ни конфликтами «материальных классовых интересов», которые в них обнаружил Энгельс, но представляют собой и то и другое вместе, поскольку теологические категории мышления не допускают мысли о классовой борьбе как таковой, позволяя помыслить её и вести только в форме религиозной войны. Точно так же в практической сфере алхимия религии превращает «нужду в добродетель» или, по выражению Уильяма Джеймса, «делает неизбежное простым и отрадным», К примеру, как показывает Пол Радин, представление об отношениях между человеком и сверхъестественными силами, которое предлагается различными религиями, не может выйти за пределы, очерченные логикой, управляющей имущественным обменом в данном классе и группе [35]. Несложно также показать, что «евхаристическое» видение жертвы — почти никогда не встречающееся в первобытных обществах, где обмен подчиняется закону дара и ответного дара, и даже в крестьянских классах, которые, по замечанию Вебера, в своих отношениях с Богом и священником стремятся следовать «строго формальной морали do ut des», — могло сложиться лишь в связи с изменением структур экономического обмена, в частности, с развитием торговли и городского ремесла, которые, вводя отношение с клиентом, создают условия для морализации основанных на расчёте отношений человека и божества. В свою очередь, всем известен ответный эффект узаконивания, который может создавать — не только в практической, но 2.2Выгода, извлекаемая некоторой группой или классом из того или иного типа религиозных практик или верований и, в частности, из производства, воспроизводства, распространения и потребления определённого типа средств спасения (в числе которых и само вероучение), иначе говоря — религиозный интерес в социологическом понимании, зависит от того, насколько данная религия способна упрочить материальную и символическую власть, которая может быть мобилизована этой группой или этим классом для легитимации материальных или символических свойств, характеризующих положение, занимаемое ими в обществе. Исходя из этого, родовая функция легитимации по определению осуществляется, всякий раз уточняясь в зависимости от различных религиозных интересов, связанных с различными позициями в социальной структуре. Мы можем утверждать, что религия обладает социальными функциями и что, следовательно, она по праву является объектом социологического анализа, поскольку миряне ждут от неё не совсем — или не только — оправданий существования, способных избавить их от экзистенциального страха перед случайностью и одиночеством или даже от биологической беспомощности, болезни, страдания и смерти, но также или более всего — оправданий своего социального положения и своего образа жизни, то есть совокупности их социальных свойств. Вопрос о происхождении зла — unde malum et quare? (Откуда зло и по какой причине? — лат.), который, как подсказывает Вебер, становится вопросом о смысле жизни только в привилегированных классах, занятых поисками «теодицеи собственного богатства», в основе своей является социальным вопросом об основаниях и причинах несправедливости и сословных привилегий: теодицея есть всегда социодщея. Тем, кому данная теория религиозных функций кажется редукционистской, достаточно напомнить, что функции, которыми объективно наделяется религия в различных социальных классах, в различных обществах Религиозность начинает приобретать ярко выраженный персональный характер, который слишком часто рассматривается как сущностная черта любого религиозного опыта, лишь с развитием городской буржуазии, склонной интерпретировать историю и человеческую жизнь скорее как следствие личных заслуг или вины, нежели как плоды случая или судьбы. Следовательно, конструируя религиозный факт при помощи собственно социологического метода, то есть как легитимирующее выражение социального положения, нельзя не заметить социальные условия возможности, а значит, границы применимости, других теорий и, в частности, феноменологического метода. Последний в своём стремлении проникнуть в истину переживания религиозного опыта как персонального опыта, несводимого к его внешним функциям, забывает совершить последнюю «редукцию» — редукцию тех социальных условий, которые должны быть соблюдены, чтобы переживание подобного опыта стало возможным. Подобно добродетели в понимании Аристотеля, личная набожность (и вообще любая форма «внутренней жизни») «нуждается в некотором достатке». Вопросы о спасении души или существовании зла, о страхе смерти или смысле страданий, как и все эти вопросы, находящиеся на границе «психологии» и метафизики, которые являются их секуляризованной формой и которые формулируются и трактуются при помощи разных методов Общим принципом всех этих параллельных противопоставлений является контраст между различными материальными условиями существования и социальными позициями, которые порождают эти два противоположных типа превращённых представлений о социальном порядке и его будущем. Сегодня представление о рае как месте индивидуального блаженства соответствует религиозным запросам скорее мелкой буржуазии, чем её высших слоёв, которые могут одинаково увлекаться как сциентистской эсхатологией Тейяра де Шардена, так и футурологией, прогнозирующей возможные варианты развития общества. Это связано с тем, что, как отмечает Райнхольд Нибур, «эволюционистский милленаризм всегда выражал чаяния привилегированных и зажиточных классов, которые считают себя слишком рациональными для того, чтобы принять идею внезапного появления абсолюта в истории», для которых «идеал заключён в истории и движется к своему окончательному триумфу» и которые «отождествляют Бога с природой, реальное с идеальным, но не потому, что дуалистические концепции классической религии кажутся им слишком иррациональными, а по причине того, что они, в отличие от обездоленных, не так страдают от жестокостей современного общества и, следовательно, не имеют катастрофического видения истории» [36]. 2.2.1.Учитывая, что в основе религиозного интереса лежит необходимость легитимации отличительных свойств, характеризующих определённый тип условий существования и положение в социальной структуре, социальные функции, которые выполняет религия для той или иной группы или класса, различаются в зависимости от положения, занимаемого данной группой или классом: а) в структуре межклассовых отношений; б) в разделении «религиозного труда». 2.2.1.1.В основе динамики религиозного поля и, соответственно, изменений в религиозной идеологии лежат отношения сделки, устанавливающиеся между специалистами и мирянами на базе различных интересов, а также отношения конкуренции, противопоставляющие различных специалистов внутри поля религии. 2.2.2.Учитывая, что религиозный интерес основывается на потребности в легитимации материальных или символических свойств, отличающих тот или иной тип условий существования и положения в социальной структуре, и что, следовательно, он напрямую зависит от этого положения, религиозному интересу определённой группы мирян будет в наибольшей степени соответствовать, то есть производить собственно символический эффект мобилизации, являющийся результатом абсолютизации относительного и легитимации произвольного, такое вероучение, которое предложит ей [группе] [квази]систему оправдания отличительных свойств, объективно связанных с её положением в социальной структуре. Эмпирическим доказательством верности данного предположения, прямо вытекающего из собственно социологического определения функций религии, служит тот факт, что во все времена наблюдается едва ли не чудотворная гармония между формой, которую принимают религиозные практики и верования в конкретном обществе в конкретную эпоху, и специфическими религиозными интересами её избранной клиентуры. К примеру, как заметил Вебер, «военное дворянство и другие феодальные силы никак не могли стать проводниками рациональной религиозной этики» как раз потому, что «такие понятия, как «вина», «искупление», «смирение», не только чужды, но даже антиномичны чувству собственного достоинства, свойственному любым слоям, доминирующим в политической сфере, и особенно — военному дворянству» [37]. Подобная гармония является результатом избирательной рецепции, предполагающей обязательную реинтерпретацию [учения] в соответствии с положением, занимаемым в социальной структуре, поскольку схемы восприятия и мышления, являющиеся условием рецепции и определяющие её границы, представляют собой продукт условий существования, связанных с данной позицией (иными словами, габитус класса или группы). Это означает, что распространение вероучения неизбежно ведёт к новой его интерпретации, которая может сознательно совершаться специалистами (например, религиозная вульгаризация с целью проповеди Евангелия) или происходить непреднамеренно в силу действия законов распространения культуры (то есть «вульгаризация» вследствие оглашения), и которая тем значительнее, чем больше экономическая, социальная и культурная дистанция между группами его создателей, распространителей и адресатов. Отсюда следует, что форма, которую принимает структура систем религиозных практик и верований в конкретный момент времени (историческая религия), может быть весьма далека от изначального содержания Откровения и что её нельзя до конца понять в отрыве от всей структуры отношений производства, воспроизводства, распространения и присвоения учения, а также в отрыве от истории этой структуры [38]. Так, в заключение своего монументального труда по истории социальных учений христианских конфессий Эрнст Трёльчепишет, что «в христианской этике найти инвариантную и абсолютную точку опоры» почти невозможно, поскольку во всех социальных формациях и во все времена христианская догма и мировоззрение варьируют в зависимости от социальных условий, характеризующих различные группы или классы, поскольку, чтобы ими управлять, они должны к ним адаптироваться [39]. Точно так же вероучения и практики, которые обычно называются в числе христианских ( 2.2.2.1.В обществе, поделённом на классы, структура систем религиозных представлений и практик, свойственных различным группам или классам, вносит свой вклад в увековечение и воспроизводство социального порядка (в значении структуры устоявшихся отношений между группами и классами) и, одобряя и освящая его, способствует его узакониванию. Даже если официально она провозглашается единой и неделимой, в действительности она всегда выстраивается по отношению к двум полярным позициям:
Мистифицирующая сила структуры систем представлений и практик может возрастать за счёт создания обманчивого ощущения единства традиционных ответов на наиболее фундаментальные вопросы жизни, скрывающего за минимумом общих догм и ритуалов радикально противоположные интерпретации. Ни одна мировая религия не смогла избежать подобной множественности значений и функций: будь то иудаизм, где, согласно Луису Финкель-штейну, оппозиция фарисейской и пророческой традиций сохраняет следы экономических конфликтов и трений между полукочевыми пастухами и оседлыми земледельцами, между безземельными группами и крупными собственниками, а также между ремесленниками и горожанами благородного происхождения [40] будь то индуизм, Видимость единства этих глубоко различных систем легко поддерживается ещё и потому, что одни и те же понятия и практики принимают противоположные значения, служа выражению диаметрально противоположного социального опыта. Возьмём для примера «смирение», которое для одних является первейшим уроком жизни, в то время как для других — плодом огромных усилий, минующих бунт против универсальных форм неизбежности. Эффект двузначности, возникающий неотвратимо и без эксплицитного намерения всякий раз, когда единое Откровение интерпретируется исходя из противоположных условий существования, представляет собой, безусловно, лишь один из каналов, через которые реализуется эффект логической необходимости, навязываемой любой религией. 2.3Вследствие того, что церковная практика или идеология по определению способна производить специфическое религиозное действие мобилизации, связанное с эффектом узаконивания, лишь постольку, поскольку движущий ей политический интерес остаётся скрытым от глаз как её создателей, так и адресатов, одним из обязательных условий символической эффективности религиозных практик и представлений является вера. Не претендуя на полновесное объяснение отношений, связывающих веру и символическую действенность религиозных практик и идеологий (это потребовало бы включить в наше рассмотрение психологические или даже психосоматические эффекты и функции веры) [41], мы бы хотели просто выдвинуть предположение, что объяснение религиозных практик и верований через религиозный интерес их производителей или потребителей может помочь пониманию самого феномена веры. Учитывая, что действие легитимации основывается на функции знания-незнания, которую несёт религиозная практика и идеология, несложно понять, что специалисты религии должны скрывать друг от друга и от всех остальных политическую подоплёку своей борьбы: им необходимо скрывать свои политические (или, говоря их языком, «мирские») ставки, поскольку от этого зависит символическая власть, которой они могут располагать в этой борьбе [42]. Кроме того, нам, возможно, стоит приберечь слово харизма для обозначения символических свойств ( И идеология откровения, вдохновения или миссии становится наивысшей формой харизматической идеологии лишь благодаря убеждённости самого пророка, способствующей успеху операции ниспровержения и преображения, которую должен произвести пророческий дискурс, чтобы заставить поверить в своё божественное происхождение. Но это не означает, что тому, кто просит, чтобы ему поверили на слово, достаточно иметь убеждённый вид, или что тому, кто стремится своими речами проповедовать свою веру, достаточно демонстрировать веру в своих словах или в своём поведении, или даже что способность вложить в свою речь или проповедь веру в истинность своих слов является единственным условием убедительности речи. Принцип взаимосвязи между интересом, верой и символической властью следует, безусловно, искать в том, что Леви-Строс называет «комплексом шаманства», то есть в диалектике интимного опыта и его социального образа, почти магического круговорота могущества, происходящего, например, во время священнодействия, когда группа производит и проецирует символическую власть, которая будет на неё воздействовать и результатом которой становится переживание, как пророком, так и его зрителями, опыта профетической власти, делающего эту власть реальной [43]. Но как можно не видеть, что на более глубоком уровне эта диалектика личного переживания и его социального отображения является лишь внешней стороной диалектики веры и самообмана (в смысле сокрытия истины от себя самого индивидом или коллективом), которая лежит в основе игры в маски, игры с зеркалом или игры в маски перед зеркалом, дающей индивидам и группам, вынужденным по той или иной причине подавлять в себе мирские желания (экономические, но также сексуальные), обходные пути их удовлетворения, безупречные с точки зрения духовности? Сила подавления и сублимация наиболее велики именно в тех областях, в которых декларируемая функция и переживаемый опыт откровенно противоречат объективной истине практики. И успех предприятия, то есть сила веры, зависит от степени содействия группы, от степени её заинтересованности в том, чтобы скрыть данное противоречие. Это означает, что иллюзия, которую подразумевает любая вера (и, шире, любая идеология), не имеет шансов на успех, если индивидуальный самообман не культивируется и не поддерживается коллективным самообманом. Как писал Мосс, «за свои иллюзии общество всегда расплачивается с самим собой фальшивой монетой»: именно общество, ибо только оно способно организовать фальшивое обращение фальшивых денег, которое, создавая иллюзию объективности, различает безумие как частную веру и религию как веру признанную, то есть как ортодоксию, правильные (или, если хотите, правые) мнения и убеждения или как доксу и воспринимает природный и социальный мир такими, какими они кажутся, то есть как нечто само собой разумеющееся. Именно в этой логике должен быть поставлен вопрос об условиях успеха пророка, который располагается как раз на нечёткой границе между анормальным и экстраординарным и чьё эксцентричное и необычное поведение может вызывать восхищение как незаурядное либо быть осмеяно как выходящее за рамки здравого смысла [44]. 3. Специфическая функция и функционирование поля религииРелигиозный капитал заключается в долговременном изменении представлений и практик мирян путём внушения им религиозного габитуса как порождающего принципа любых мыслей, восприятий и действий, согласующихся с религиозным представлением о естественном и сверхъестественном мире. На самом деле, речь всегда идёт о мыслях, восприятиях и действиях, объективно приведённых в соответствие с принципами политического видения социального мира — и только с ними. Религиозный габитус, с одной стороны, в каждый конкретный момент времени зависит от состояния структуры объективных отношений между религиозным спросом (то есть религиозными интересами различных групп или классов мирян) и религиозным предложением, то есть соотношением ортодоксальных и еретических религиозных услуг, которые склонны производить и предлагать различные инстанции исходя из своего положения в структуре сил в поле религии. С другой стороны, он определяет природу, форму и эффективность стратегий, которые могут задействовать эти инстанции ради удовлетворения их религиозных интересов, а также их функции в разделении религиозного труда и, следовательно, в разделении политического труда [45]. В зависимости от своей позиции в структуре распределения собственно религиозной власти, в конкуренции за монополию на распоряжение ценностями спасения и на легитимное осуществление религиозной власти, религиозный капитал могут задействовать разные религиозные инстанции — индивиды или институты. Так, капитал собственно религиозной власти, которым располагает религиозная инстанция, зависит от символического и материального влияния групп или классов, которые она может мобилизовать, предлагая им продукты и услуги, способные удовлетворить их религиозные интересы. Природа этих продуктов и услуг, в свою очередь, зависит от капитала религиозной власти, которым обладает данная религиозная инстанция в соответствии со своей позицией в структуре поля религии. Именно эта круговая зависимость или, лучше сказать, диалектика (поскольку капитал власти, который могут использовать различные инстанции в конкурентной борьбе, является результатом предыдущих отношений конкуренции) лежит как в основе гармонии, наблюдающейся между предлагаемыми полем религии продуктами и запросами мирян, так 3.1Вследствие того, что любые стратегии религиозных инстанций (институтов или индивидов) определяются их положением в структуре распределения религиозного капитала, борьба за монополию на легитимное осуществление религиозной власти над мирянами и на управление ценностями спасения неизменно организуется вокруг оппозиции между церковью и пророком (ересиархом). С одной стороны, ради упрочения своего положения церковь стремится преградить доступ на рынок новых предприятий по спасению, как, например, секты или любые формы религиозных общин, а также запретить индивидуальные поиски спасения (через аскезу, созерцание или оргии) в той мере, в какой ей удаётся добиться признания своей монополии (extra ecclesiam nulla salus — нет спасения вне церкви — [лат.] — С другой стороны, пророк (или ересиарх) и его секта одним фактом своего существования или, точнее говоря, своей амбиции самостоятельного удовлетворения своих религиозных потребностей без посредничества и заступничества церкви, бросают ей вызов, ставя под сомнение её монополию на инструменты спасения. Им приходится осуществлять первоначальное накопление религиозного капитала, вновь и вновь пытаясь завоевать и удержать власть, подверженную флуктуациям и неровностям отношений между предложением религиозных услуг и религиозным спросом определённой категории мирян. Поскольку поле религии как рынок ценностей спасения располагает лишь относительной автономией, каждая из различных исторических конфигураций, в которых реализуется структура отношений между различными инстанциями, конкурирующими в борьбе за религиозную легитимность, может рассматриваться как один из вариантов системы трансформаций. Кроме того, можно попытаться выделить структуру инвариантных отношений между свойствами, характеризующими различные группы специалистов, занимающих гомологичные позиции в разных полях. При этом нельзя забывать, что отношэиия между различными инстанциями могут быть охарактеризованы исчерпывающим и точным образом только внутри конкретной исторической конфигурации. 3.1.1.Управление резервом религиозного капитала (или святости), являющегося плодом долгого религиозного труда, и работа, направленная на сохранение этого капитала посредством консервации или реставрации символического рынка, на котором он имеет обращение, могут осуществляться лишь таким аппаратом бюрократического образца, как церковь, который способен на протяжении длительного времени совершать непрерывную, то есть рутинную, деятельность, необходимую для обеспечения его собственного воспроизводства. Подобная деятельность заключается в воспроизведении производителей продуктов спасения и религиозных услуг, то есть священнического корпуса, и рынка, открытого для этих продуктов, то есть мирян (в противоположность неверным и еретикам) как потребителей, наделённых необходимым минимумом религиозной компетенции (религиозным габитусом), без которого они не могут испытывать специфической потребности в этих ценностях. 3.1.2.Являясь продуктом институционализации и бюрократизации секты пророка (со всеми сопутствующими эффектами «банализации» или превращения в обыденное явление), церковь являет многие черты бюрократического аппарата: чёткое разделение областей компетенции, регламентированная иерархия функций, сопровождающаяся рационализацией вознаграждений, «назначений», «повышений» и «карьер»; кодификация правил, регламентирующих профессиональную деятельность и внепро-фессиональную жизнь; рационализация профессиональной подготовки и таких инструментов работы, как догма или литургия и так далее. В качестве такой рутинной (обыденной и производящей обыденность) организации она объективно противопоставлена секте как неординарной деятельности, бросающей вызов установленному порядку. Любая секта, которая добивается успеха, стремится стать церковью, носительницей и хранительницей ортодоксии, составляющей одно целое со своими иерархиями и догмами и потому обречённой стать объектом новой реформы. 3.2Степень влияния, которое приобретает пророк как независимый предприниматель, стремящийся к производству и распределению ценностей спасения нового образца, способных обесценить старые, в отсутствие начального капитала и какого бы то ни было залога или иной гарантии, нежели его «личность», зависит от способности его речи и действий приводить в движение потенциально еретические религиозные интересы определённых групп мирян благодаря эффекту узаконивания, создаваемому одним фактом символизации и экспликации, а также содействовать ниспровержению устоявшегося символического (то есть священнического) порядка и символическому закреплению его ниспровержения, иначе говоря — десакрализации сакрального (то есть «натурализованной» произвольности) и сакрализации кощунства (то есть революционного отрицания). 3.2.1.Пророк и колдун, которые схожи тем, что оба стоят в оппозиции к священническому корпусу в качестве независимых предпринимателей, осуществляющих свою деятельность вне какого бы то ни было института и, следовательно, без институциональной защиты или гарантии, различаются своими позициями в разделении религиозного труда, выражающими совершенно разные амбиции. Так, пророк стремится реализовать свою претензию на легитимное осуществление религиозной власти, занимаясь деятельностью, схожей с той, посредством которой духовенство подтверждает специфичность своей практики и уникальность своей компетенции, то есть легитимность своей монополии (к примеру, систематизация), иначе говоря — производя и проповедуя чётко систематизированную доктрину, способную дать жизни и миру единый смысл и, таким образом, предоставить средство осуществления систематической интеграции поведения вокруг этических, или практических, принципов; в то время как колдун всего лишь удовлетворяет отдельные и сиюминутные запросы, используя речь в качестве одной из техник врачевания (тела) и отнюдь не как инструмент символической власти, каким является проповедь и «врачевание душ». Такие общепризнанные характеристики пророка, как бескорыстие (или, как говорит Вебер, отказ от «экономического использования дара благодати в качестве источники прибыли») [46] или стремление осуществлять настоящую духовную власть, то есть внушать и прививать книжную доктрину, выраженную на книжном языке и помещённую в целую эзотерическую традицию, — у колдуна находят строго противоположное выражение: следование материальному интересу и подчинение заказу (связанные с отказом от духовного господства). На основе этого сопоставления несложно заметить, что пророк в некотором смысле вынужден легитимировать своё стремление к непосредственно религиозной власти посредством более полного отречения от мирских интересов (прежде всего политических), другим выражением которого является аскетизм и различные физические испытания, в то время как колдун может открыто обменивать свои услуги на материальное вознаграждение, то есть эксплицитно поддерживать отношения продавца и покупателя, представляющие собой объективную истину любых отношений между специалистами религии и мирянами. Отсюда возникает закономерный вопрос о корыстной функции бескорыстия как части первоначального взноса, требуемого любым пророческим предприятием. Напротив, колдун связан с крестьянами, людьми fides implicita (лат. — бессловесная вера), плохо воспринимающими, по наблюдению Вебера, систематизации пророка, но которым близка деятельность колдуна, поскольку он один способен использовать sermo rusticus sermo rusticus (лат. — деревенская, протонародная речь) без прозелитических намерений и интеллектуальных оговорок и, таким образом, выражать то, чему нет имени ни в одном книжном языке. 3.3Сохранность монополии на такую разновидность символической власти, как религиозный авторитет, зависит от способности обладающей ей институции внушить тем, кто из неё исключён, легитимность их исключения, то есть скрыть от них произвол, лежащий в основе монополизации власти и компетенции, в действительности доступных кому угодно. Вследствие чего протест пророков (или еретиков) угрожает самому существованию института церкви, подвергая сомнению не только способность духовенства выполнять его заявленную функцию во имя отказа от «институциональной благодати»), но также смысл его существования во имя принципа «мирового священства»). И когда расстановка сил складывается в пользу церкви, то этот спор не может окончиться иначе, как ликвидацией пророка (или секты) при помощи физического или символического (отлучение от Церкви) насилия, если только пророк (или реформатор) не изъявит покорность, то есть не признает легитимность церковной монополии (и гарантирующей её иерархии), и не будет аннексирован церковью через канонизацию (как, например, святой Франциск Ассизский). 3.3.1.Оппозиция между ортодоксией и ересью (гомологичная противостоянию между церковью и пророком), являющаяся особой формой борьбы за монополию и наблюдающаяся в том случае, если церковь владеет абсолютной монополией на инструменты спасения, всегда следует примерно одному и тому же сценарию. Борьба за специфический религиозный авторитет (теологический конфликт) и/или внутрицерковная борьба за власть ведёт к оспариванию церковной иерархии, которое принимает форму ереси, когда в условиях кризисной ситуации движение, выступающее против монополизации церковной монополии одной из групп духовенства, совпадает с антиклерикальными интересами группы мирян Концентрация религиозного капитала, безусловно, никогда не была такой сильной, как в средневековой Европе, когда церковь, организованная согласно сложной иерархии, использовала язык практически неизвестный народу и владела абсолютной монополией доступа к предметам культа — священным текстам и, особенно, таинствам. Отодвигая монаха на второй план в иерархии орденов, она делает из надлежащим образом возведённого в сан священника обязательный инструмент спасения и жалует иерархии власть освящения. Связывая спасение в большей степени с принятием причастия и исповедью, чем с соблюдением нравственных законов, она тем самым поощряет такую форму народного обрядоверия, как погоня за индульгенциями. «С XI по XV век вера масс в благословение священника при отпущении грехов была полной, идёт ли речь о прощении в сакраментальном смысле слова или об отпустительных молитвах у гроба умершего, об индульгенциях, выдаваемых при определённых условиях и освобождающих от искупления, о паломничествах, предпринимаемых с целью получить «великие индульгенции», о юбилейных годах или же других римских confessionalia (лат. — привилегии исповедника) дарующих при исповеди некоторым верующим духовные привилегии» [47]. (По традиции в Римско-Католической церкви все круглые даты со дня рождения Христа считаются юбилейными; в такой год папа римский объявляет всеобщую индульгенцию. — В подобной ситуации поле религии равно по объёму полю конкурентных отношений, устанавливающихся внутри самой церкви. Борьба за завоевание духовного авторитета, ведущаяся в относительно автономном субполе учёных (теологов), которые пишут для других учёных У любых религиозных (и даже светских) идеологий, которые при самых разных состояниях идеологического поля заявляют о себе как еретические (поскольку стремятся оспорить религиозный порядок, сохранение которого является целью церковной «иерархии»), наблюдается множество инвариантных тем: например, отказ от институциональной благодати, проповедь мирян и мировое священство, прямое самоуправление предприятий спасения, при котором «постоянные» священнослужители рассматриваются в качестве простых «слуг» сообщества; «свобода совести», то есть право каждого индивида на религиозное самоопределение во имя принципа равенства религиозных конфессий, и так далее. Таким образом, в их основе лежит один и тот же принцип более или менее радикального протеста против церковной иерархии, который может вылиться в яростное изобличение произвола религиозной власти, не обоснованной святостью её носителей, и даже в радикальное осуждение церковной монополии как таковой. Кроме того, изначально производимые и воспроизводимые для нужд внутренней борьбы против церковной иерархии (в отличие от большинства чисто «теологических» теорий, имеющих иные функции и потому не выходящих за пределы церковного мира), они были предрасположены к тому, чтобы выражать и вдохновлять, пусть даже посредством радикализации, религиозные интересы тех категорий мирян, которые были наиболее склонны оспаривать легитимность церковной монополии на инструменты спасения. В данном случае, как и во многих других, вопрос первопричины, то есть вопрос о том, что первично: ересиарх или сектанты, — не имеет никакого смысла, и нам долго бы пришлось перечислять ошибки, порождаемые этой ложной проблемой. На самом деле, конкуренция имеет место Такая модель позволяет оценить роль групп, находящихся в архимедовой точке, в которой сходятся конфликт между специалистами в религии, занимающими противоположные позиции (доминирующие и подчинённые) в структуре религиозного аппарата, и внешний конфликт между духовенством и мирянами, то есть роль членов низшего духовенства, расстриженных или всё ещё несущих духовный сан, которые занимают подчинённое положение в аппарате символического доминирования. Важность той роли, которую играет низшее духовенство (и вообще пролетарии от интеллигенции) в еретических движениях, могла бы быть объяснена тем, что в церковном аппарате они занимают подчинённое положение, которое представляет некоторые сходства с положением подчинённых классов в силу гомологии их позиций. Вследствие такого неоднозначного положения в социальной структуре они обладают критической способностью, которая им позволяет давать своему протесту [квази]систематическую формулировку и, таким образом, выступать в качестве выразителей интересов угнетаемых классов. От обличения же развращённых нравов и продажности духовенства и особенно высших церковных чинов недолог путь до сомнения в прерогативе священника как уполномоченного проводника божьей милости и даже до экстремистских требований полной демократии в распределении «дара благодати», включающих отмену посредников и введение вольного покаяния вместо исповеди и других видов искупления, которые церковь, обладающая монополией на таинство покаяния, смогла навязать грешнику. Требование отмены посредников было также связано с неприятием комментаторов и комментариев, «обязательных церковных символов в качестве источника интерпретации» [50], с желанием возвратиться к буквальному прочтению Священного Писания и не признавать другого авторитета, кроме praeceptum evangelicum (лат. — евангельское наставление). Разоблачение монополии священнослужителей и отказ от институционального покровительства во имя равного распределения дара благодати утверждалось как в поиске опыта прямого общения с Богом, так 3.4Логика функционирования церкви, церковная практика, а также форма и содержание учения, которое она проповедует и укореняет, представляют собой результат сопряжённого действия внутренних и внешних требований. Внутренние связаны с работой бюрократии, с полным успехом притязающей на монополию легитимного осуществления духовной власти над мирянами и распоряжения ценностями спасения в качестве императива экономики харизмы. Церковь стремится к тому, чтобы совершение богослужения — деятельность неизбежно «обыденная», поскольку ежедневная и повторяющаяся, — было возложено на взаимозаменяемых функционеров культа, обладающих одинаковой профессиональной квалификацией, достигающейся посредством специального обучения, и одинаковыми инструментами, способными служить отправлению унифицированной и унифицирующей деятельности, с одной стороны. С другой стороны, внешние силы располагают неодинаковым весом в зависимости от исторической обстановки. В качестве последних могут выступать:
Это означает, что адекватная интерпретация вероучения в той или иной его исторической форме должна обязательно ставить во взаимосвязь систему отношений, конституирующую учение, с системой отношений между материальными и символическими силами, образующими соответствующее поле религии. Объяснительная сила различных факторов варьирует в зависимости от исторической ситуации, и может случиться так, что противостояния между разными сверхъестественными силами (например, оппозиция между богами и демонами) в собственно религиозной логике воспроизводят оппозиции между разными типами религиозных практик, то есть соотношения сил, складывающиеся в поле религии между различными категориями специалистов (например, оппозиция между доминирующими и подчинёнными специалистами). Интересы духовенства могут также находить отражение в религиозной идеологии, которую они производят и воспроизводят: «Так же как Брахманы монополизировали способность действенной молитвы, то есть магического, результативного воздействия на богов, так же Логика рынка религиозных благ такова, что за любое усиление монополии церкви, то есть за любое расширение или увеличение мирской и духовной власти духовенства над мирянами (к примеру, проповедь Евангелия), ей приходится платить все большими уступками, как на уровне догмы, так и на уровне литургии, в пользу религиозных представлений мирян, поскольку в противном случае она рискует потерять своё влияние. В том, что касается самих свойств предлагаемых рынком религиозных благ (сегодня можно говорить о культурных благах), то по мере того как в связи с развитием классового общества увеличивается, то есть диверсифицируется, зона их распространения и обращения, объяснительная сила факторов, связанных с полем производства как таковым, постепенно убывает, в то время как становятся всё более актуальными факторы, связанные с потребителями. Из этого следует, что даже в тех случаях, когда церковь, как в средневековой Европе, de facto обладает полной монополией, за видимостью единства, которая может создаваться благодаря инвариантности литургии, скрываются намеренная диверсификация техник проповеди и душеспасения, а также крайнее разнообразие духовного опыта, разнящегося от мистического фидеизма до магической обрядовости. Точно так же, вследствие игры перетолкований и компромиссов, североафриканский ислам превратился в довольно сложное образование, в котором нельзя с уверенностью разделить собственно исламские и местные элементы: религиозность городских буржуа (как «традиционалистов», так и «западников»), осознающих свою принадлежность мировой религии, во всём противоположна обрядовости крестьян, не сведущих в тонкостях догмы и теологии. Таким образом, ислам предстаёт как иерархизированное множество, в котором можно выделить различные «уровни»: анимистические суеверия и аграрные обряды, почитание святых и марабутизм — практику, управляемую при помощи религии, права, догмы и мистического эзотеризма. Дифференциальный анализ, безусловно, позволил бы обнаружить совершенно разные типы религиозных профилей по аналогии с башляровским понятием «эпистемологического профиля»), иначе говоря — разные формы иерархического соединения всех этих уровней, чей относительный вес в каждом типе опыта и практики варьирует в зависимости от условий существования и уровня образования, характеризующих ту или иную группу или класс [53]. 3.4.1.Конкуренция со стороны колдуна, знахаря, шамана — независимого малого предпринимателя, время от времени нанимаемого частными лицами и осуществляющего свои функции на условиях частичной занятости и за вознаграждение, без специальной подготовки и институциональной поддержки (и чаще всего тайным образом), — который удовлетворяет потребности низших групп или классов (в особенности крестьянства), составляющих его основную клиентуру, вынуждает церковь к «ритуализации» религиозной практики и канонизации народных верований [54]. «Руководство по современному французскому фольклору» Арнольда Ван Геннепа изобилует примерами таких обменов между крестьянской и церковной культурой («фольклоризованные литургические праздники», как, например, «рогации» («rogations») — процессия и молебен об урожае (в течение трёх дней, предшествующих Вознесению). — 3.4.2.С другой стороны, конкуренция со стороны пророка (и секты), объединяющаяся с интеллектуалистской критикой определённых категорий мирян, вынуждает церковную бюрократию подвергать как догму, так и литургию всё большей «казуистическо-рациональной систематизации» и «банализации» с целью сделать из них такие инструменты символической борьбы, которые были бы унифицированными («обезличенными»), понятными, узнаваемыми и установленными («канонизированными») и которые, таким образом, могли бы быть освоены и использованы кем угодно, но лишь по окончании специального обучения, а значит — недоступны для первого встречного (функция обучения в легитимации религиозной монополии). Доказательством тому, что необходимость защиты против конкурирующей профетии (или ереси) и против интеллектуализма мирян способствует увеличению производства «банальных» инструментов религиозной практики, служит тот факт, что как только содержание традиции оказывается под угрозой, то сразу ускоряется производство канонических текстов [56]. Кроме того, повышенное внимание церкви к отличительным знакам и дискриминирующим теориям, помогающим бороться с обезличиванием и одновременно осложняющим переход в конкурирующую религию, обусловлено заботой об оригинальности общины в сравнении с конкурирующими доктринами [57]. С другой стороны, «казуистическо-рациональная систематизация» и «банализация» являются первейшими условиями функционирования бюрократии, управляющей ценностями спасения, поскольку они позволяют любым (то есть взаимозаменяемым) агентам исполнять должность священника на постоянной основе, снабжая их практическими инструментами, которые им необходимы для отправления их обязанностей с наименьшими затратами (для них самих) 4. Политическая и религиозная властьВследствие того, что собственно религиозный авторитет и светская власть, которую различные религиозные инстанции могут задействовать в борьбе за религиозную легитимность, всегда зависит от степени влияния мобилизуемых ими мирян в структуре соотношений сил между классами, сама структура объективных отношений между этими инстанциями, занимающими различные позиции в отношениях производства, воспроизводства и распределения религиозных благ, стремится воспроизвести структуру соотношений сил между группами или классами, предстающую, однако, в превращённой и замаскированной форме под видом поля соотношений сил между инстанциями, борющимися за сохранение либо ниспровержение символического порядка. Таким образом, структура отношений между полем религии и полем власти в каждый отдельный момент определяет конфигурацию структуры отношений, образующих поле религии. Последнее выполняет внешнюю функцию легитимации существующего порядка в силу того, что сохранение символического порядка напрямую способствует поддержанию политического строя, тогда как символическое разрушение символического порядка способно затронуть политический лишь при том условии, что оно сопровождает политическое ниспровержение этого порядка. 4.1Церковь способствует сохранению политического строя, то есть символическому укреплению его делений, благодаря своей специфической функции поддержания символического порядка [61]. Вовсе не случайно, что два наинаиболее важных источника схоластической философии в идеальнотипичном виде утверждают — уже одним своим названием — гомологию политических, космологических и церковных структур, которую призвана внушать церковь. Эти два сочинения: «О небесной иерархии» и «О церковной иерархии», приписываемые Дионисию Ареопагиту, выражают эманатическое учение, которое устанавливает строгое соответствие между иерархией ценностей и иерархией существ, представляя мир как результат процесса нисхождения от «Единого», «Абсолюта» до материи с такими промежуточными стадиями, как архангелы, ангелы, серафимы, херувимы, человек и органическая природа. Можно подумать, будто эта символическая система (куда без труда вписывается аристотелевская космология с её «неподвижным перводвигателем», сообщающим движение самым высоким небесным сферам, откуда он затем спускается через последовательные ступени в подлунный мир становления и разложения) призвана выражать «эманатическую» структуру церковного и политического миров в силу некой предустановленной гармонии. Предполагая, что каждая иерархия — папа, кардиналы, архиепископы, епископы, низшее духовенство, император, князья, герцоги и вассалы — является точным отражением всех других, эта система воспроизводит, в последней инстанции, космический порядок, установленный Богом, а значит — вечный и неизменный. Устанавливая такое идеальное соответствие между различными планами бытия, подобно мифу, сводящему всё разнообразие мира к сериям простых и иерархических оппозиций (которые, в свою очередь, тоже взаимообратимы, как высокий и низкий, правый и левый, мужской и женский, сухой и влажный), религиозная идеология производит ту элементарную форму опыта логической необходимости, которую порождает аналогическое мышление, соединяя разделённые миры. Наиболее специфический вклад, вносимый церковью в поддержание символического порядка, заключается не столько в мистическом, сколько в логическом преобразовании политического порядка, которое производится путём унификации различных уровней. Абсолютизация относительного и легитимация произвольного происходит не только посредством установления соответствия между космологической и церковной или социальной иерархиями, но также и особенно вследствие утверждения иерархического образа мышления, который, признавая существование привилегированных точек как в космическом, так Тем самым несоблюдение социальных барьеров превращается в святотатство, наказание за которое заключается в нём самом, или, более того, становится невозможной сама идея нарушения границ, представляющихся настолько «естественными» (вследствие их интериоризации в качестве принципов структурирования мира), что их может отменить лишь символическая революция (к примеру, революции, совершенные Коперником и Галилеем, с одной стороны, и Макиавелли — с другой), сопровождающаяся глубокими политическими изменениями (например, постепенное разложение феодального строя). Одним словом, институт, который, подобно церкви, приобретает функцию поддержания символического порядка в силу своего положения в структуре поля религии способствует сверх того сохранению политического строя’ Это обусловлено не только тем, что космологические топологии всегда оказываются «натурализованными» политическими топологиями, но также тем, что (как о том свидетельствует исключительно важное место, которое занимает в любом аристократическом воспитании обучение этикету и манерам) внушение уважения к формам — даже и особенно в виде магического формализма и ритуальности— является одним из наиболее действенных способов, позволяющих добиться признания-неузнавания запретов и норм, обеспечивающих социальный порядок. 4.1.1.Отношение гомологии, которое устанавливается между позицией церкви в структуре поля религии и позицией доминирующих фракций доминирующих классов в поле власти На основании вышесказанного мы можем предположить, что конфигурация структуры отношений, конституирующих поле религии, определяется не чем иным, как структурой отношений между полем власти и полем религии. Так, в «Древнем иудаизме» Макс Вебер показывает, что антагонизм между духовенством и пророками мог получать различные решения в зависимости от типа политической власти, а также в зависимости от типа отношений между религиозными и политическими инстанциями. В таких крупных бюрократических империях, как Египет или Рим, пророк попросту исключался из поля религии, строго контролируемого конфессией, имеющей статус государственной религии. Напротив, в Израиле духовенство не могло рассчитывать на монархию, не обладавшую достаточным влиянием, чтобы окончательно ликвидировать пророчество, которое находило поддержку в среде знатных горожан и имело позади себя долгую традицию. Греция же даёт пример промежуточного решения: практиковать пророчество разрешалось, но лишь в строго отведённом для этого месте — Дельфийском храме, по причине того, что власть была вынуждена идти на «демократический» компромисс с требованиями некоторых групп мирян. Впрочем, этим различным типам структуры отношений между инстанциями поля религии соответствуют различия самих форм пророчества. 4.2Способность сформулировать и дать имя тому, что действующие символические системы отбрасывают в область невыразимого и неназываемого, и, таким образом, сместить границу между знаемым и незнаемым, возможным и невозможным, мыслимым и немыслимым, находится в прямой связи с высоким происхождением и неустойчивым положением в структуре отношений между классами. Она представляет собой начальный капитал, благодаря которому пророк может мобилизовать достаточно влиятельную группу мирян, символизируя своим необычным дискурсом и поведением то, что обычные символические системы не способны выразить структурно, в частности — чрезвычайные ситуации. Причины успеха пророка следует искать за пределами поля религии, если только не представлять его как результат действия чудотворной силы или появления религиозного капитала ex nihilo, подобно Максу Веберу в некоторых его формулировках теории харизмы. В самом деле, если деятельность священника неразрывно связана со стабильным порядком, то пророк является человеком кризисных ситуаций, когда установленный порядок опрокидывается и теряется уверенность в будущем. Чаще всего пророческий дискурс возникает в моменты явного или назревающего кризиса, охватывающего либо всё общество целиком, либо его отдельные классы, иначе говоря — в периоды, когда экономические или морфологические изменения влекут за собой крах, ослабление или устаревание в той или иной части общества традиций или символических систем, определявших принципы видения мира и поведения. Так, по мнению Макса Вебера, «харизматическая власть всегда является продуктом внешних необычайных ситуаций» или «воодушевления, завладевающего целой группой людей вследствие некоторого необычного явления» [63]. Марсель Мосс также отмечал, что «голод, войны влекут за собой появление пророков, ересей; именно бурные контакты, изменяющие распределение и характер населения, смешения целых обществ (как в случае колонизации), неизбежно ведут к возникновению новых идей и новых традиций. Не следует путать коллективные, органические причины с деятельностью индивидов, которые являются скорее их выразителями, чем инициаторами. Следовательно, нет нужды противопоставлять индивидуальные новации коллективной привычке. Индивидам могут быть свойственны постоянство и рутина, в то время как новаторство и революция могут производиться группами, подгруппами, сектами или индивидами, действующими внутри и от имени групп» [64]. Уилсон Д. Уоллис также указывает на то, что мессии появляются в кризисные периоды в связи с глубоким стремлением к политическим изменениям, и что «как только национальное благосостояние восстанавливается, мессианские ожидания рассеиваются» [65]. Наконец, Эванс Причард полагает, что, подобно большинству древнееврейских пророков, прорицатель тесно связан с войной: «в древние времена основная социальная функция прорицателей состояла в том, чтобы руководить набегами на стада [племени] динка и вести сражения против различных враждебных групп севера» [66]. (Динка — северо-африканское кочевое племя, основой существования которого является крупный рогатый скот. — Чтобы окончательно доказать несостоятельность представлений о харизме как качестве, присущем природе отдельного человека, следовало бы также в каждом конкретном случае установить, какие социологические характеристики отдельной биографии формируют социальную предрасположенность индивида испытывать и особенно успешно выражать этические и политические настроения, уже присутствующие в скрытом виде у всех членов класса или группы, к которым он адресуется. В частности, следовало бы проанализировать те факторы, в силу которых структурно амбивалентные — маргинальные и гибридные — категории и группы, располагающиеся в местах особого структурного напряжения Одним словом, пророк — это не столько «экстраординарный» человек, о котором говорил Вебер, сколько человек экстраординарных ситуаций, относительно которых хранителям обычного порядка нечего сказать, поскольку единственный язык, которым они располагают для его осмысления, это язык экзорцизма. Напротив, благодаря тому, что в личности и дискурсе пророка реализуется встреча означающего и означаемого, которое существовало до него в потенциальном и скрытом виде, он обладает способностью мобилизовать группы или классы, которые понимают его язык, потому что узнают себя в нём: как, например, аристократические и княжеские группы в случае Заратуштры, Мохаммеда и индийских пророков или средние, как городские, так и сельские, классы в случае израильских пророков. Как показывает научный анализ, пророческий дискурс не привносит практически ничего, что уже не содержалось бы в предшествующей, священнической либо сектантской, традиции, но это ни в коем случае не исключает того, что он может создать иллюзию радикальной новизны, например вульгаризируя для новой публики эзотерическое учение. Кризис обыденного языка требует или уполномочивает введение кризисного и критического языка: откровение, то есть произнесение того, что грядёт, или того, что было неосмысленным и невыраженным, нуждается в этих моментах, когда всё может быть сказано, потому что всё может случиться. Именно такую атмосферу описывает С. Вазоли, объясняя возникновение флорентийской еретической секты в конце XV века: «К периоду после 1840 года относятся многие и частые свидетельства нарастания эсхатологических настроений, смутные ожидания мистических событий, ужасные предсказания, знамения и чудесные явления, предвещающие крупные потрясения в человеческих и божьих делах, в церковной жизни и во всей будущей судьбе христианства. Становятся не только более частыми, но и всё более настоятельными призывы великого реформатора, который должен очистить и обновить церковь, освободить её от всех грехов и возвратить к божественным истокам, к незапятнанной чистоте евангелического опыта. Неудивительно, что в такой обстановке вновь появляются откровенно пророческие идеи» [67]. Успеха добивается тот пророк, которому удаётся сказать то, что должно быть сказано в одной из подобных ситуаций, требующих замены языка по причине неадекватности всех доступных категорий расшифровки [реальности]. Вообще же само осуществление пророческой функции возможно лишь в тех обществах, которые, покинув стадию простого воспроизводства, вошли, если можно так выразиться, в историю. По мере того как мы удаляемся от наименее дифференцированных обществ, в наибольшей мере способных управлять своим будущим при помощи его ритуализации (земледельческие обряды и обряды перехода), пророки — эти изобретатели эсхатологического будущего и тем самым истории как движения к будущему, которые сами являются продуктом истории, то есть разрыва в циклическом времени, наступающего вследствие кризиса — приходят всё чаще, чтобы заполнить место, которое до тех пор принадлежало социальным механизмам ритуализации кризиса, или контроля над кризисом, предполагающим разделение религиозного труда, при котором комплементарные роли выполняют хранители обычного порядка (Брахманы в Индии или фламины в Древнем Риме) и виновники божественного беспорядка (люперки или гандхарвы). Среди прочего нельзя не отметить, что мифическая стилизация представляет в парадигматической форме оппозицию между двумя противоположными силами — между celeritas (лат. — быстрота, лёгкость) и gravitas (лат. — тяжесть, строгость), на которой основывается целая серия таких вторичных оппозиций, как прерывность и непрерывность, творчество и сохранение, мистика и религия: «Брахманы, как и фламины, вместе со всей соответствующей им иерархией священнослужителей являются представителями перманентной и непрерывно публичной религии, в виду которой протекает — за исключением одного дня — жизнь всего общества и всех его членов. Это единственное исключение как раз составляют люперки, а также группа людей, чьим мифическим воплощением являются гандхарвы; они принадлежат к религии, которая, напротив, публична и доступна лишь в виде мимолётного явления. Фламины и Брахманы обеспечивают священный порядок, в то время как люперки и гандхарвы являются творцами не менее священного беспорядка. Если религия первых статична, упорядочена, спокойна, то религия вторых — динамична, свободна, неистова; вследствие этих особенностей вторая может властвовать лишь краткое время, нужное для того, чтобы очистить, а также дать новое дыхание, бурно «преобразовать первую» [68]. К этому остаётся добавить, что фламины — любители вина и музыканты, в то время как Брахманы воздерживаются от хмельных напитков и не ведают пения, танцев и музыки: «ничего оригинального, ничего такого, что диктовалось бы вдохновением и фантазией»; [69] что «скорость (удивительная быстрота, внезапные появления и исчезновения, мгновенная схватка и так далее) характеризует поведение, «ритм», который более всего подходит для этих неистовых, импровизирующих, творческих сообществ», в то время как официальная религия «требует величественного поведения, медленного ритма» [70]. Кроме того, люперки и фламины противопоставляются друг другу как juniores и seniores, как лёгкие и тяжёлые (guru); при этом фламины обеспечивают постоянство изобилия, воссоздающегося непрерывно, без происшествий», однако, даже будучи способными «продлевать жизнь и изобилие» при помощи своих жертвоприношений, они не могут «их оживлять», в то время как чудеса люперков, «возмещая урон от пагубного случая, восстанавливают прерванное изобилие» [71]. И наконец, «люперки и гандхарвы способны к творчеству именно благодаря своей «чрезмерности», а фламины и Брахманы в силу своей «аккуратности» могут лишь сохранять [существующий порядок]» [72]. 4.2.1.Между политической и символической революцией устанавливается несимметричное отношение. Несмотря на то, что символическая революция всегда предполагает политическую, одной лишь политической революции недостаточно, чтобы произошла революция символическая, которая нужна ей для того, чтобы дать адекватный язык выражения, являющийся необходимым условием её осуществления: «Традиции всех мёртвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто ещё небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освящённом древностью наряде, на этом заимствованном языке разыграть новую сцену всемирной истории» [73]. До тех пор пока у кризиса не появится свой пророк, мы продолжаем мыслить опрокинутый мир при помощи схем, всё ещё являющихся продуктом мира, который предстоит разрушить. Одним словом, пророк — это тот, кто, совершая символическую революцию, может помочь политической революции совпасть с самой собой. Политическая революция не может совершиться без символической революции, придающей ей существование, тем, что даёт средства осмысления её истины как | |
Примечания | |
|---|---|
| |
Оглавление | |
| |