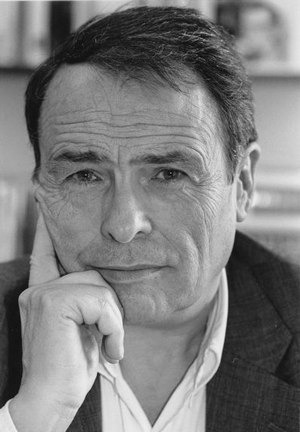 Работа французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
Наука о праве в строгом смысле слова обособляется от «юридической науки», принимая её за предмет своего изучения. В результате наука о праве оказывается вне рамок доминирующей в научных дебатах альтернативы между формализмом, утверждающим абсолютную автономию юридической формы по отношению к социальному миру, и инструментализмом, понимающим право как отражение или как инструмент на службе у власть имущих. «Юридическая наука» — как она понимается юристами и особенно историками права, ограничивающими историю права историей внутреннего развития его концептов и методов, — рассматривает право как закрытую и автономную систему, процесс изменения которой может быть понят лишь через его «внутреннюю динамику» [1]. В теоретическом плане притязания на абсолютную автономию юридической мысли и действия находят своё выражение в формировании специфического стиля мышления, который полностью лишён социального измерения. Попытка Келсена создать «чистую теорию права» есть не что иное, как доведённое до своего логического конца усилие всего корпуса юристов по конструированию такой системы воззрений и правил, которая не зависела бы от каких бы то ни было социальных воздействий и находила бы своё основание в себе самой [2]. Приняв точку зрения, противоположную этой профессиональной идеологии правоведов, возведённой в ранг «доктрины», мы увидим в праве и юриспруденции прямое отражение существующих соотношений сил, выражающих экономические детерминации и, в частности, интересы доминирующих групп, или же, в терминологии «аппарата», актуализованной Луи Альтюссером, инструмент господства [3]. Так называемые марксисты-структуралисты, жертвы традиции, поверившей, что она смогла объяснить «идеологии» раз и навсегда, обозначив их функцию («опиум для народа»), парадоксальным образом упустили из виду саму структуру символических систем, Чтобы порвать с идеологией независимости права и судейского корпуса, не впадая при этом в противоположную крайность, необходимо принять во внимание то, о чём забывают обе антагонистичные, как интерналистская, так и экстерналистская, точки зрения: то есть существование относительно независимого от внешнего заказа социального универсума, внутри которого производится и осуществляется судебная власть — эта форма par excellence легитимного символического насилия, монополия на которую принадлежит Государству и которая может сопровождаться применением физической силы. Юридические практики и дискурс в действительности являются продуктами функционирования поля, чья специфическая логика двояко детерминирована: с одной стороны, особой расстановкой сил, определяющей его структуру и задающей направление конкурентной борьбе или, точнее говоря, конфликту компетенций, которые в нём имеют место; и, с другой стороны, внутренней логикой юридических текстов, очерчивающих в каждый отдельный момент времени пространство возможного и тем самым — универсум собственно правовых решений. Здесь мы считаем нужным подробнее остановиться на разграничении понятий юридического поля как социального пространства и системы в лумановском, к примеру, понимании: выступая, что вполне правомерно, против редукционизма, теория систем утверждает «самореферентность» «правовых структур», смешивая в этом концепте символические структуры (собственно право) и социальные институты, продуктами которых они являются. Понятно, что, подавая под новым именем старую теорию, согласно которой юридическая система изменяется в соответствии со своими собственными законами, системная теория предлагает сегодня идеальную основу для формального и абстрактного представления юридической системы [5]. Не проводя различия между собственно символическим уровнем норм и воззрений (то есть полем существующих позиций или пространством возможного), который, по мнению Ноне (Nonet) и Зелцник (Selznick), заключает в себе объективные возможности развития или даже векторы изменения, но не содержит принцип своей динамики, и уровнем объективных отношений между агентами и институтами, конкурирующими в борьбе за монополию на право устанавливать право, невозможно понять, что даже несмотря на то, что его язык заимствуется в пространстве занимаемых позиций, принцип изменения юридического поля заложен в нём самом, то есть в борьбе интересов, связанных с различными позициями. Разделение труда в юридическом полеЮридическое поле представляет собой место конкуренции за монополию на право устанавливать право, иначе говоря — нормальное распределение (nomos) или порядок [ordre], в котором сталкиваются агенты, обладающие одновременно социальной и технической компетенцией, заключающейся, главным образом, в социально признанной способности интерпретировать (более-менее вольным или установленным образом) свод текстов, закрепляющих легитимное, то есть правильное, видение мира. Без этого невозможно понять ни относительную автономию права, ни собственно символический результат неузнавания, происходящий от иллюзии его абсолютной автономии по отношению к внешним влияниям. Конкуренция за монополию на доступ к юридическим ресурсам, накопленным предыдущими поколениями, помогает обосновать социальный разрыв между профанами и профессионалами, содействуя непрерывному процессу рационализации, который постоянно увеличивает расхождения между вердиктами, подкреплёнными законом, и наивными интуитивными представлениями о справедливости. При этом у тех, кто контролирует систему юридических норм, и даже в той или иной мере у тех, кто вынужден ей подчиняться, создаётся видимость её абсолютной независимости от соотношений сил, которые она санкционирует и узаконивает. История социального права может служить примером того, что законодательство фиксирует существующее на данный момент соотношение сил и санкционирует завоевания доминируемых, превращая их в признанное законом право (вследствие чего в саму структуру права привносится некая двусмысленность, безусловно способствующая его символической эффективности). К примеру, по мере того как американские профсоюзы приобретали всё большее влияние, соответственно эволюционировал и их правовой статус: если в начале XIX века, в эпоху свободного рынка, коллективные акции наёмных работников клеймились как «заговор преступников» («criminal conspiracy»), то впоследствии профсоюзы постепенно обрели признание со стороны закона [6]. Именно парадоксальная логика разделения труда, достигаемого вне всякой сознательной координации путём структурно упорядоченной конкуренции между агентами и институтами, включёнными в поле, представляет собой истинную первопричину системы норм и практик, которая кажется a priori основанной на справедливости своих принципов, логической стройности формулировок и строгости применения, то есть имеющей источником позитивную логику науки и вместе с тем нормативную логику морали и, следовательно, добивающейся универсального признания в качестве одновременно логической и этической необходимости. В отличие от литературной или философской герменевтики, практика теоретической интерпретации юридических текстов не является самоцелью. Она непосредственно ориентирована на достижение практических результатов и способна иметь практические последствия, платя за свою действенность ограничением собственной автономии. К примеру, возможные разногласия между «официальными толкователями» по необходимости сведены к минимуму, а сосуществование в юридическом строе множества конкурирующих юридических норм попросту исключается [7]. Юридический текст, подобно религиозному, философскому или литературному, оказывается ставкой в борьбе по причине того, что толкование является одним из способов присвоения потенциально содержащейся в нём символической власти. Но хотя юристы и могут спорить по поводу текстов, которые всегда оставляют место для множественности прочтений, они принадлежат строго интегрированной иерархии инстанций, которые способны разрешать конфликты между толкователями и толкованиями. Соперничество между интерпретаторами объективно ограничено тем, что судебные решения, чтобы отличаться от чисто политических актов насилия, должны представать как единственно верный результат правильной интерпретации текстов, чья легитимность не подлежит сомнению. Подобно церкви или школе, правосудие организует согласно строгой иерархии не только судебные инстанции и их компетенции, а значит, их решения и интерпретации, на которые они опираются, но также нормы и источники, придающие этим решениям вес [8]. Следовательно, данное поле, по меньшей мере в периоды своего равновесия, стремится функционировать как аппарат, удваивая связь между спонтанно упорядоченными габитусами благодаря дисциплине иерархизированных властных структур, применяющих кодифицированные процедуры разрешения конфликтов между профессионалами, специализирующимися на правовом разрешении конфликтов. Корпусу юристов несложно убедить себя в том, что основание права находится в нём самом, то есть в его основной норме, например, Конституции в качестве norma normarum, из которой выводятся все нормы низшего порядка, поскольку communis opinio doctorum? ставшее фактором социальной сплочённости корпуса интерпретаторов, стремится подвести трансцендентальное основание под исторические формы юридического сознания и веру в производимое ими упорядоченное видение социального строя [9]. (Norma normarum — [лат.] — основной закон; communis opinio doctorum — [лат.] — авторитетное общее мнение. — Тенденция представлять мировоззрение, свойственное некоторой исторической общности, в виде универсального опыта трансцендентального субъекта характерна для всех полей культурного производства. Это позволяет им рассматривать себя как место актуализации универсального разума, ничем не обязанное социальным условиям, в которых он проявляется. Но в случае «высших факультетов» (теологии, права или медицины), чьи социальные функции, как отмечает Кант в «Конфликте факультетов», не вызывают сомнений, необходим довольно серьёзный кризис этого контракта делегирования, чтобы вопрос об основании — традиционный вопрос философии, который ставился некоторыми авторами, как Келсен, в отношении права, но лишь теоретически, — принял, как сегодня, форму реального вопроса социальной практики. Напротив, вопрос об основаниях научного знания встаёт в самой реальности социального существования с того самого момента, когда «низший факультет» (философия, математика, история и так далее) учреждается как таковой, не имея иной опоры, кроме «разума учёных». И именно несогласие (к примеру, с Витгенштейном или Башляром) с тем, что состав «учёного народа», то есть историческая структура научного поля, представляет собой единственно возможное обоснование научного мышления, обрекает стольких философов на стратегии самозащиты, достойные барона Мюнхгаузена, или на нигилистическое отрицание науки, порождённое всё той же метафизической ностальгией по «основанию», недеконструированному принципу «деконструкции». Эффект априоризма, вписанный в логику функционирования юридического поля, наиболее полно проявляется в юридическом языке, который, сочетая в себе как элементы, взятые напрямую из общеупотребительного языка, так и элементы, чуждые его системе, демонстрирует все признаки риторики безличности и нейтральности. Большинство лингвистических приёмов, использующихся в юридическом языке, направлены на создание двух основных эффектов. Эффект нейтрализации возникает благодаря таким синтаксическим особенностям, как преобладание пассивных конструкций и безличных оборотов, способных выразить безличность нормативного высказывания и представить говорящего в качестве универсального субъекта, беспристрастного и объективного. Эффект универсализации достигается при помощи различных приёмов: систематическое использование изъявительного наклонения при формулировке норм; [10] употребление глаголов в значении констатации в третьем лице единственного числа настоящего или совершенного вида прошедшего времени («принимает», «признает», «заявил» и так далее), свойственное риторике официального констатирования и протокола; использование неопределённых местоимений («каждый осуждённый») и вневременного настоящего (или будущего юридического), призванных выражать всеобщий и вневременной характер закона; ссылка на транссубъективные ценности, предполагающие наличие этического консенсуса (например, «как хороший отец семейства»); применение лапидарных формул и устойчивых выражений, не оставляющих простора для индивидуальных вариаций [11]. Являясь далеко не простой идеологической маской, эта риторика автономии, нейтральности и универсальности, которая может быть принципом действительной автономии мышления и практики, отражает особенности функционирования самого юридического поля Как показывает сравнительная история права, в различных традициях К примеру, специалисты по наследственному праву нередко ставят свою юридическую компетенцию на службу интересам некоторых категорий своих клиентов и разрабатывают многочисленные стратегии, благодаря которым семьи или предприятия способны свести на нет действие закона. Практическое значение закона в действительности не может определяться иначе, чем в конфронтации между различными корпусами, движимыми специфическими разнонаправленными интересами (судейским, адвокатским, нотариальным и так далее), которые также поделены на группы, преследующие подчас противоположные интересы в зависимости от своего положения в профессиональной иерархии, находящегося в прямом соответствии с положением их клиентуры в социальной иерархии. Из вышесказанного следует, что задачей сравнительной социальной истории юридического производства и юридического дискурса по поводу этого производства должно стать систематическое установление связи между позицией, занимаемой [агентом] в этой символической борьбе, и [его] положением в системе разделения юридического труда. К примеру, с большой долей вероятности можнб предположить, что теоретикам и профессорам свойственно ставить акцент скорее на синтаксисе права, в то время как судьи уделяют больше внимания его прагматике. Другой её задачей могло бы стать рассмотрение того, как в зависимости от времени и места меняется относительный вес позиций в пользу того или иного определения юридической работы — в корреляции с тем, как меняется соотношение сил между двумя лагерями, оппозиция между которыми организует структуру поля. Форма самого свода законов и, в частности, степень его формализованности и упорядоченности, несомненно, в немалой степени зависит от относительного веса «теоретиков» и «практиков», профессоров и судей, толкователей и экспертов в соотношениях сил, характеризующих поле (в конкретный момент в определённой традиции), а также от способности каждого из них утвердить своё видение права и его интерпретации. Это позволяет объяснить систематические различия между национальными традициями и, в частности, между так называемой романо-германской и англо-американской системами права. Так, в Германии и Франции право (особенно частное) представляет собой настоящее «право профессоров» (Professorenrecht), поскольку его характеризует примат доктрины (Wissenschaff) над процедурой и всем, что связано с обоснованием решения и его приведением в исполнение. Такое положение вещей выражает и усиливает доминирование высшей судейской администрации, тесно связанной с профессорами, над судьями, которые, окончив университет, склонны признавать легитимность его построений, в отличие от юристов (lawyers), прошедших В англо-американской традиции, напротив, сложилась система прецедентного права ( В действительности, относительный вес различных видов юридического капитала в разных традициях должен быть поставлен во взаимосвязь с общим положением юридического поля в поле власти. Структурные границы эффективности собственно юридического действия зависят от того, чему принадлежит приоритет: «власти закона» (the rule of law) или бюрократическому регламентированию. К примеру, в сегодняшней Франции юридическое действие ограничено тем влиянием, которое оказывают на обширные секторы государственного и частного управления Государство и технократы, вышедшие из Национальной школы администрации. В США, напротив, юристы (lawyers), окончившие престижные правовые факультеты (Гарвард, Йель, Чикаго, Стэнфорд), нередко занимают позиции не только в самом судебном поле, но Антагонизм между обладателями различных видов юридического капитала, вкладывающими в свои толкования очень разные интересы и мировоззрения, не исключает взаимодополняемости их функций В действительности, сложно не заметить, что в основе постоянной конкурентной борьбы за монополию на легитимное осуществление юридической компетенции заложен принцип функциональной динамической комплементарности. Юристы и другие теоретики права стремятся возвести его до уровня чистой теории — иначе говоря, теории, которая представляет собой автономную и самодостаточную систему, очищенную при помощи размышления, опирающегося на принципы логики и справедливости, от любых сомнений и лакун, связанных с его практическим генезисом. В то же время обычные судьи и другие практики, с большим вниманием относящиеся к возможностям его применения для частных случаев, ориентируют право в направлении некой разновидности казуистики и противопоставляют теоретическим трудам по праву инструменты работы, адаптированные к требованиям практики (в первую очередь, это неопгпожность), — реетры судов, постановления, правоведческие словари (а завтра — и банки данных) [14]. Благодаря своей практике, напрямую связанной с разрешением конфликтов и постоянно обновляемым юридическим заказом, судьи несут функцию адаптации к реальности в системе, которая в противном случае рисковала бы закоснеть в рациональном ригоризме профессоров. Обладая большей или меньшей свободой в трактовке законов, они вводят необходимые для выживания системы изменения и инновации, которые затем принимаются теоретиками. Со своей стороны, рационализуя и упорядочивая свод правовых актов, юристы выполняют функцию ассимиляции, обеспечивающую целостность и длительность организованной совокупности принципов и правил, чтобы она не сводилась к противоречивой, сложной и, со временем, не поддающейся систематизации нескончаемой серии судебных постановлений. Тем самым судьи, склонные в силу своего положения и диспозиций полагаться лишь на своё юридическое чутье, получают средство избежать при вынесении своих вердиктов слишком очевидного произвола «кади» юстиции («Кади» (Kadijustiz) — в мусульманских странах судья, единолично осуществляющий судопроизводство на основе шариата. — Прерогативой юристов, по крайней мере в так называемой романо-германской традиции, является не описание существующих практик или условий применения действующих законов, но придание формы принципам и правилам, использующимся в этих практиках, путём выработки организованного свода правил, основанного на рациональных принципах и предназначенного для всеобщего применения. Черпая вдохновение в теологическом образе мысли, когда ищут откровения высшей справедливости при написании закона, и вместе с тем — в логическом, когда стремятся использовать дедуктивный метод, применяя закон к частному случаю, юристы предполагают учредить «помологическую науку», которая позволила бы научно обосновать долженствующее. Будто бы стремясь соединить оба смысла идеи «естественного закона», они практикуют экзегезу с целью рационализировать позитивное право при помощи логического контроля, необходимого для обеспечения непротиворечивости свода законов, а также для дедукции непредусмотренных следствий из текстов и их комбинаций во имя заполнения так называемых «лакун» законодательства. Если, по всей очевидности, не стоит недооценивать историческую эффективность этой кодификации, которая, воплощаясь в своём объекте, становится одним из основных факторов собственного изменения, точно так же не следует излишне доверять экзальтированным представлениям о юридической деятельности, предлагаемым её теоретиками, которые, подобно Мотюльски, пытаются доказать, что «юридическую науку» определяет чистый и чисто дедуктивный метод обработки данных, или «юридический силлогизм», позволяющий подводить частный случай под общее правило [15]. Тому, кто не имеет отношения к полю и, следовательно, не разделяет непосредственной веры (illusio) в допущения, лежащие в самой основе его функционирования, сложно поверить, что самые чистые построения юристов, не говоря уже о постановлениях обычных судей, подчиняются лишь дедуктивистской логике, являющейся предметом «духовной чести» профессионального юриста. Как смогли показать «реалисты», не имеет смысла искать абсолютно рациональную юридическую методологию: необходимое применение закона к некоторому частному случаю в действительности предполагает конфликт различных прав, между которыми должен выбирать суд. «Закон», выведенный из предыдущего случая, никогда не может быть в том же виде применён в новом, поскольку на практике не существует двух идентичных дел и судья должен определять, может ли упомянутый закон быть распространён на новый случай [16]. Одним словом, не являясь простым исполнителем, непосредственно применяющим закон в конкретном случае, судья располагает некоторой автономией, степень которой несомненно является лучшим мерилом его позиции в структуре распределения специфического капитала юридической власти [17]. Его приговоры, вдохновляемые той же логикой и ценностями, что и толкуемые им тексты, имеют функцию настоящего изобретения. Если наличие письменных правил, без сомнения, способствует уменьшению вариативности поведения, агенты юридического поля могут тем не менее, обращаться и подчиняться требованиям закона с большей или меньшей строгостью: в судебных решениях (как и во всей совокупности актов, которые им предшествуют и их предопределяют — например, в решениях полиции, связанных с задержанием) всегда остаётся некоторая доля произвольности за счёт таких организационных переменных, как состав принимающей решение группы или характеристики подсудимых. Толкование актуализирует норму, адаптируя источники к новым обстоятельствам, открывая в них не известные до тех пор возможности и отбрасывая то, что отмерло или потеряло свою актуальность. Учитывая чрезвычайную эластичность текстов, порой доходящую до неопределённости или двусмысленности, герменевтическая операция declaratio располагает огромной свободой. Не так уж редко право — этот послушный, податливый, гибкий, полиморфный инструмент — в действительности привлекается для того, чтобы рационализировать ex post решения, к которым оно не имело никакого отношения. Все юристы и судьи (правда, в неодинаковой степени) обладают властью эксплуатировать полисемичность или двусмысленность юридических формул, прибегая либо к restrictlo — приёму, использующемуся для того, чтобы не применять закон, который при буквальном прочтении должен бы быть применён; либо к extensio — приёму, позволяющему применить закон, чей буквальный смысл этого не подразумевает; либо все другие техники, которые, подобно аналогии, различию между духом и буквой, стремятся максимально выгодно использовать эластичность закона, а также существующие в нём противоречия, двусмысленности или лакуны [18]. Фактически, толкование закона никогда не является лишь актом судьи, занятого поиском юридического обоснования решения, которое, по крайней мере, Судебное решение, в большей степени зависящее от этических диспозиций агентов, чем от чистых норм права, приобретает статус вердикта благодаря рационализации, придающей ему символическую эффективность, которой обладает всякое действие в действительности произвольное, но признанное легитимным. Этот особый результат, по меньшей мере частично, объясняется тем, что, как правило (если специально не обратить на это внимание), впечатление логической необходимости, навеянное формой, переносится и на содержание. Рациональный или рационализаторский формализм права, который, вслед за Вебером, противопоставляется магическому формализму ритуалов и архаических процедур суда (таких, как индивидуальная или коллективная клятва), способствует символической эффективности самого рационального права [19]. И ритуал, целью которого является экзальтация субъекта акта толкования (зачитывание вслух текстов, анализ и провозглашение заключений и так далее) и который является предметом изучения начиная с Паскаля, служит только сопровождением коллективного усилия сублимации, призванного засвидетельствовать, что решение выражает не волю и мировосприятие судьи, но voluntas legis (Voluntas legis (или legislatoris — [лат.] — воля закона, или законодателей. — Установление монополииФормирование «судебного пространства» обязательно предполагает границу между теми, кто готов войти в игру, и теми, кто чувствует себя чуждым ей, поскольку не способен произвести требующуюся для входа в это социальное пространство конверсию всего умственного строя — и, в частности, языковой установки. Приобретение собственно юридической компетенции, техническое овладение научным знанием, часто противоречащим простым требованиям здравого смысла, влечёт за собой дисквалификацию чувства справедливости неспециалистов и отмену их спонтанного истолкования фактов, их «видения дела». Разрыв, существующий между простым видением того, кто станет подсудимым, то есть клиентом, и учёным видением эксперта, судьи, адвоката, юрисконсульта и тому подобным, имеет существенное значение; он образует отношение власти, создающее две различные системы допущений, экспрессивных намерений — одним словом, два мировосприятия. Этот разрыв, лежащий в основе запрета на вход в поле профанов, возникает за счёт того, что через его структуру, а также через систему принципов видения и деления, вписанных в его основной закон, то есть конституцию, налагается система обязательных требований, главным из которых является императив принятия глобальной установки, заметной, в частности, в области языка. И если можно легко понять, что, подобно любому научному языку (например, философскому), язык права заключается в специфическом использовании общеупотребительного языка, исследователям непросто обнаружить истинный принцип этой «смеси зависимости и независимости» [20]. Для этого явно недостаточно сослаться на эффект контекста или «сети», в значении Витгенштейна, которые отрывают слова и выражения от их обычного смысла. Превращение, охватывающее всю совокупность лингвистических черт, связано с принятием глобальной установки, являющейся не чем иным, как инкорпорированной формой системы принципов видения и деления мира, конституирующей поле, которое само характеризуется независимостью благодаря и посредством зависимости. Остин удивлялся тому, что никто никогда всерьёз не задумывался над вопросом, почему мы «называем разные вещи одним и тем же именем»; и почему, как мы могли бы добавить, никто не испытывает от этого большого неудобства. Если юридический язык может себе позволить использовать слово для обозначения вещей, никак не связанных с его обычным значением, то только потому, что эти два различных употребления принадлежат различным стилям языка, которые, подобно перцептивному и образному сознанию в терминах феноменологии, взаимно исключают друг друга — так, что «омонимическая коллизия» (или недоразумение), возникающая в результате встречи в одном пространстве двух означаемых, становится совершенно невозможна. Принцип сдвига между двумя означающими, который обычно рассматривают как эффект контекста, есть не что иное, как результат дуализма мыслительных пространств, соответствующих разным социальным пространствам, с которыми они связаны. Это несоответствие установок является структурным основанием для недоразумений, которые могут возникать между пользователями научного кода (медиками, судьями и так далее) и профанами — как на синтаксическом, так и на лексическом уровне: к примеру, когда слова общеупотребительного языка, чей смысл в научном контексте изменяется в сравнении с обыденным, функционируют для профана как «ложные друзья» [21]. Суд функционирует как нейтральное место, в котором происходит настоящая нейтрализация ставок посредством их отрыва от действительности и дистанцирования, превращающих прямое столкновение интересов в диалог посредников. В качестве третьих лиц, напрямую не вовлечённых в дело (что не означает — не имеющих своего интереса) и обученных рассматривать ещё горячие факты настоящего, ссылаясь на канонические тексты и патентованные прецеденты, специализированные агенты вводят — сами того не зная и не желая — нейтрализующую дистанцию, которая, по меньшей мере, в случае судей становится В этом смысле интересны представления «туземцев», описывающих суд как отдельное очерченное пространство, в котором конфликт трансформируется в диалог экспертов, и определяющих судебный процесс как упорядоченное продвижение к истине [23]. Они ещё раз демонстрируют одно из измерений символического эффекта юридического действия как рационального и свободного применения универсальной и научно обоснованной нормы [24]. Являясь на деле политическим компромиссом между непримиримыми требованиями, в то же время предстающим как логический синтез противостоящих тезисов, судебный вердикт конденсирует всю неоднозначность юридического поля. Своей специфической действенностью он обязан тому, что порождается в соответствии с логикой политического поля, организованного вокруг противостояния между друзьями или союзниками и противниками и стремящегося исключить арбитражное посредничество третьих лиц, и одновременно — в соответствии с логикой научного поля, которое, при высокой степени автономии, стремится придать первостепенную практическую значимость оппозиции между истинным и ложным, вверяя власть арбитра конкуренции между равными профессионалами [25]. Судебное поле представляет собой упорядоченное социальное пространство, в котором и через которое происходит преобразование конфликта непосредственно заинтересованных сторон в юридически регламентированные прения между профессионалами, ведущими дело по доверенности и разделяющими знание и признание правил юридической игры, то есть писаных и неписаных законов поля; в том числе тех, которые необходимы для того, чтобы суметь обойти букву закона (у Кафки адвокат вызывает не меньшую тревогу, чем судья). От Аристотеля до Кожева юристу часто давалось определение «третейского посредника», где основной является идея посредничества (а не арбитража) и то, что из него следует, то есть потеря контроля над прямым и непосредственным ведением собственного дела: перед судящимися высится трансцендентная власть, несводимая к противостоянию частных мировоззрений и представляющая собой структуру и принципы функционирования социального пространства, в котором имеет место это противостояние. Требуя безоговорочного принятия фундаментального закона юридического поля — его основополагающей тавтологии, согласно которой конфликты здесь могут разрешаться только юридическим путём, иначе говоря — в соответствии с правилами и условностями юридического поля, вход в юридический мир предполагает также полное переопределение обыденного опыта и самой ситуации, являющейся причиной тяжбы. Структура юридического поля представляет собой принцип структурирования реальности (это верно в отношении любого поля). Войти в игру, согласиться в неё играть, положиться в урегулировании конфликта на право — всё это означает имплицитное принятие такого способа выражения и дискуссии, который подразумевает отказ от физического насилия и от простейших форм символического насилия, как, например, оскорбление. Это также означает, что особенно важно, согласие со специфическими требованиями юридического конструирования объекта. Учитывая, что юридические факты являются продуктом юридического построения (а не наоборот), требуется настоящее переосмысление всех аспектов «дела», чтобы ропеге сашат, как говорили латиняне, или чтобы представить предмет спора в качестве дела, то есть в качестве юридической проблемы, способной стать объектом юридических прений. Требуется также выделить всё то, что заслуживает внимания с точки зрения принципа юридической уместности, или всё то, что может иметь ценность как факт, как аргумент, благоприятный или неблагоприятный и так далее. Вслед за Остином можно выделить три требования, содержащиеся в контракте на вход в поле судебной практики. Правило, предписывающее придерживаться предыдущих юридических решений при принятии нового, stare Опираясь на традицию так называемой dispute theory не разделяя, однако, всех её положений), мы можем дать описание коллективной работы по «категоризации», направленной на трансформацию полученного ущерба, даже если он не был замечен, в точно сформулированную жалобу, а обычного спора — в процесс. В действительности, нет ничего менее естественного, чем «юридическая необходимость» или, что по сути одно и то же, чувство перенесённой несправедливости, толкающие к тому, чтобы прибегнуть к услугам профессионала. Известно, что чувствительность к несправедливости или способность воспринять некий опыт как несправедливый распределены неравномерно и напрямую зависят от позиции в социальном пространстве. Это означает, что переход от незамеченного ущерба к ущербу осознанному, идентифицированному и идентифицирующему виновника предполагает работу по конструированию социальной реальности, которая, как правило, является прерогативой профессионалов. Осмысление несправедливости как таковой происходит вследствие осознания своих прав (entitlement), и специфическая власть профессионалов заключается в способности выявить эти права и, следовательно, факты их нарушения либо, наоборот, признать несостоятельным чувство несправедливости, основанное исключительно на субъективном чувстве, и тем самым отсоветовать отстаивать эти субъективные права в судебном порядке — иначе говоря, манипулировать юридическими нуждами, создавая их в некоторых случаях, усиливая либо сводя на нет — в других. Одна из наиболее значимых способностей lawyers состоит в расширении, преувеличении конфликтов: эта собственно политическая работа заключается в том, чтобы изменять допустимые дефиниции, изменяя слова или этикетки, присваиваемые лицам или вещам, чаще всего прибегая к категориям юридического языка, с тем, чтобы ввести данное лицо, действие, отношение в более широкий класс явлений [29]. Кроме того, именно профессионалы создают нужду в своих собственных услугах, преобразуя проблемы, выраженные на обычном языке, в юридические проблемы посредством их перевода на язык права и заранее предлагая оценку шансов на успех, как и последствий выбора той или иной стратегии. Нет сомнений, что при конструировании конфликтов ими движут финансовые интересы, но также их этические или политические диспозиции, то есть принцип социальной близости с клиентами (к примеру, известно, что некоторые lawyers отговаривают клиентов отстаивать свои законные права против крупных предприятий, в частности, в области потребления), и наконец — их наиболее специфические интересы, которые определяются через их объективные отношения с другими специалистами и актуализируются в зале суда (где происходит имплицитный или эксплицитный торг). Закрытость, являющаяся следствием самой логики функционирования поля, проявляется в том, что судебные инстанции стремятся вырабатывать целые специфические традиции и, в частности, категории восприятия и оценки, никак не сводимые к категориям неспециалистов, порождая свои проблемы и свои решения согласно логике, полностью герметичной и недоступной для профанов [30]. Изменение мыслительного пространства, логически и практически связанное со сменой пространства социального, обеспечивает эксклюзивный контроль над ситуацией обладателям юридической компетенции, которые занимают позицию, позволяющую им преобразовать данную ситуацию в соответствии с фундаментальным законом поля. Те, кто соглашаются войти в юридическое поле и тем самым отказываются от поиска самостоятельного решения конфликта (при помощи силы или неофициального посредника, либо путём прямого поиска полюбовного соглашения), становятся простыми клиентами профессионалов. Юридическое поле преобразует доюридические интересы агентов в судебные дела и превращает в капитал компетенцию, дающую контроль над юридическими ресурсами, требуемыми логикой поля. Образование юридического поля невозможно без установления монополии профессионалов на производство и коммерциализацию той особой категории товаров, какой являются юридические услуги. Юридическая компетенция представляет собой специфическую власть, позволяющую контролировать доступ в юридическое поле, определяя, какие конфликты заслуживают того, чтобы туда войти, Лучшим доказательством вышеприведённых утверждений могут служить последствия, к которым привёл, как в Европе, так К примеру, жертвой этого процесса стали примирительные конфликтные комиссии, являвшиеся последним прибежищем некой разновидности третейского суда, основанного на чувстве справедливости и осуществлявшегося людьми от практики согласно простым процедурам [32]. Вследствие объективного согласия между наиболее образованными представителями профсоюзов и некоторыми юристами, которые, извлекая выгоду из щедрой заботы об интересах самых обездоленных, расширяют рынок, открытый для их услуг, — этот островок юридического самопотребления постепенно оказался включённым в рынок, контролируемый профессионалами. При вынесении и обосновании своих решений третейские судьи всё чаще вынуждены обращаться к праву, в частности, В общем, по мере того как складывается поле (в данном случае — субполе), постепенно набирает обороты процесс кругового усиления: каждый новый шаг в сторону «юридизации» одного из аспектов практики порождает новые «юридические потребности» и, следовательно, новые юридические интересы у тех, кто, обладая необходимой специфической компетенцией (например, «трудовое право»), завоёвывает новый рынок. Вмешательство профессиональных юристов приводит ко всё большей юридической формализации процедур и, таким образом, способствует увеличению спроса на их собственные услуги и товары. В то же время профаны, вынужденные прибегать к советам профессионалов, которые постепенно займут место истцов и ответчиков, превращаются в простых судящихся [34]. Согласно той же логике, вульгаризация трудового права профсоюзами, обеспечивающая хорошее знание юридических норм и процедур значительному числу непрофессионалов, не послужила тому, чтобы вернуть пользователям некоторые инструменты права в ущерб монополии юристов, но, скорее, сместила границу между профанами и профессионалами. Поскольку, подчиняясь логике конкуренции внутри поля, эти последние были вынуждены удвоить наукообразность, чтобы сохранить монополию легитимной интерпретации и избежать обесценивания, связанного с самим положением дисциплины, занимающей подчинённое положение в юридическом поле [35]. Существуют и другие проявления этого конфликта между стремлением к расширению рынка через завоевание сектора, принадлежащего сфере юридического самообеспечения (стремлением, которое может быть реализовано тем более успешно, как в случае третейских судов, чем более оно бессознательно или невинно), и увеличением автономии, то есть разрыва между профессионалами и профанами. К примеру, полупрофессиональные посредники, действующие в рамках дисциплинарных инстанций частных предприятий, старательно заботятся о том, чтобы сохранять по отношению к профанам ту дистанцию, которая определяет принадлежность к полю и для которой губительна слишком прямая защита интересов доверителей. Они стремятся придать своим выступлениям больше техничности, с целью лучше обозначить разрыв с теми, чьи интересы они защищают, и таким образом придать больше авторитета и нейтральности своей защите, что, однако, рискует войти в противоречие с самой логикой ситуации полюбовного разрешения конфликта [36]. Власть номинацииСудебный процесс, представляющий собой противоборство частных, нераздельно когнитивных и оценочных, точек зрения, под которым подводит черту торжественно оглашаемый вердикт социально признанной «власти», является парадигматической мизансценой символической борьбы, разыгрываемой в социальном мире. Ставку в этой борьбе, в которой сталкиваются разные, а подчас противоположные, мировоззрения, стремящиеся в меру своего влияния добиться признания и тем самым реализоваться, составляет монополия на власть навязывать всем остальным своё понимание социального мира: nomos как универсальный принцип видения и деления (пето означает разделять, делить, распределять), а следовательно, легитимного распределения [37]. В этой борьбе судебная власть — через приговоры, подразумевающие определённые санкции, которые могут выражаться в таких актах физического насилия, как лишение жизни, свободы или имущества, — выражает точку зрения, трансцендентную по отношению к частным перспективам, иначе говоря — верховный взгляд Государства, обладающего монополией на легитимное символическое насилие. В отличие от частного высказывания (idios logos), например, оскорбления, которое, исходя от обычного человека и выражая точку зрения лишь его автора, не обладает символической эффективностью, приговор судьи, ставящий точку в конфликтах или тяжбах по поводу вещей или лиц, публично провозглашая истину о них в последней инстанции, принадлежит к классу актов номинации [nomination] или учреждения [institution] и представляет собой форму в высшей степени авторизованной речи, публичной, официальной, произносимой именем каждого и пред лицом каждого. В качестве компетентных суждений, публично формулируемых агентами, выступающими как полномочные представители коллектива Право узаконивает сложившийся порядок, легитимируя видение этого порядка, которое обеспечивается Государством и представляет его точку зрения. Оно присваивает агентам гарантированную идентичность, гражданское состояние и, главное, социально признанные, а значит, продуктивные компетенции (или возможности) путём распределения прав на их использование — званий (учебных, профессиональных), свидетельств (о профпригодности, инвалидности, болезни); а также санкционирует все процессы, связанные с получением, увеличением, передачей или лишением этих прав. Вердикты, посредством которых право распределяет разные объёмы разных видов капитала среди различных агентов (или институтов), кладут конец (или хотя бы очерчивают границы) борьбы, торга или тяжбы относительно свойств лиц или групп, принадлежности лиц или групп, а значит — по поводу правильного присвоения имён, собственных либо нарицательных (например, званий), относительно союзов либо рызрывов. Одним словом, при их помощи ведётся вся практическая работа по обустройству мира (worldmaking) — свадьбы, разводы, кооптации, ассоциации, роспуски и так далее, — которая лежит в основе организации групп. Право, безусловно, является наивысшей формой символической власти номинации, создающей именованные вещи и, в частности, группы. Реалии, возникшие в результате этих операций классификации, наделяются полной степенью постоянства — постоянства вещей, — какой один исторический институт способен наделить другие исторические институты. Право является наивысшей формой активного дискурса, обладающего властью вызывать реальные последствия. Не будет преувеличением сказать, что оно создаёт социальный мир, но при этом не следует забывать, что само оно является его порождением. Императив реалистического соответствия объективным структурам в неменьшей степени довлеет и над символической властью в её профетической, еретической, антиинституциональной и подрывающей устои форме. Несмотря на то, что творческая сила представлений в науке, искусстве или политике с наибольшей силой проявляется именно в периоды революционных потрясений, стремление изменить мир, изменяя называющие его слова, производя новые категории восприятия и оценки, предписывая новое видение делений и распределений, имеет шансы на реализацию лишь при том условии, что эти пророчества, словотворчества хотя бы отчасти предвидят, предвосхищают будущее. Они вызывают к жизни то, что предвещают — новые практики, новые нравы и, особенно, новые группы, поскольку предвещают то, что уже совершается, громко заявляя о своём приходе. Их можно сравнить скорее с работниками мэрии, делающими запись о рождении, чем с самими роженицами. Придавая реальным и потенциальным историческим фактам всю полноту легитимности, заключённую в пророческом провозвестии, при помощи эффекта узаконивания, или даже освящения, возникающего в результате оглашения и официализации, они позволяют им полностью осуществиться, иными словами — приобрести известность, признание, официальный статус (в противоположность позорному, ублюдочному, официозному существованию). Итак, только реалистический (или реально обоснованный) номинализм позволяет объяснить магический эффект номинации, этого акта символического насилия, который достигает цели лишь благодаря тому, что не противоречит реальности. Любые акты социальной магии, канонической формой которой является юридическая санкция, могут быть действенны при условии того, что собственно символическая власть легитимации, или лучше натурализации (естественным является то, легитимность чего не вызывает сомнений), накладывается на имманентную силу истории, удваиваемую или освобождаемую благодаря их авторитету и их санкции. Данные размышления могут показаться никак не связанными с реальностью юридической практики, однако они необходимы для того, чтобы понять сам принцип, лежащий в основе символической власти. Призвание социологии состоит в том, чтобы напоминать вновь и вновь, что общество, по выражению Монтескьё, нельзя изменить при помощи декрета. В то же время знание социальных условий действенности юридических документов не должно вести к отрицанию или игнорированию того, что составляет собственную эффективность правила, подзаконного акта или закона. Если в ответ на юридизм мы стремимся вернуть диспозициям габитуса их законное место в объяснении практик, то это ни в коей мере не означает, что мы выносим за рамки рассмотрения собственное действие эксплицитного правила, особенно если оно влечёт за собой конкретные санкции, как в случае юридических актов. И наоборот, если не вызывает сомнения, что право обладает специфической эффективностью, которой оно обязано, в частности, символической работе кодификации, приданию формы и формулированию, нейтрализации и систематизации, осуществляемой профессионалами согласно внутренним законам их мира, не будем забывать, что эта эффективность, строящаяся на принципах, противоположных тотальному непослушанию либо послушанию, основанному на чистом принуждении, возможна лишь при условии, что право обладает социальным признанием и встречает (пусть молчаливое или частичное) согласие благодаря хотя бы видимости своего соответствия действительным нуждам и интересам [38]. Власть формыЮридическую практику, как и религиозную, определяет отношение между юридическим полем, то есть принципом юридического предложения, рождаемого в конкуренции между профессионалами, и спросом профанов, который всегда отчасти обусловлен эффектом предложения. При этом постоянно возникает конфронтация между предлагаемыми юридическими нормами, выражающими, по крайней мере, в своей форме всеобщее, и социальным заказом, неизбежно разнородным или даже конфликтным и противоречивым, который объективно вписан в сами практики в актуальном или потенциальном виде (в форме нарушения либо инновации, вводимой этическим или политическим авангардом). Легитимность, обретаемая правом и юридическими агентами в рутине правоприме-ненительной практики, не может быть понята ни как результат всеобщего признания, оказываемого судящимися правосудию, которое, согласно профессиональной идеологии юридического корпуса, являлось бы выразителем всеобщих и вечных ценностей, трансцендентных по отношению к частным интересам, ни, наоборот, как результат вынужденного согласия, которое всего лишь регистрировало бы существующую мораль, расстановку сил или, точнее говоря, интересы доминирующих групп [39]. Пора прекратить бесконечный спор о том, рождается ли власть наверху или внизу, является ли разработка законодательства и его изменение результатом «движения» нравов навстречу закону и приспособления коллективных практик к их юридической кодификации, или, наоборот, юридических форм и формул — к практикам, которые они закрепляют. Вместо этого необходимо сфокусировать внимание на совокупности объективных отношений, возникающих между юридическим полем — местом, характеризующимся сложными связями и обладающим относительной автономией, и полем власти, а через него — всем социальным полем. Именно внутри этого универсума отношений определяются средства, цели и специфические следствия юридической деятельности. Следовательно, чтобы понять, что есть право, каковы его структура и социальное действие, помимо состояния социального заказа, существующего или потенциального, и социальных условий (в основном, негативных) «юридического творчества», необходимо проанализировать собственную логику юридической работы в её наиболее специфических чертах, иными словами — формализующую деятельность, а также социальные интересы агентов формализации, которые определяются в конкуренции, существующей внутри юридического поля, а также между этим полем и полем власти в целом [40]. Не вызывает сомнения, что практика агентов, ответственных за производство и применение права, во многом определяется теми сходствами, которые объединяют носителей высшей формы символической власти с обладателями преходящей, экономической или политической, власти, несмотря на любые конфликты компетенций, которые могут возникать между ними [41]. Близость их интересов и особенно схожесть габитусов, обусловленная сходным семейным и школьным воспитанием, обеспечивают родственность мировоззрений. Следовательно, не слишком велика доля вероятности того, что выбор, который должны поминутно осуществлять специалисты права между различными интересами, ценностями и мировоззрениями, окажется не в пользу власть имущих, поскольку этос юридических агентов, лежащий в его основе, и имманентная логика юридических текстов, цитируемых с целью его обоснования и подкрепления, согласуются с интересами, ценностями и мировоззрением доминирующих групп. Факты, свидетельствующие о принадлежности судей к доминирующему классу, встречаются всюду и во все времена. К примеру, Марио Збриколли показывает, что в небольших коммунах средневековой Италии обладание юридическим капиталом, этой особенно редкой разновидностью культурного капитала, открывало доступ к властным позициям. Так и во Франции при Старом порядке представители дворянства мантии, менее престижного, чем дворянство шпаги, всё же принадлежали, нередко от рождения, аристократии. Сходным образом в исследовании, посвящённом социальному происхождению судей, начавших профессиональную деятельность до 1959 года, Соважо устанавливает, что подавляющее большинство из них происходит из семей, имеющих юридическую традицию, и шире — из буржуазии. Но специфика власти права состоит в том, что она распространяется за пределы круга лиц, признающих её априори в силу практической схожести интересов и ценностей, воплощённых в юридических текстах, а также в этических и политических диспозициях тех, кто отвечает за их применение. Кроме того, не вызывает сомнения, что претензия юридической доктрины и судебной процедуры на универсальность, реализующаяся в рутине формализации, помогает обоснованию их практической «универсальности». Символическая власть, как известно, не может осуществляться без неосознанного или даже вынужденного согласия со стороны тех, кто ей подчиняется. Представляя собой высшую форму легитимного дискурса, право может быть действенно лишь в той мере, в какой ему удаётся получить признание; иначе говоря — при том условии, что остаётся в тени большая или меньшая часть произвола, лежащего в основе его функционирования. Постоянное воспроизводство веры в юридический порядок является одной из функций собственно юридической работы, заключающейся в кодификации этических представлений и практик и способствующей внушению профанам основ профессиональной идеологии юристов, то есть веры в нейтральность и автономию права [43]. Жак Эллюль пишет: «Право возникает в тот момент, когда императив, сформулированный одной из социальных групп, начинает приобретать универсальное значение, облекаясь в юридическую форму» [44]. Это означает, что универсализация неразрывно связана с формализацией и формулированием. Правовая норма предполагает, с одной стороны, связь с общественными ценностями (проявляющимися на бытовом уровне в виде таких спонтанных коллективных санкций, как моральное осуждение), У права есть множество способов воздействия на социальный мир. Кодификация выводит нормы из игры случайных событий, фиксируя решение (к примеру, постановление суда) в форме, предназначенной служить моделью для последующих решений, а также делает возможной и, более того, выносит на первый план логику прецедента, лежащую в основе собственно юридического образа мышления и действия. Благодаря этому право непрерывно связывает настоящее с прошлым и создаёт гарантии того, что будущее будет создаваться по образу прошлого, что неизбежные изменения и адаптации будут осмыслены и сформулированы на языке, не противоречащем прошлому (кроме революционных ситуаций, когда могут быть поставлены под вопрос сами основы юридического строя). Так, действуя в рамках охранительной логики, право является одним из наиболее важных факторов поддержания символического порядка: [46] систематизируя и рационализируя юридические решения и законы, которые используются для их принятия и обоснования, оно утверждает универсальный характер — фактор par excellence символической эффективности — той точки зрения на социальный мир, которая по существу совпадает с мировоззрением доминирующих групп. Тем самым оно ведёт к практической универсализации, то есть к генерализации на уровне практик, некоторого способа действия и выражения, который до тех пор являлся особенностью одной из многих областей географического или социального пространства. Как замечает Жак Эллюль, «законы, вначале навязанные извне, могут быть постепенно признаны полезными; со временем и по мере применения они становятся частью достояния коллектива: этот последний был постепенно сформирован при помощи права, а законы стали действительно «правом» лишь тогда, когда общество согласилось принять эту форму. Даже такая совокупность правил, которая применялась бы в течение не очень длительного времени на основе принуждения, обязательно оставит в обществе свой след. создав некоторое число юридических и моральных «привычек» [47]. В дифференцированном обществе эффект универсализации является одним из наиболее мощных механизмов, через которые осуществляется символическое доминирование или, иначе говоря, легитимация определённого социального порядка. Узаконивая практические принципы стиля жизни доминирующего класса в виде формально непротиворечивой совокупности официальных и, по определению, «универсальных» правил, юридическая норма реально формирует практики совокупности агентов вне зависимости от условий и стиля их жизни. То есть эффект универсализации, который можно было бы также назвать эффектом нормализации, удваивает социальное влияние, оказываемое легитимной культурой и её носителями, чтобы придать системе юридического принуждения всю её практическую силу [48]. Юридическая инстанция совершает нечто вроде повышения онтологического статуса, превращая регулярно совершаемое действие в правило (то, что подобает делать), фактическую норму — в правовую норму, простое семейное fides (Fides [лат.] — доверие, вера.), основанное на поддержании взаимного признания и чувства, — в семейное право, вооружённое целым арсеналом инстанций и способов воздействия, как, например, система социального страхования и выплат пособий на семью, и так далее. Тем самым она, несомненно, способствует универсализации представлений о норме, по отношению к которой все другие практики будут казаться девиантнъши, анемическими, анормальными, патологическими (особенно если на помощь «юридическим» приходят «медицинские» критерии). Так, семейное право ратифицирует и канонизирует в форме «универсальных» норм те семейные практики, которые складывались постепенно — под влиянием этического авангарда доминирующего класса — внутри совокупности институций, социально уполномоченных управлять внутрисемейными социальными отношениями и, в частности, отношениями между поколениями. К примеру, как показал Реми Ленуар, право во многом способствовало тому, чтобы ускорить распространение модели устройства и воспроизводства семейной единицы, которая в некоторых областях социального (и географического) пространства и особенно в среде крестьян и ремесленников столкнулась с социальными и экономическими препятствиями, связанными, прежде всего, со специфической логикой функционирования малого предприятия и его воспроизводства [49]. Мы видим, что тенденция к универсализации собственного стиля жизни (широко признаваемого как образец для подражания), которая является одним из следствий этноцентризма доминирующих классов и на которой зиждется вера в универсальность права, лежит также в основе идеологии, стремящейся превратить право в инструмент изменения социальных отношений. Вышесказанное позволяет понять, что данная идеология кажется основанной на фактах реальности: практические принципы и этические требования, подвергаемые юристами формализации и генерализации, возникают отнюдь не в любой области социального пространства. Подобно тому как настоящая ответственность за применение права лежит не на отдельных судьях, но на всей совокупности нередко конкурирующих друг с другом агентов, устанавливающих и опознающих правонарушения и преступников, настоящим законодателем является не автор проекта закона, но все те агенты, которые, выражая специфические интересы и обязательства, ассоциируемые с их положением в различных полях (в юридическом поле, но также в религиозном, политическом и так далее), сначала вырабатывают частные и неофициальные устремления и требования, а затем придают им статус «социальных проблем», организуя с целью их «продвижения» формы публичного волеизъявления (статьи, книги, платформы ассоциаций или партий) и давления (манифестации, петиции, требования). Весь этот процесс конструирования и формулирования представлений узаконивается правом, которое придаёт ему силу всеобщности и универсальности, заключённую в юридической технике и средствах принуждения, которые она позволяет мобилизовать. Следовательно, в самом деле существует эффект собственно юридического предложения, то есть относительно автономного «юридического творчества», которое становится возможным благодаря еуществованию специализированного поля производства и которое поддерживает усилия доминирующих либо возвышающихся групп, совершаемые с целью навязать — особенно в критических и революционных ситуациях — официальное представление о социальном мире, совпадающее с их мировоззрением и не противоречащее их интересам [50]. Остаётся лишь удивляться тому, что в размышлениях об отношениях между нормой и патологией так мало места отводится собственно эффекту права: будучи инструментом нормализации par excellence, а также являясь дискурсом власти и располагая физическими средствами принуждения, право со временем способно перейти от статуса ортодоксии, то есть веры в то, что эксплицитно определено как должное, к статусу доксы, то есть непосредственного принятия Но мы не смогли бы полностью понять этот эффект натурализации, не охватив в своём анализе наиболее специфический результат юридической формализации, то есть vis formae, или власть формы, о которой говорили древние. Если мы согласимся с тем, что формирование практик путём их юридической формализации может достичь своей цели лишь при условии того, что право даёт определённую форму тенденции, уже существующей на практике, и что приживаются только те законы, которые, как принято говорить, узаконивают и так соответствующие закону ситуации, то переход от статистической регулярности к юридической норме означает уже настоящее изменение, имеющее социальную природу. Устраняя исключения и неопределённость размытых совокупностей, вводя резкие разрывы и строгие границы в континууме статистических пределов, кодификация привносит в социальные отношения ясность, предсказуемость и тем самым рациональность, которую не могут полностью обеспечить практические принципы габитуса или санкции обычая, являющиеся продуктом непосредственного применения к частному случаю этих несформулированных принципов. Не соглашаясь с философами в том, что истинность идеи является её «сущностным качеством», необходимо признать социальную реальность символической эффективности, которой «формально-рациональное», говоря языком Вебера, право обязано собственному эффекту формализации. Объективируя в специально издаваемых правилах и постановлениях схемы, практическим и недискурсивным образом управлявшие поведением, кодификация позволяет произвести то, что в действительности можно было бы назвать гомологацией [homologation] (homologeon означает «соглашаться» или «говорить на том же языке»). Подобно тому как объективация практического кода в виде эксплицитного кода позволяет разным говорящим связывать с одним и тем же услышанным звуком один и тот же смысл и передавать одинаковый смысл при помощи одного и того же звука, формальное изложение принципов делает возможной эксплицитную верификацию консенсуса относительно принципов этого консенсуса (или диссенсуса). И хотя кодификационная работа не может быть уподоблена аксиоматизации, по причине того, что право заключает в себе многие тёмные зоны, оправдывающие существование юридического комментария, гомологация создаёт условия для некой формы рационализации, понимаемой, вслед за Максом Вебером, как предсказуемость и просчитываемость. В отличие от двух игроков, которые, не договорившись о правилах игры, обречены обвинять друг друга в нечестности всякий раз, когда будет возникать несогласие по поводу того, как каждый их себе представляет, действующие в рамках кодифицированного предприятия агенты знают, что они могут рассчитывать на норму, логичную и не таящую уловок, а следовательно, просчитывать и предвидеть результат подчинения правилам, как и последствия их нарушения. Но наиболее полно блага гомологации раскрываются для тех, кто сам принадлежит упорядоченному миру юридического формализма: участие в инициируемой ей высоко рационализованной борьбе на деле зарезервировано для обладателей сильной юридической компетенции, с которой связана — особенно, у адвокатов — специфическая компетенция профессионалов юридической борьбы, натренированных вместо оружия использовать формы и формулы. Остальным не остаётся ничего иного, как подчиняться власти формы, то есть символическому насилию, осуществляемому теми, кто, благодаря своему искусству облекать в форму и манипулировать формами, умеет привлечь право на свою сторону и, в худшем случае, ставить самое безупречное соблюдение формальной строгости, summum jus (Summum Jus — [лат.] — высший закон, право), на службу наименее благородным целям, summa injuria (Summa injuria — [лат.] — высшая несправедливость. — Эффекты гомологииНо при анализе символической действенности права необходимо учитывать также феномен приспособления юридического предложения к юридическому спросу, что является результатом не осознанных согласований, а, скорее, структурных механизмов — таких, как гомология между различными категориями производителей или продавцов юридических услуг и различными категориями клиентов. Юристы, занимающие подчинённое положение в поле (к примеру, специалисты по социальному праву), имеют дело преимущественно с клиентурой из низших классов, что ещё более ослабляет их позиции (этим объясняется тот факт, что любая их попытка изменить существующее положение имеет мало шансов реально перевернуть соотношение сил в поле, но может в лучшем случае привести к корректировке законов, тем самым способствуя увековечению структуры поля). Юридическое поле, играя определяющую роль в процессе социального воспроизводства, располагает меньшей автономией в сравнении с другими полями — такими, как поле живописи и литературы или даже науки, которые также способствуют поддержанию символического порядка и тем самым сохранению порядка социального. Это означает, что внешние изменения находят в нём более прямое отражение и что внутренние конфликты разрешаются под большим давлением со стороны внешних сил. Так, иерархия в разделении юридического труда, как она предстаёт в иерархии специализаций, меняется с течением времени, хотя и весьма незначительно (о чём свидетельствует постоянство, с каким гражданское право оказывается на вершине этой иерархии), в частности, в зависимости от вариаций расстановки сил внутри социального поля. Как если бы положение различных специалистов во внутреннем соотношении сил поля зависело от того, какое место в политическом поле занимают группы, чьи интересы они выражают. Так, понятно, что юридическое поле становится всё более дифференцированным по мере усиления позиций тех, кто занимает доминируемое положение в социальном поле, и их представителей (партий или профсоюзов) — в поле политики, примером чему может служить развитие во второй половине XIX века коммерческого права, а также трудового и вообще социального права. С этим связана неоднозначность внутренней борьбы, к примеру, между адептами частного и государственного права: первые выступают за автономию права и юристов, против любого вмешательства со стороны политиков или социальных и экономических групп давления, но также и против развития административного права, против реформы уголовного кодекса и против любых нововведений в социальной, коммерческой областях Согласно логике, наблюдаемой во всех полях, для утверждения права в качестве «науки», обладающей собственной методологией и находящей основание в исторической реальности, агенты, занимающие доминируемые позиции, должны искать принципы критической аргументации только вовне, в поле науки и политики — в том числе при помощи анализа юриспруденции. Так, в соответствии с оппозицией, возникающей во всех теологических, философских или литературоведческих дебатах по поводу интерпретации сакральных текстов, сторонники перемен находятся на стороне науки, историзации прочтения (согласно модели, разработанной в другой области Шлеермахером) и особое внимание уделяют юриспруденции, то есть новым проблемам и новым формам права, которых они требуют (коммерческое, трудовое, уголовное право). Что касается социологии, неразрывно связанной в глазах защитников юридического порядка с социализмом, то она воплощает собой злокозненное примирение науки и социальной реальности, лучшей защитой от которой всегда являлась экзегеза чистой теории. Парадоксальным образом, в этом случае автономия обретается не путём усиления замкнутости профессионалов, преданных исключительно внутреннему чтению сакральных текстов, но благодаря всё более активному сопоставлению текстов и процедур с социальными реалиями, которые они призваны выражать и регулировать. Возврат к реальности, которому способствуют увеличение дифференцированности поля и рост внутренней конкуренции, а также усиление подчинённых позиций в самом юридическом поле в связи с усилением гомологичных позиций (или их представителей) в поле социальном. Неслучайно позиция относительно экзегезы и юриспруденции, верности доктрине и необходимости адаптации к реальности, кажется довольно тесно связанной с занимаемым в поле положением. С одной стороны, мы имеем сегодня частное или, если конкретнее, гражданское право, которое было в недавнем времени реактивировано неолиберальной традицией, опирающейся на экономику; с другой стороны — такие дисциплины, как государственное или трудовое право, которые учреждались в противовес частному праву во имя развития бюрократического устройства и усиления движений за политическую эмансипацию, или же социальное право, определяемое его защитниками как «наука», которая, с опорой на социологию, позволяет адаптировать право к социальной эволюции. Тот факт, что юридическое производство, подобно другим формам культурного производства, осуществляется внутри поля, лежит в основе идеологического эффекта незнания, который неизбежно ускользает от обычного взгляда, возводящего «идеологии» напрямую к коллективным функциям или даже к индивидуальным интенциям. Эффекты, порождаемые внутри полей, не являются ни простой суммой анархических действий, ни общим результатом согласованного плана. Конкуренция, продуктом которой они являются, осуществляется внутри пространства, способного передать ей свои основные тенденции, вытекающие из постулатов, вписанных в саму структуру игры и представляющих собой её фундаментальный закон, как, в данном случае, отношение между юридическим полем и полем власти. Функция поддержания символического порядка, которую обеспечивает юридическое поле, подобно функции воспроизводства самого юридического поля, его классификаций и иерархий, а также принципа видения и деления, лежащего в их основе, является продуктом бесконечного числа действий. Причём осуществление данной функции не всегда является их прямой целью и некоторые из них могут даже производиться с прямо противоположным намерением, как, например, революционные акции авангарда, которые, в конечном счёте, помогают праву и юридическому полю приспособляться к новому состоянию социальных отношений и, таким образом, способствуют легитимации установленной формы этих отношений. Эта трансцендентность, которую обнажают случаи инверсии намерений, а также объективный и совместный эффект накопленных действий не являются продуктом простого механического монтажа, но определяются самой структурой поля. | |
Примечания | |
|---|---|
| |
Оглавление | |
| |