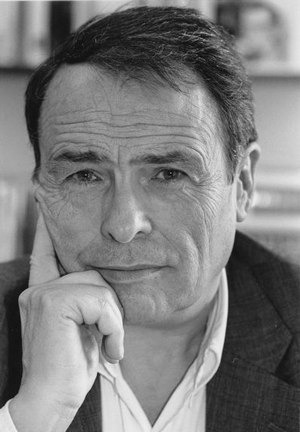 Текст лекции Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
В данной лекции мне хотелось бы попытаться обрисовать теоретические принципы, лежащие в основе исследования, результаты которого изложены в работе «Различение. Социальная критика суждений» (Bourdieu, 1979), и раскрыть смысл некоторых теоретических положений, возможно, ускользнувших от внимания читателей (особенно американских, в силу различий наших культурных традиций). Теоретические принципы моей концепции в двух словах можно определить как конструктивистский структурализм или структуралистский конструктивизм, не идентифицируя их, однако, со структурализмом Ф. де Соссюра или К. Леви-Стросса и их последователей. Структурализм, как я его понимаю, признает существование в самой социальной системе (а не только в символических системах, языке, мифах и так далее) объективных структур, не зависящих от сознания и воли субъектов, и способных стимулировать или сдерживать их действия и стремления. Конструктивизм, как я считаю, — это утверждение социогенеза, в котором участвуют, с одной стороны, модели восприятия, мышления, поведения, составляющие то, что я называю габитусом, Аналогичным образом в другом исследовании — «Категории суждений преподавателей» (Bourdieu, 1988) — я пытался проанализировать генезис категорий восприятия и оценки и их использование преподавателями для формирования представлений о своих учениках, о собственной значимости и преподавательском мастерстве. Руководствуясь принципами отбора, основанными на этих представлениях, преподаватели образуют малые группы, объединения коллег и тем самым преподавательский корпус в целом. Завершив это краткое отступление, я возвращаюсь к основной теме. Во всякой социальной науке — антропологии, социологии, истории — сосуществуют два внешне непримиримых направления — объективизм и субъективизм или физикализм и психологизм (в различных его интерпретациях — феноменологический, семиологический и так далее). С одной стороны, согласно известной максиме Э. Дюркгейма, можно «рассматривать социальные факты в качестве вещей» (Дюркгейм, 1991. — С другой стороны, можно редуцировать социальную реальность до представлений о ней. В этом случае роль общественных наук сводится к «оценке мнений» социальных субъектов. Эти две позиции нечасто встречаются и тем более применяются в научной практике в столь радикальных и взаимоисключающих формах. Вы знаете, что именно Дюркгейм (а также Маркс) наиболее последовательно изложил объективистскую позицию: «Нам кажется плодотворной идея, постулирующая, что объяснение социальной жизни должно исходить не из представлений участвующих в ней субъектов, а из глубинных причин, лежащих за пределами сознания». Впрочем, как примерный кантианец, Дюркгейм признавал, что познание социальной реальности невозможно без логического инструментария. Учитывая сказанное, понятно, почему объективистский физикализм часто ассоциируется с позитивистской манерой сводить все к классификации, представляя её как действенный способ разграничения вещей или механической регистрации «объективных» разрывов непрерывности (например, при распределении). Субъективистская позиция в наиболее чистом виде выражена в этноме-тодологии и понимающей социологии А. Шютца, который занимает позицию, противоположную Дюркгейму: «Наблюдаемое социальным исследователем поле, именуемое социальной реальностью, обладает специфическим значением и структурой для живущих, действующих и мыслящих индивидов. Последовательно толкуя социальную реальность на уровне обыденного сознания, они как бы предварительно избирают и объясняют свой мир, который затем воспринимают как реальность повседневной жизни. Именно объекты мышления детерминируют поведение путём его мотивации. Модели объектов мышления, создаваемые исследователем, пытающимся постичь социальную реальность, должны основываться на объектах мышления, создаваемых в обыденном сознании людей, живущих повседневной жизнью в своём социуме. Таким образом, конструкции социальных наук являются, так сказать, конструкциями «второго уровня», то есть конструкциями конструкций, создаваемых актёрами социальной сцены» (Schutz, 1962. — Я так подробно разобрал данное противопоставление, один из самых злополучных примеров «парных концепций», которыми, как показали Ричард Бендикс и Беннетт Берджер, изобилуют социальные науки, поскольку считаю его преодоление постоянной и наиболее важной задачей моей работы. Рискуя, что это прозвучит невразумительно, я всё же попытаюсь в одной фразе изложить все положения концепции, с которой я вас знакомлю. С одной стороны, объективные структуры, которые воссоздают социологи, работающие в русле объективизма и потому равнодушные к субъективным представлениям действующих индивидов, составляют основу субъективных представлений и образуют структурные рамки, влияющие на взаимодействие субъектов; с другой стороны, субъективные представления также следует иметь в виду при исследовании повседневных индивидуальных и коллективных действий, направленных на трансформацию или сохранение указанных структур. Это означает, что объективизм и субъективизм находятся в диалектической взаимосвязи и что субъективизм, вопреки его внешней близости к интеракционизму или этнометодологическому анализу, качественно отличается от них: представления рассматриваются как таковые и связываются с позициями соответствующих субъектов в структуре. Окончательно преодолеть искусственное противопоставление структуры и представлений возможно, только отказавшись от определённого способа мышления, названного Кассирером субстанциализмом, в рамках которого люди признают реальностью только основанные на интуиции знания, используемые в индивидуальном или коллективном опыте. Основным достоянием так называемой структуралистской революции стало приложение к социальному миру релационного принципа мышления, характерного для современных физики и математики, идентифицирующего реальность с взаимосвязями, а не с субстанциями. Социальная реальность, о которой говорил Дюркгейм, представляет собой сеть невидимых связей, образующих пространство, складывающееся из внешних по отношению друг к другу позиций, характеризующихся соотношением друг с другом, — близостью, соседством или удалённостью, — а также взаимным расположением в пространстве относительно друг друга — выше- или нижестоящим, промежуточным или срединным. Социология в её объективистском толковании — это социальная топология, Analysis Situs, как в эпоху Лейбница назвали новое направление в математике, то есть анализ относительных позиций и релационных отношений между ними. Релационный принцип мышления стал отправной точкой концепции, изложенной в «Различении». Однако я больше чем уверен, что пространство, а именно связи, несмотря на использование в этой работе диаграмм (и сложнейшей формы факторного анализа), не привлекут внимания читателей; это объясняется, Конструирование групп, осуществляемое в целях объективации позиций, занимаемых этими группами, оттесняет сами позиции на задний план. Так, глава из «Различения», посвящённая расслоению доминирующего класса, воспринимается как описание различных стилей жизни возникающих в обществе групп, а вовсе не как анализ расположения этих групп в пространстве властных позиций, называемом мной полем власти. (Оговорюсь, что изменения в терминологии, как вы могли заметить, являются одновременно условием и результатом отказа от устоявшегося представления, основанного на идее правящего класса.) На этом этапе дискуссии социальное пространство можно сравнить с географическим пространством, разделённым на регионы. Но в социальном пространстве обнаруживается следующая закономерность: чем ближе позиции субъектов, групп или институтов, тем больше у них общего, и наоборот. Теоретически степень удалённости в пространстве совпадает с социальными дистанциями. В действительности это не совсем так. Верно, что практически повсеместно наблюдается тенденция к обособлению: субъекты, занимающие близкие позиции в социальном пространстве, стремятся сблизиться — по собственному желанию или по необходимости — ив физическом пространстве. Вместе с тем субъекты, занимающие в социальном пространстве удалённые друг от друга позиции, также могут взаимодействовать в физическом пространстве, хотя бы кратковременно и непостоянно. Поддающиеся наблюдению и регистрации «ощутимые» взаимодействия, которые субъекты считают значимыми в эмпирическом плане, маскируют реализующиеся в них структуры. Это как раз один из тех случаев, когда видимое, непосредственно данное, заслоняет детерминирующее его невидимое. Нельзя забывать, что наблюдения никогда полностью не раскрывают сущность взаимодействий. Простой пример может продемонстрировать различие как между структурой и взаимодействием, так и между структурализмом, который я поддержал бы как необходимый метод исследования, и так называемым интеракционизмом во всех его формах (и, в частности, этнометодологией). Речь идёт о явлении, названном мной «стратегией снисходительности». Прибегая к ней, субъекты, занимающие более высокие позиции в объективной иерархии социального пространства, символически отрицают существование социальных дистанций, от чего последние, конечно, не исчезают. Чисто символически отрицая существование дистанций, эти субъекты завоёвывают одобрение окружающих («он такой простой», «он совсем не высокомерный» и так далее). Однако фразы, которые я привёл, уже сами по себе подразумевают признание социальной дистанции, ибо всегда содержат скрытое уточнение («он такой простой для знатного человека», «он совсем не высокомерный для профессора университета» и так далее). Короче говоря, субъекты могут извлекать преимущества как из признания объективно существующих дистанций, так и из их условного преодоления. Во втором случае они признают её, используя приём чисто символического отрицания. Какова же суть объективных связей, несводимых к взаимодействиям, в которых они проявляются? Объективные связи выражают отношения между позициями в сфере распределения ресурсов. Эти позиции, подобно козырям в карточной игре, имеют или могут приобрести активный и эффективный характер в состязании за присвоение ограниченных благ, которыми располагает социальный универсум. Как показали мои эмпирические исследования, существуют следующие основные типы социальной власти: экономический капитал в различных его формах, культурный капитал и символический капитал, в роли которого могут выступать все признанные легитимными виды капитала. Субъекты располагаются в социальном пространстве в соответствии, Неверное толкование моих рассуждений, особенно изложенных в «Различении», объясняется тем, что гипотетические классы воспринимаются как реальные социальные группы. Такой реалистический подход объективно обусловлен самим устройством социального пространства, где у субъектов, занимающих сходные или близкие позиции, обнаруживается совпадение условий жизни, взглядов, интересов, установок, что обусловливает единообразие их практической деятельности. Установки, определяемые позицией в социальном пространстве, предполагают приспособление субъекта к данной позиции. У Гоффмана это называется «чувством своего места». Именно чувство своего места приводит к тому, что в ходе взаимодействия так называемые «простые люди» довольствуются своим положением, а остальные «держат дистанцию», «ценят себя» и «не допускают фамильярности». Заметим, между прочим, что подобное поведение может быть совершенно неосознанным и часто принимает формы застенчивости или высокомерия. В действительности социальные дистанции инкорпорированы в социальные группы, точнее, в отношения к группе, языку и времени (эти многочисленные структурные аспекты действительности субъективизм игнорирует). Если к этому добавить, что чувство своего места и сходство габитуса, выражающееся через симпатии или антипатии, лежат в основе всех форм взаимодействия — дружеских, любовных, супружеских связей, объединений и тому подобного, то есть всех видов длительных и иногда узаконенных отношений, то понятно, почему возникает вывод о реальности гипотетических классов. Причём они кажутся тем реальнее, чем лучше структурировано социальное пространство и чем мельче составляющие его организационные единицы. Если вы хотите создать политическое движение или просто объединение, вам лучше собрать людей, относящихся к одному сектору социального пространства (предположим, из той его части, где находятся интеллектуалы). Если субъективизм сводит социальную структуру к взаимодействиям индивидов, то объективизм, напротив, стремится из структуры вывести социальные действия и взаимодействия. Основная (теоретическая) ошибка Маркса, как мне кажется, состоит в том, что он, восприняв гипотетические классы как реальные, постулировал существование унифицированных групп — классов, исходя из объективно существующих однородных условий и установок, обусловленных идентичностью позиций людей в социальном пространстве. Понятие социального пространства позволяет преодолеть альтернативу номинализма и реализма при анализе социальных классов. Решить политическую задачу формирования социальных классов как «корпоративных групп», то есть устойчивых общностей, обладающих постоянными органами представительства, собственными названиями и так далее, можно наиболее успешно, если объединять и группировать людей, занимающих близкие позиции в социальном пространстве (и тем самым относящихся к одному гипотетическому классу). По Марксу же, формирование классов само является результатом политических действий, успех которых обеспечивается наличием теории, опирающейся на реальность и поэтому способной произвести «идеологическое воздействие», а именно: навязать представление о классовых различиях. С помощью теоретических построений нам удалось избежать чистого физикализма, сохраняя при этом объективистский подход: группы — в данном случае классы — должны быть «сформированы». Они не являются данностью, присущей социальной реальности. Название известной книги Таким образом, мы перешли от социального физикализма к социальной феноменологии. Упомянутая объективистская «социальная реальность» — это, помимо всего, объект восприятия. Соответственно в предмет социальной науки должна быть включена как сама реальность, так и её восприятие, представления о её развитии, возникающие у субъектов в зависимости от их позиции в реальном социальном пространстве. Непосредственное видение социального мира, изучаемая этнометодологией «народная мудрость» (то, что я называю стихийной социологией), а также научные теории и сама социология составляют часть социальной реальности и могут, подобно Марксовой теории, приобретать совершенно реальную созидательную силу. Объективистский разрыв с Однако на следующем этапе необходимо пойти на разрыв с объективизмом, введя в поле анализа элементы, которые ранее пришлось исключить, чтобы сконструировать социальную реальность. Социология должна включить и социологию восприятия социального мира, то есть социологию формирования мировоззрений, способствующих, в свою очередь, конструированию реальности. Но, учитывая, что социальное пространство сконструировано нами, мы понимаем, что любая точка зрения, как показывает само это словосочетание, — это взгляд с определённой точки, то есть с определённой позиции, в рамках социального пространства. Мы также знаем, что могут существовать различные и даже противоположные точки зрения, поскольку они зависят от точки, из которой брошен взгляд, так как представления каждого суъекта о социальном пространстве зависят от его позиции в этом пространстве. Таким образом, мы отказываемся признавать существование универсального субъекта, трансцендентное эго феноменологии, к которому апеллируют этнометодологи. Несомненно, субъекты наделены способностью активно воспринимать окружающий мир. Несомненно, они создают собственные представления об этом мире. Но их мировосприятие обусловлено структурными рамками. Можно объяснить на языке социологии, откуда появляется универсальное свойство человеческого опыта принимать привычный мир «как должное», воспринимать установленный порядок как естественный. Тенденция считать социальный мир очевидным, наделять его, говоря словами Гуссерля, доктринальной модальностью, объясняется тем, что установки и ориентации субъектов, их габитус (то есть ментальные модели постижения социального мира) возникают в результате интернализации структур социальной реальности. Поскольку в индивидуальном мировосприятии заложено стремление соответствовать занимаемой социальной позиции, даже субъекты, находящиеся в самом неблагоприятном положении, стараются воспринимать установленный порядок как естественный и находят его гораздо более приемлемым, чем можно вообразить, особенно если посмотреть на положение подчинённых субъектов глазами доминирующих. Таким образом, поиск инвариантных форм восприятия или воссоздания социальной реальности скрывает следующее: Но так называемый микросоциологический подход оставляет в стороне целый ряд других важных положений: как это часто случается, со слишком близкого расстояния за деревьями не видно леса. Прежде всего, поскольку не сконструировано пространство, вам не удаётся обнаружить точку, с которой вы сможете воспринимать то, что видите. Итак, представления субъектов варьируются в зависимости от их социальной позиции (и соответствующих ей интересов) и габитуса, выступающего в качестве систематизированных моделей восприятия и оценки, а также когнитивных и оценочных структур, являющихся результатом длительного опыта субъекта и обусловленных определённой социальной позицией. Габитус одновременно представляет собой систему моделей воспроизводства поведения и систему моделей восприятия и оценки поведения. Причём в обоих случаях функционирование данных моделей отражает ту социальную позицию, в рамках которой они были сконструированы. Следовательно, габитус продуцирует поддающиеся классификации и объективно дифференцированные образцы поведения и представления; однако их немедленное восприятие доступно только субъектам, обладающим кодом, то есть классификационными моделями, позволяющими понять социальную значимость данного поведения и представлений. Габитус позволяет субъекту не только «чувствовать своё место», но и определять места других субъектов. К примеру, характеризуя платье, мебель или книгу, мы говорим: «Это мелкобуржуазный стиль»; или: «Это интеллигентно». Каковы же социальные условия, позволяющие нам делать подобные суждения? До сих пор я уделял внимание определению позиции воспринимающих субъектов и выделил основной фактор, обусловливающий разнообразие восприятии, а именно: позицию субъекта в социальном пространстве. Но что можно сказать о разнообразии, которое проявляется на уровне самого объекта — социального пространства? Верно, что социальный мир нельзя считать полным хаосом, образующимся произвольно и вполне свободным от проявлений необходимости, раз в нём через габитус, индивидуальные установки и вкусы прослеживается соответствие между социальной позицией субъекта и его манерой поведения, склонностями и убеждениями. Но социальный мир лишён и жёсткой структурированности, так же как и способности подчинить каждого воспринимающего субъекта принципам своего построения. Возможно множество различных трактовок и моделей социальной реальности в соответствии с исходными принципами её восприятия и анализа — например, по экономическим или этническим характеристикам. Известно, что в индустриально развитых странах основную дифференцирующую роль играют экономические и культурные факторы; вместе с тем экономические и социальные различия не мешают объединять людей по другим признакам — этническим, религиозным, национальным и так далее. Хотя в социальном мире потенциально существует множество структурирующих принципов, названных Вебером Vielseitigkeit (разносторонность. — Таким образом, восприятие социального мира возникает в результате двойного структурирования. На объективном уровне оно социально структурировано, поскольку характерные признаки, присущие субъектам или институтам, сочетаются между собой с разной степенью вероятности: так же, как в животном мире свойство иметь крылья присуще пернатым, а не пушным зверям, так При помощи этих двух механизмов обыденное сознание создаёт целостный мир здравого смысла или, по меньшей мере, вырабатывает минимальный консенсус в отношении социального мира. Существует множество способов восприятия и отображения объектов социальной реальности, что обусловлено значительной расплывчатостью и неопределённостью и соответственно семантической неоднозначностью последних. Действительно, даже сочетания наиболее устойчивых признаков всегда основываются на статистических соотношениях взаимозаменяемых характеристик; кроме того, объекты могут изменяться во времени, так что их значения, в той степени, в какой они зависят от будущего, остаются относительно неопределёнными. Этот объективный элемент неопределённости, часто усиленный эффектом полисемии понятий, составляет основу для многообразия мировоззрений и одновременно — условия для символической борьбы за право формировать и утверждать определённое представление о легитимном порядке. (Неоднозначность и объективная неопределённость соотношения образцов поведения и социальной позиции, и, следовательно, интенсивность символических приёмов с наибольшей силой проявляется в средних слоях социального пространства, особенно в американском обществе. Понятно, почему именно эта область больше всего привлекает интеракционистов, На примере Кабилии я показал, что группы, семьи, кланы и племена, так же как и обозначающие их понятия, могут оказаться инструментами и объектами многочисленных манипуляций; и что сами субъекты непрестанно занимаются изменением своей идентичности — например, они могут изменять генеалогию, подобно тому как мы, правда, с другими целями, переиначиваем тексты «отцов-основателей» нашей науки. В то же время в повседневной классовой борьбе, которую ведут разрозненные и изолированные друг от друга субъекты, в качестве средства определения социальных категорий используются различные оскорбления — сплетни, слухи, клевета, порочащие измышления и тому подобное. На коллективном уровне и, в частности, в политической сфере социальные субъекты применяют все возможные приёмы для утверждения нового видения социального мира, отвергая старый политический словарь, или — если они стараются сохранить ортодоксальный взгляд на мир — используют для характеристики социальной реальности выражения, которые на самом деле давно стали эвфемизмами (типа приведённого мной выражения «простой народ»). Наиболее типичный приём создания новой социальной реальности состоит в ретроспективной реконструкции прошлого и приведении его версии в соответствие с требованиями настоящего — подобно тому, как высадившийся в 1917 году во Франции генерал Флемминг заявил: «Лафайет, мы идём!» — или конструировании будущего, с тем чтобы многообещающие предсказания приглушили чувство настоящего. Символическая борьба, как повседневная индивидуальная, так и политическая коллективная, имеет специфическую логику, обеспечивающую ей реальную независимость от тех структур, в которые она вписана. Поскольку символический капитал есть не что иное, как экономический или культурный капитал, признанный субъектами в соответствии с утверждаемыми ими категориями восприятия, то символические властные отношения стремятся воспроизвести и укрепить реальные властные отношения, составляющие структуру социального пространства. Конкретнее, легитимизация социального порядка, в противовес общепринятому мнению, является не столько результатом преднамеренной, целенаправленной пропа- ганды или символического воздействия, сколько следствием соответствия объективных структур социального мира и порождённых ими структур восприятия и оценки. Именно последнее обстоятельство способствует тому, что субъекты стараются принимать окружающий мир как должное. Объективные отношения власти воспроизводятся в символических властных отношениях. В борьбе за формирование общественного сознания на символическом уровне или, точнее, в состязании за монопольное право обозначать новые объекты или переименовывать существующие, субъекты используют приобретённый в предшествующей борьбе и гарантированный законом символический капитал. В этом плане дворянские титулы, как и дипломы об образовании, выступают как реальные формы символической собственности, обеспечивающие общественное признание. Но здесь следует избегать крайнего субъективизма: ведь символический порядок, в отличие от рыночной цены, не является простой арифметической суммой индивидуальных символических капиталов. С одной стороны, при распределении индивидов и групп по объективным социальным категориям и определении их ценностной иерархии наиболее весомыми оказываются суждения людей, обладающих значительным символическим капиталом — благородных, то есть признанных в обществе, которым социальное положение позволяет навязывать остальным наиболее подходящую для себя шкалу ценностей. В современном обществе это оказывается возможным благодаря их фактической монополии на институты, подобные системе образования, официально учреждающей и гарантирующей социальный статус. С другой стороны, символический капитал может быть официально санкционирован, гарантирован и легитимизирован благодаря официальному признанию. Официальное признание, выражаемое путём присвоения титула, звания или степени, является одним из наиболее типичных способов демонстрации исключительного права государства или его представителей на символическое насилие. Так, диплом о среднем или высшем образовании представляет собой частицу общепризнанного и гарантированного символического капитала, действительного на любом рынке. Подтверждая официальную идентичность, диплом освобождает своего обладателя от участия в символической войне всех против всех и открывает перед ним общепринятый путь продвижения вверх. Создающее официальную систему категорий государство в некотором смысле напоминает Верховный суд в романе Ф. Кафки «Процесс», где Блок замечает в адрес одного адвоката, называющего себя «крупным»: «… конечно, каждый может называть себя крупным, если ему заблагорассудится, но в данном случае судебная терминология установлена твёрдо» (Кафка, 1991. — Науке нет смысла выбирать между относительным и абсолютным: социальный мир устроен так, что сами субъекты, имея неравные шансы, стремятся прийти к абсолютному видению мира, обладающему убеждающей силой. Легализация символического капитала придаёт будущему абсолютную, универсальную ценность, освобождая его от относительности, по определению присущей любой точке зрения как взгляду с определённой позиции в социальном пространстве. Существует офицальная точка зрения официальных лиц, выражаемая в официальной речи. Последняя, как показал Аарон Сикурель, выполняет три функции: Наиболее типичным выражением «государственных интересов» можно считать эффект кодификации, который проявляется в самых простых случаях: так, мнения дипломированных специалистов (экспертов, врачей, юристов) считаются более весомыми, чем мнения других людей, так как первые подкреплены наличием соответствующего удостоверения. Таким образом, государство выступает своеобразным гарантом этих удостоверений. Для характеристики государства можно использовать выражение Лейбница, который определял Бога как «геометрическое место пересечения всех линий перспектив». Вот почему можно обобщить известную формулу Вебера и определить государство как монопольного обладателя права на применение символического насилия. Или, точнее, государство в борьбе за эту монополию играет роль арбитра, причём очень могущественного. Между тем бюрократической власти никогда, даже при поддержке научных авторитетов, не удаётся достичь полного господства и добиться абсолютного права формировать и навязывать легитимное видение социальной реальности. В действительности в социальном мире постоянно происходят столкновения различных ветвей символической власти, каждая из которых стремится реализовать собственное представление о легитимной структуре общества, то есть конструировать его согласно своим интересам. В этом смысле символическую власть можно назвать властью «миротворения», которое, по Н. Гудману, состоит в «разобщении и воссоединении, иногда в пределах одной операции», в проведении полного разложения или анализа и последующего соединения или синтеза, часто осуществляемого с помощью ярлыков. Социальные классификации дихотомического типа, как это было, например, в древних обществах (мужской — женский, сильный — слабый), помогают упорядочить представления о социальном мире и, при определённых условиях, способствуют организации самой социальной реальности. Теперь мы можем перейти к рассмотрению вопроса о том, при каких условиях символическая власть становится конструирующей властью, используя это понятие, вслед за Дьюи, как в философском, так Чтобы изменить мир, необходимо изменить способы его творения — как общее представление о мире, так и практические пути формирования и воспроизводства социальных групп. Символическая власть, наиболее заметное проявление которой состоит в способности продуцировать социальные группы (признавая реально существующие группы или создавая новые, подобные пролетариату у Маркса), обеспечивается двумя факторами. Во-первых, как любая форма самовыражения, символическая власть нуждается в символическом капитале. Приобретённый ранее социальный авторитет помогает власти заставить людей принять старую или новую систему социального расслоения. Символический капитал означает доверие, признание власти тех, кто занял соответствующее положение. В этом смысле конституирующая власть — власть, создающая новые группы путём мобилизации индивидов или защиты их интересов, — возникает только в конечной фазе длительного процесса институционализации, когда группа наделяет своего избранного представителя властью формировать эту группу. Во-вторых, эффективность символической власти зависит от того, в какой степени предлагаемые ей представления соответствуют действительности. Безусловно, социальные группы невозможно создавать Ex Nihilo (из ничего. — В действительности, подобно созвездиям, которые, как утверждал Нельсон Гудман, становятся реальными, только если они открыты и обозначены, социальные группы, классы или нации начинают существовать как таковые для тех, кто в них входит, равно как и для остальных людей, только когда их, руководствуясь теми или иными принципами, воспринимают и признают, выделяя тем самым из множества социальных образований. Теперь, я надеюсь, будет легче понять, что ставится на карту в борьбе по поводу существования или несуществования классов. В основе этой борьбы лежит борьба классификаций. Власть, навязывающая определённые представления, выявляющая и определяющая имплицитное социальное расслоение, оказывается Par Excellence (преимущественно. — Наконец, если мы вернёмся к основной проблеме, которую я сегодня пытался разрешить — каким образом происходит создание объектов, а именно групп, при помощи слов, нам нужно ответить на один последний вопрос, составляющий Misterium ad Ministerium (таинство службы. — Как утверждали каноники, Status est Magistratus, положение — это тот судья, который его занимает; или же, как говорил Людовик XIV: «Государство — это я»; или, наконец, как заявлял Робеспьер: «Народ — это я сам». Класс (народ, нация или другая социальная общность) существует, если находятся люди, готовые олицетворять его, официально выступать от его имени, люди, которых остальные члены общества будут воспринимать как представителей этого класса, народности или нации или любой другой социальной реальности, которую может предложить реалистическая конструкция мира. Надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что сложность изучения социальной реальности коренится в сложности самого объекта изучения. Башлар часто повторял: «Простое — это не что иное, как упрощённое». При этом он доказывал, что наука может развиваться, только подвергая сомнению простые идеи. Мне кажется, что подобное сомнение необходимо | |
Библиография | |
|---|---|
| |