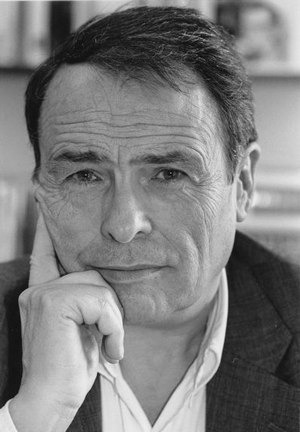 Стенограмма доклада французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
На протяжении многих лет я изучал особую традицию — традицию кабилов, оригинальность которой заключается в том, что в ней встречается много ритуальных практик и очень мало чисто мифического дискурса. Факт моего столкновения с практиками относительно мало вербализованными, в отличие от большинства этнологов, которые в период, когда я начал мою работу, имели дело с корпусом мифов, собранных чаще всего не ими самими (так что, несмотря на методологические усилия, им часто не хватало знания контекста их использования), очень рано заставил меня задуматься над проблемой, которую я хочу сейчас предложить вашему рассмотрению и обсуждению. Можно ли читать, не спрашивая себя, что значит читать? Предварительное условие для конструирования любого объекта заключается в контроле зачастую неосознаваемого, неясного отношения к объекту, который предстоит конструировать (в действительности, многие рассуждения об объекте есть не что иное, как проекция объективного отношения субъекта к объекту). Применяя именно этот очень общий принцип, я спрашиваю: можно ли читать что бы то ни было, не задаваясь вопросом, что означает читать, каковы социальные условия, позволяющие чтение? В одно время было много работ, в которых вводилось слово «чтение». Это было в некотором роде слово-пароль к интеллектуальному идиолекту [1]. Но, может быть в силу моей недобросовестности, мне хотелось спросить самого себя про то, о чём не спрашивают. Например, средневековая традиция противопоставляет lector’a, который комментирует уже сложившиеся дискурсы, actor’у, продуцирующему новые дискурсы. В отношении разделения интеллектуального труда такое различение является эквивалентом различения между пророком и священнослужителем при разделении труда в религии. Так, например, пророк — это actor, сын своих произведений, у которого нет иной легатимности, иного auctoritas, кроме его личности (его харизмы) и его практики actor’a, и который, следовательно, является actor’ом своего auctoritas. И наоборот, священнослужитель — это lector, защитник легитимности, делегированной ему корпусом lector’ов, церковью, и базирующийся в своих выводах на auctoritas оригинального actor’a, на которого lector’ы ссылаются или, по крайней мере, делают вид. Но этого ещё недостаточно. Спрашивать себя об условиях, при которых возможно чтение — значит спрашивать о социальных условиях, при которых возможны ситуации, когда можно читать (и тут же можно видеть, что одним из таких условий является schole, досуг в его учебной форме, то есть время для чтения, для обучения чтению), а также о социальных условиях формирования lector’ов. Одно из заблуждений lector’а в том, что он забывает о социальных условиях собственного формирования, бессознательно универсализируя свои условия, при которых возможно чтение. Задавать себе вопрос об условиях такого вида практики, как чтение, — это спрашивать о том, каким образом производятся lector’ы, каким образом они отбираются, как формируются, в каких школах учатся и так далее. Следовало бы заняться социологией успеха структурализма, семиологии и всех форм чтения («симптоматичного» или другого) во Франции. Хорошо было бы спросить себя, например, не являлась ли семиология способом совершить aggiomamento [2] старой традиции толкования текстов и позволить в то же время реконверсию определённого вида литературного капитала, вот часть вопросов, которые стоило бы поставить. Но можно ли сказать, в чём и каким образом эти социальные условия формирования читателей (и, шире, интерпретаторов) могут предназначаться дня интерпретации текстов или используемых читателями документов? В своей книге о языке Бахтин объясняет то, что он называет филологизмом, неким извращением, включённым в логику объективистского типа мышления и, в частности, в соссюровское определение языка: филологизм заключается в том, чтобы ставить себя на место читателя, который обращается с языком как с мёртвым языком, с мёртвой буквой и конституирует в качестве особенностей языка те, что свойственны мёртвому — не разговорному — языку, при этом опрокидывая на языковый объект отношение филолога к мёртвому языку, к примеру, дескрипторы, помещённые в текст или неясные фрагменты, к которым нужно найти ключ, шифр, код. Мне кажется, именно об этом хотел напомнить Балли, когда говорил, что точка зрения языка в соссюровском смысле есть точка зрения слушателя, то есть точка зрения того, кто слушает язык, но не говорит на нём. Читатель — это тот, кому не надо ничего делать с языком (который он берёт как объект), кроме как выучить его. Именно в этом состоит совершенно общее основание для перекоса, о чём я часто напоминал. Такой перекос вписан в отношение к объекту, которое можно назвать «теоретическим»: например, этнолог рассматривает родственные связи как чистый объект для изучения и, за отсутствием знаний, создаваемая им теория родственных связей предполагает в реальности его «теоретическое» отношение к родственным связям; он выдаёт правду «теоретического» отношения к родственным связям за правду родственных связей. Этнолог забывает, что реальные родственники — это не позиции в диаграмме, в генеалогии, но отношения, которые нужно развивать, поддерживать. Также и филологи, ставящие перед собой задачу зафиксировать смысл слов, стараются забыть, что пословицы, поговорки, сентенции, а иногда имена собственные, относящиеся к названиям мест, земель, на которые можно претендовать, или личные имена, как об этом напоминает опыт бесписьменных обществ, являются ставками в постоянной борьбе. Я думаю, что если Мулуд Маммери, говоря о берберской поэзии, вспоминает, что профессиональные поэты, которых называют мудрецами, используют для присвоения всем известных пословиц лёгкие смещения звука и смысла. «Дать наиболее чистый смысл словам рода». Жан Боллак показал, что досократики, например, Эмпедокл, проделывали над языком сходную работу, полностью обновляя смысл пословицы или стиха Гомера, незаметно подменяя слово phos в наиболее часто употребимом смысле (свет, вспышка) на реже употребимый, зачастую архаический смысл (смертный, человек). Это эффекты, которые кабильские поэты используют систематически — присваивая себе общий смысл, они обеспечивают себе власть над группой, которая, по определению, признается данным общим смыслом; все это при определённых обстоятельствах, во время войны или острого кризиса могло обеспечить им власть профетического типа над настоящим и будущим группы. Иначе говоря, эта поэзия не имела ничего общего с чистой поэзией; поэтом был тот, кто преодолевал невозможную ситуацию, когда преступались ограничения обычной морали и когда, например, оба лагеря оказывались правыми в соответствии с принципами этой морали. Смысл этого примера вытекает из него самого: не ставя перед собой вопросов об имплицитных предпосылках операции, заключающейся в расшифровке, в поиске одного смысла слов, их «истинного» смысла, филологи берут на себя риск проецировать на слова, которые они изучают, философию, заключающуюся в факте изучения слов. При этом упускают то, что составляет их истинный смысл, когда, например, в политическом обиходе играют со знанием дела на полисемии и считают истиной иметь несколько истин. Если филолог ошибается, когда хочет сказать последнее слово о смысле слов, то потому, что различные группы зачастую могут связывать свои интересы с тем или другим возможным смыслом слов. Слова, являющиеся ставкой в политической или религиозной борьбе, могут представляться в своём существенном состоянии как музыкальные аккорды, когда в основании, на первом плане, приводится существенный смысл (тот, который словарь даёт первым), затем смысл, который понимается под словом на втором плане, потом на третьем и так далее. Борьба по поводу слов, какая велась, например, в XVIII веке по поводу представлений о природе, будет состоять в попытке совершить то, что музыканты называют переворачиванием аккорда, в попытке совершить переворот в обычной иерархии смыслов, чтобы установить как существенный смысл, как основание семантического аккорда, такой смысл, который до сего момента был вторичным или, ещё лучше, подразумеваемым. Таким образом, совершается символическая революция, которая может лежать в основе политических революций. Очевидно, если бы филолог размышлял о том, что значит быть филологом, он был бы вынужден ставить перед собой вопрос: совпадает ли применение им языка, который он изучает, с тем применением, которое ему находят те, кто его произвёл; и если расхождение между применениями и лингвистическими интересами не рискует ввести в интерпретацию существенный перекос, значительно более радикальный, чем простой анахронизм или чем любая другая форма этноцентрической интерпретации, то потому, что оно зависит от самого факта интерпретации. Интерпретатор, филолог или этнолог располагается вне того, что он интерпретирует; он воспринимает действие как спектакль, представление, реальность, которую держит на расстоянии и которая, находится перед ним как объект, поскольку он располагает инструментами объективации, фотографией, схемой, диаграммой, генеалогией или просто-напросто письменностью. Так, известно, что некоторые работы, в особенности Хавелока (Preface to Plato), ставят акцент на понятии мимесиса и напоминают, что Платон разоблачает в поэзии именно такое миметическое отношение к языку, которое захватывает полностью всё тело: поэт, певец взывают к поэзии, как взывают к духам, а заклинание (это также верно в отношении берберских поэтов) неотделимо от всей гимнастики тела. Нужно предельно обобщить тезис Хавелока: помимо того, что некоторые тексты, а не только стихотворения, над которыми работали герменевты, были изначально написаны для танца, мимирования, движения, многие признаки, подающиеся филологами в форме дискурса, рассказа, logos’a, и mithos’a, в действительности имели в качестве своего референта (по меньшей мере, вначале) праксис, религиозную практику, ритуалы — например, я думаю о том, что Гесиод говорит о Дионисе, Гекате или Прометее, или о пророчестве Тирезия в «Одиссее». И если мы обращаемся к читателям, не осознающим истину чтения, к логоцентрическим филологам, то всегда рискуем упустить, что «праксическая», практическая, миметическая мысль не замыкается на символическом покорении собственных своих принципов. Этнологи, которых я называю объективистами, — те, кто вместо того чтобы анализировать отношение этнолога к своему объекту, проецируют на объект отношение, поддерживаемое ими с этим объектом, описывают мифы и ритуалы как логические практики, как некоторую алгебру, в то время как имеют дело с некими танцами, иногда переведёнными (в случае мифов) в дискурсы. Ритуальная практика есть танец: поворачиваются семь раз слева направо, вытягивают правую руку над левым плечом, поднимаются, опускаются и так далее. Все эти основополагающие операции ритуала являются движениями тела, которые субъективизм описывает не как движения, а как состояния (там, где я говорю: «подниматься/опускаться», объективисты говорят: «верх/низ», — и это меняет все). Можно было бы, таким образом, заново возродить весь кабильский ритуал, исходя из небольшого числа порождающих схем, то есть точно таких же, как schemata tou somatos у Платона, как это указывает Генри Жоли. Слово «schemata» очень хорошо подходит к тому, о чём хочу сказать, поскольку его древние авторы (например, Афеней, который жил в первой половине III века) использовали, чтобы обозначить миметические жесты танца, которые они каталогизировали (точно также с термином phorai — «значащие движения»): например, поднятая рука, повёрнутая к небу — умоляющий жест, или руки, вытянутые в сторону зрителя — апостроф для публики, руки опущенные книзу — жест печали и так далее. Практические схемы ритуала являются schemata tou somatos — порождающими схемами основных движений, таких как идти вверх или вниз, вставать или ложиться и других. И только под взглядом наблюдателя ритуал из танца становится алгеброй, символической гимнастикой, логическим расчётом. Не умея объективировать истину объективирующего отношения к практике, проецируют на практики то, что является функцией практик в глазах изучающего их Учёные в действительности никогда не передают ритуалы в их первоначальном виде (кузнец разрубает, обрезает, режет, разделяет то, что было единым и, следовательно, в целом указывает на все ритуальные действия разделения и тому подобное). Они уже вышли из тишины ритуального праксиса, цель которого не в том, чтобы быть интерпретированным, Интересы и цели изменяются, или, проще говоря, в них верят Именно в этом случае критика, которую я часто использую, приобретает свой классический дай философии смысл: некоторые операции, которые не может не производить социальная наука из опасения утратить объект, как например, делать схемы, выводить генеалогии, чертить диаграммы, рассчитывать статистические таблицы и так далее, производят артефакты, за исключением того случая, когда сами эти операции являются объектом. Философия и логика, без сомнения, родились от рефлексии над трудностями, что выявляет начало объективации чувства практического, не рассматривающего саму операцию объективации. Я понял это, поскольку логика теоретизирования над ансамблем практик и ритуальных символов привела меня к тому, что я оказался в ситуации, полностью аналогичной, как мне кажется, ситуации великих досократических магов. Например, в анализе ритуальной логики я столкнулся с оппозициями, с которыми не очень хорошо знал, что делать, и которые просто включил в серию. | |
Примечания | |
|---|---|
| |