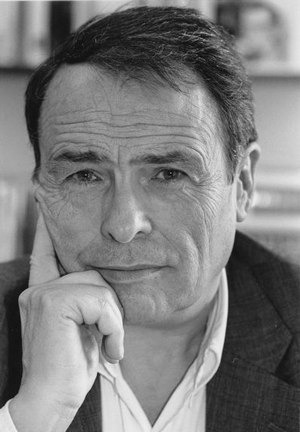 Работа французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
М. Пруст. В поисках утраченного времени.
Н. Дюбост. Флинс без конца. Философия истории, которая запечатлена в самой обыденной практике повседневного языка и которая стремится к тому, чтобы слова, обозначающие институты и коллективы — Государство, Буржуазия, Патронат, церковь, Семья, Правосудие, Школа, — конституировались в исторические субъекты, способные формулировать и реализовывать собственные цели («Государство — буржуазное — решает…», «Школа — капиталистическая — исключает…», «Церковь Франции борется»… и так далее), находит своё высшее воплощение в понятии Аппарата с большой буквы, вновь вошедшем сегодня в моду в так называемых «концептуальных» речах. В качестве механического исполнителя исторической целесообразности Deus (Diabolus) in machina «Аппарат», эта — в зависимости от идеологического настроя — божественная или адская машина, этот функционализм наилучшего и наихудшего толка, предрасположен к функционированию как Deus ex machina, «пристанище для незнания», конечная причина, способная — причём с наименьшими затратами — все оправдать, ничего не объясняя. Следуя этой логике, являющейся не чем иным, как логикой мифологии, великие аллегорические образы господства не могут не вызвать в противовес себе лишь другие мифические персонификации, такие как Рабочий класс, Пролетариат, Трудящиеся или даже Борьба — олицетворение Социального движения и его мстительного гнева [1]. Если эта версия теологической философии истории, пожалуй, не столь далёкая, как это может показаться, от выражения морального негодования — «всё это неслучайно», — могла и может ещё представляться интеллектуально приемлемой, то потому, что является отражением и выражением диспозиций, входящих составной частью в «философскую позицию», какой она определяется в данный момент времени процессами отбора и становления профессиональных философов. Она действительно удовлетворяет как требованию высокого «теоретизирования», вдохновляющего на парение над фактами и на пустые и поспешные обобщения [2], так и герменевтической претензии, заставляющей искать сущность за видимостью, структуру — по «ту сторону» истории и всего того, что её собственно определяет, то есть всех этих расплывчатых, вязких и двусмысленных реальностей, которыми загромождены общественные науки — дисциплины, носящие вспомогательный и обслуживающий характер, годные на то, чтобы поставлять «пищу для размышления», и постоянно подозреваемые в сговоре с реальностью, к познанию которой они стремятся. Так, Альтюссер под предлогом теоретической реставрации возродил в лоне марксистской ортодоксии осуждение, налагаемое на всех тех, кто уже самим фактом исследований свидетельствовал, что ещё не всё найдено. Убивая одним выстрелом двух зайцев, он усиливал, если в этом была необходимость, то презрительное и настороженное отношение к «так называемым общественным наукам» — этим плебейским и навязчивым научным дисциплинам, которое философская ортодоксия никогда не прекращала исповедовать. Низводить агентов до роли исполнителей, жертв или соучастников политики, запечатлённой в сущности аппаратов, это значит обосновывать выведение существования из сущности, черпать знания о поведении в описаниях Аппарата и тем самым экономить на наблюдениях практики и отождествлять исследовательскую работу с чтением докладов, принимаемых за реальные матрицы практики. Если верно, что склонность трактовать социальный универсум как Аппарат соразмерна временной удалённости, обрекающей на объективность, и невежеству, упрощающему видение, то понятно, почему историки, склонные, впрочем, в силу их положения в университетском пространстве к менее амбициозным теоретическим устремлениям, оказываются и менее склонными к героизации коллективных сущностей. Их видение предмета тем не менее, ещё очень часто определяется их отношением к нему. И это прежде всего потому, что выработка позиции в отношении прошлого коренится в неявно принятых позициях по отношению к настоящему (наиболее полный пример тому — Французская революция) или, точнее, к интеллектуальным противникам в настоящем (в полном соответствии с логикой дуплета, вписанной в относительную автономию пространств культурного производства). Кроме того, историки не всегда избегают некой утончённой формы мистификации: Достаточно подумать о вопросах, подобных вопросу о зарождении капитализма или о появлении современного типа художника, несомненный успех которых не объяснить, если бы они не способствовали regressum ad infmiluni превосходства эрудита. Эти результаты логики, присущей производственному полю, часто комбинируются с воздействием политического настроя, вдохновляя на окончательные «инвестиции», которые скрываются за выработкой позиций по столь нечётко сформулированным проблемам, что могут служить поводом лишь для нескончаемых споров. Например, вопрос о том, следует ли приписывать появление первых мер социальной защиты доброй воле «филантропов» или «борьбе трудящихся», или же вопрос о влиянии — плодотворном или угнетающем, которое якобы оказала королевская власть на французскую живопись XVII века. Безупречно аргументированные и со всей учёной строгостью документированные вердикты могут служить оправданием враждебного отношения к королевскому абсолютизму со стороны республиканских профессоров конца XIX века либо — сегодня — для молчаливых намёков на светское государство [4]. Или проблема временной границы между Средневековьём и эпохой Возрождения, работами по которой заполнены библиотеки и которая продолжает всё ещё вызывать споры между «либералами», стремящимися чётко обозначить разрыв между Тьмою и Светом, и теми, кто настаивает (прежде всего францисканцы) на средневековых истоках Возрождения… Действительно, склонность к политико-теологическому видению, позволяющая то ругать, то хвалить, то осуждать, то оправдывать прошлое, приписывая доброй или злой воле его свойства, зависит от того, в какой степени прошлое рассматриваемых институтов выступает в качестве целей и инструментов борьбы, ведущейся с помощью этих самых институтов, в социальном пространстве, где помещается историк, то есть в поле социальной борьбы, самом более или менее автономном по отношению к этой борьбе [5]. Склонность осмысливать исторический поиск в логике процесса, то есть как поиск истоков, ответственных и даже виновных, составляет основу телеологической иллюзии, точнее, той формы ретроспективной иллюзии, которая позволяет приписывать намерения и умыслы индивидуальным агентам и персонализованным коллективам. И в самом деле нетрудно, когда известно заключительное слово, трансформировать исход истории в цель исторического действия, а объективное побуждение, выявившееся лишь в конце, после борьбы, — в субъективное намерение агентов, в сознательную и расчётливую стратегию, жёстко ориентируемую поиском того, что в конце концов происходит, — учреждая тем самым суд истории, то есть суждение, вынесенное историком, как Божий суд. Так, вопреки телеологической иллюзии, неизменно встречающейся в сочинениях, посвящённых Французской революции [6] анализ, проведённый Полем Буа, убедительно показывает, что в случае с сартуазским бокажем даже самые великодушные меры (как отмена нескольких налогов, которыми облагались крестьяне) понемногу искажались и перетолковывались в силу логики поля, в пределах которого они проводились [7]. Тот факт, что абстрактный, формальный и, если можно так выразиться, «идеалистический» характер мер, принятых в полном неведении относительно условий их реализации, способствовал их парадоксальному переиначиванию по ошибке, в результате которой они в конечном счёте обернулись к выгоде их авторов или — что уже далеко не то же самое — к выгоде их класса, вовсе не даёт основания видеть в этом продукт циничного расчёта и — в ещё меньшей мере — своего рода чудо «буржуазного» бессознательного. Важно понять, что существует отношение между данными мерами (или габитусом, характерным для определённого класса, который здесь выражается, например, в форме универсализма или формализма их намерений) и логикой поля, где зарождаются связанные с габитусом, но никогда к нему полностью не сводимые, ответные реакции. Причина и смысл какого-либо института (или какой-либо административной меры) и его социальных последствий заключаются не в «воле» индивида или группы, но в поле антагонистических и взаимодополняющих сил, где в зависимости от интересов, связанных с различными позициями, и от габитусов занимающих их агентов зарождаются «воли», а также где в борьбе и посредством борьбы беспрерывно определяется и переопределяется реальность институтов и их предвиденных и непредвиденных социальных воздействий. Особая форма ретроспективной иллюзии, которая приводит к иллюзии телеологической, способствует тому, что объективно целенаправленное действие габитуса выглядит как продукт сознательной, расчётливой и даже циничной стратегии — стратегии объективной, успех которой часто зависит именно от её неосознанности и «незаинтересованности». Подобным образом те, кто добиваются успеха в политике или даже в искусстве и литературе, в ретроспективном плане могут восприниматься как вдохновенные стратеги, тогда как то, что объективно было рациональным инвестированием [капитала], могло переживаться ими как рискованное пари и даже как безумие. Требуемая и производимая принадлежностью к определённому полю, illusio исключает цинизм, и агенты практически никогда не обладают явно сформированным умением пользоваться механизмами, практическое овладение которыми является условием их успеха: так, например, наблюдаемые в рамках литературного поля и поля искусства реконверсии — переход от одного жанра к другому, от одной манеры к другой и так далее — переживаются (и должны, Для того чтобы избежать губительных альтернатив, в рамках которых оказалась заключённой история (социология) и которые, подобно противоположности между событийным и долговременным или — в другом измерении — между «великими людьми» и коллективными силами, единичными волями и формами структурного детерминизма, основываются на различии между индивидуальным и социальным, отождествляемым с коллективным, достаточно обратить внимание на то, что любое историческое действие ставит нас перед лицом двух состояний истории (или социального): истории в её объективированном состоянии, то есть истории, в течение длительного времени аккумулировавшейся в вещах, машинах, зданиях, памятниках, книгах, теориях, обычаях, праве и так далее, и истории в её инкорпорированном состоянии, ставшей габитусом. Тот, кто приподнимает шляпу, в знак приветствия, воскрешает, сам того не сознавая, условный знак, доставшийся в наследство от Средневековья, когда, как об этом напоминает Пановский, рыцари имели обычай снимать шлём, демонстрируя этим свои мирные намерения [8]. Такая актуализация истории является фактом габитуса, продукта исторического овладения, позволяющего обладать историческим опытом. История в смысле «res «gestae» есть история овеществлённая, влекомая, приводимая в действие, реактивируемая воплотившейся историей, и которая в свою очередь приводит в действие и несёт то, что несёт её самое (в соответствии с диалектикой несущего и несомого, хорошо описанной Николаем Гартманом) [9]. Подобно тому, как письмо вырывается из состояния мёртвой буквы только благодаря акту его прочтения, что предполагает и стремление его прочесть, и обладание навыками чтения и расшифровки заключённого в письме смысла, институировавшаяся, объективированная история становится историческим действием, то есть историей, приводимой в действие и действующей, если только за её осуществление принимаются агенты, которых к этому предрасполагает их история и которые в силу своих предыдущих «капиталовложений» склонны к тому, чтобы интересоваться её функционированием и обладают способностями, необходимыми для того, чтобы заставить её функционировать. Отношение к социальному миру является не отношением механической причинности, часто устанавливаемым между «средой» и сознанием, а своего рода онтологическим соучастием: когда одна и та же история преисполняет и габитус, и среду обитания, диспозиции и позицию, короля и его двор, хозяина предприятия и его предприятие, епископа и епархию, история неким образом сообщается с самой собой, отражается в себе самой, самоотражается. История — «субъект» раскрывается самой себе в истории — «объекте»: она узнает себя в «допредикативных», «пассивных синтезах», в структурах, структурированных до любой структурирующей операции и любого лингвистического выражения. Доксическое отношение к родному миру, эта своего рода онтологическая ангажированность, устанавливаемая практическим смыслом, есть отношение принадлежности и владения, в рамках которого тело, освоенное историей, присваивает себе самым абсолютным и непосредственным образом вещи, пронизанные той же историей [10]. Изначальное отношение к социальному миру, в котором, то есть через и благодаря которому, мы создаёмся, есть отношение владения, предполагающее владение объектами обладания своим владельцем. Только когда наследство завладело наследником, как говорит Маркс, наследник может завладеть наследством. И это осуществляемое наследством овладение наследником и овладение наследником наследства, которое является условием присвоения наследником наследства (в чём нет ничего ни механического, ни фатального), происходит под совместным воздействием типов усвоения, вписанных в положение наследника и воспитательную деятельность предшественников — ставших в своё время присвоенными собственниками. Унаследованный, присвоенный наследством наследник не имеет надобности выражать свою волю, то есть рассуждать, выбирать и сознательно принимать решения, чтобы делать то, что соответствует и отвечает интересам наследства, его сохранения и приумножения. Строго говоря, он может не осознавать ни того, что делает, ни того, что говорит, и (тем не менее) не делать и не говорить ничего такого, что не согласовалось бы с требованиями наследства. Людовик XIV столь полно отождествлял себя со своей позицией в том гравитационном поле, солнцем которого он являлся, что было так же тщетно пытаться определить, что из всех действий, происходивших в поле, было, а что не было продуктом его воли, как пытаться в исполняемом музыкальном произведении определить, что является заслугой дирижёра, а что — музыкантов оркестра. Его воля к господству сама продукт поля, над которым она господствует и которое всё оборачивает в свою пользу: «Приближённые, пленники сетей, расставлявшихся ими друг для друга, как бы поддерживали, так сказать, друг друга в своих позициях, даже если они и переносили саму систему лишь скрепя сердце. Давление, которое оказывали на них нижние или менее привилегированные слои, заставляло их защищать свои привилегии, И наоборот, давление, оказываемое сверху, подталкивало менее удачливых к тому, чтобы избавиться от него, подражая тем, кто достиг более выгодной позиции. Другими словами, они вступали в порочный круг соперничества Принцип вечного движения, возмущающий поле, заключается не в каком-либо первичном неподвижном двигателе — в данном случае королесолнце, — Подчинение целям, значениям или интересам, являющимся трансцендентными, то есть стоящими над и вне индивидуальных интересов, практически никогда не бывает результатом императивного принуждения и осознанного подчинения. И это потому, что так называемые Объективные цели, в лучшем случае обнаруживающиеся лишь после события и лишь внешним образом, изначально практически никогда не осознаются и не ставятся в качестве таковых в самой практике ни одним из затрагиваемых агентов, даже когда речь идёт о тех, кто более всего заинтересован в осознании своих целей, — о доминирующих. Подчинение совокупности практических действий какому-либо одному объективному намерению — это своего рода дирижирование в отсутствие дирижёра, осуществляется лишь благодаря согласию, устанавливающемуся как бы вне агентов и поверх их голов между тем, что они есть, и тем, что они делают, между их субъективными «призваниями» (тем, ради чего они чувствуют себя «сотворёнными» — «faits»), и их объективной «миссией» (тем, чего от них ждут), между тем, что история из них сделала, и тем, что она от них требует делать, — согласию, которое может выражаться либо в ощущении находиться вполне «на своём месте», делать то, что должны делать, и делать это с радостью — в объективном и субъективном смыслах — либо в покорной убеждённости, что невозможно делать другое, что также является — разумеется, менее радостным — способом ощущать, что создан для того, что делаешь. Объективированная, институционализированная история становится действующей и активной только тогда, когда должность — но также орудие труда, или книга, или даже «роль», социально предписанная и одобренная («подписать петицию», «принять участие в манифестации»), или исторически утвердившийся «персонаж» (интеллектуал-авантюрист или добропорядочная мать семейства, честный функционер или «человек слова») — находит Официант не играет в официанта, как того желает Сартр. Надевая свою рабочую одежду, прекрасно выражающую демократизированную и бюрократизированную форму преданного, исполненного достоинства слуги богатого дома, и придерживаясь церемониала предупредительности и участливости, который может быть стратегией, маскирующей опоздание, оплошность или позволяющей сбыть негодный продукт, он не превращается в вещь (или «вещь в себе»). Его тело, в котором запечатлена определённая история, приноравливается к функции, то есть к некой истории, традиции, которые он никогда не наблюдал иначе, как воплощёнными в телах или, вернее, в одеждах, «заселённых» неким габитусом, именуемым официантами кафе. Это не означает, что он научился быть официантом, подражая другим официантам, конституировавшимся таким образом в модели. Он отождествляет себя с функцией официанта, как ребёнок отождествляет себя со своим отцом (социальным) и, даже не нуждаясь в том, чтобы «прикидываться», принимает характерное выражение губ при разговоре или поводит плечами при ходьбе, что, как ему кажется, является составной частью социальной сущности сложившегося взрослого человека [17]. Нельзя даже сказать, что он считает себя официантом: он слишком поглощён функцией, которая была ему естественно (то есть социологически) предписана (например, как сыну мелкого коммерсанта, которому необходимо заработать, чтобы основать самостоятельное дело), чтобы осознать эту дистанцию. В то же время стоит в его положении оказаться какому-либо студенту (мы их встречаем сейчас во главе некоторых «авангардистских» ресторанов), и увидим, как тот тысячей жестов станет подчёркивать дистанцию, которую будет стремиться сохранить, стараясь как раз изобразить своё положение в виде роли по отношению к функции, которая не соответствует представлению (социально конституированному), сложившемуся у него о своём существе, то есть о своей социальной судьбе, для которой он не чувствует себя созданным Анализ, в котором Сартр продолжает и «универсализирует» знаменитое описание официанта кафе: «Как бы Это означает, что в случае более или менее полного совпадения между «призванием» и «миссией», между «спросом», чаще всего имплицитным, молчаливым и даже тайным образом заключённым в позиции, и «предложением», скрытым в диспозициях, напрасно было бы стараться отличить то, что в практической деятельности обязано влиянию позиций, от того, что объясняется влиянием диспозиций, привносимых агентами в эти позиции и способных определять восприятие и оценку ими позиции, следовательно, и их способ удерживать эту позицию, а тем самым и саму «реальность» позиции. Эта диалектика, как ни парадоксально, не проявляется никогда столь отчётливо, как в случае с позициями, находящимися в зонах неопределённости социального пространства, а также в случае с профессиями, слабо «профессионализированными», то есть ещё недостаточно определёнными как с точки зрения доступа к ним, так Таким образом, оказывается, что социальный мир изобилует институциями, которых никто не задумывал и не желал, и даже явные «руководители» которых не могут сказать — даже после всего свершившегося и во имя ретроспективной иллюзии, — как была «изобретена формула», удивляются сами, что они [институции. — Эта гипотеза нашла экспериментальное подтверждение в происшедших в течение последних нескольких лет трансформациях в различных государственных службах, в частности в почтовой службе, в связи с появлением у молодых мелких служащих, оказавшихся жертвами структурной деквалификации, диспозиций, менее соответствующих ожиданиям институции [26]. Следовательно, нельзя понять функционирования бюрократических институций иначе, как путём преодоления надуманного противопоставления «структуралистского» видения, пытающегося выявить в морфологических и структурных характеристиках основу «железных законов» бюрократии, рассматриваемых как механизмы, способные ставить собственные цели и навязывать их агентам, видению «интеракционистскому» или социально-психологическому, стремящемуся представить бюрократическую практику как продукт стратегий и взаимодействий агентов, игнорируя при этом как социальные условия производства этих агентов ( Правда, специфика бюрократических полей как относительно автономных пространств, образуемых институционализированными позициями, заключается в присущей этим позициям (определямым их рангом, движущей силой и так далее) способности добиваться от занимающих их людей выполнения всех практических действий, входящих в определение их должности, и всё это — под непосредственным и очевидным, а следовательно, и ассоциируемым обычно с идеей бюрократии воздействием распорядков, директив, циркуляров и так далее и особенно под воздействием совокупности механизмов призвания-кооптации, позволяющих адаптировать агентов к их должностям, или, точнее, их диспозиции к их позициям, а затем добиться от определённого органа официальной власти признания этих — и только этих — практических действий. Но даже в подобном случае было бы такой же ошибкой пытаться понять практические действия (обусловленные данным моментом времени, то есть являющихся результатом завершения некоторой истории в том, что касается их числа, юридического статуса и так далее), исходя из имманентной логики пространства, как и пытаться объяснить их лишь на основе «социально-психологических» диспозиций — агентов, особенно если они отделены от их условий производства. В действительности же здесь имеешь дело с исключительным случаем более или менее «удачного» столкновения между позициями и диспозициями, то есть между объективированной историей и историей инкорпорированной: тенденция бюрократического поля к «перерождению» в «тоталитарную» институцию, требующую полного и механического отождествления (perinde ас cadaver) «функционера» с функцией, аппаратчика с аппаратом, не связана механическим образом с морфологическими воздействиями, размеры и число которых способны оказывать влияние на структуры (например, посредством ограничений, накладываемых на коммуникацию) и на функции; эта тенденция может проявляться лишь в той мере, в какой она совпадает либо с сознательным сотрудничеством некоторых агентов, либо с бессознательным соучастием их диспозиций (что оставляет место для освобождающего воздействия осознания). Чем больше удаляешься от обычного функционирования полей как полей борьбы в направлении пограничных и, несомненно, никогда не достигаемых состояний, когда, с прекращением всяческой борьбы и сопротивления господству, поле всё ужесточается, сводясь к «тоталитарной институции» — в понимании Гофмана, или — в строгом понимании — к аппарату, который в состоянии требовать всего без всяких условий и уступок и который в своих крайних формах — тюрьма, казарма или концентрационный лагерь, располагает средствами символического и реального уничтожения «ветхого человека», — тем больше институция стремится пожертвовать своими агентами, которые все отдают институции (например, «Партии» или «Церкви») и которые тем легче приносят эту жертву, чем меньше у них капиталов вне институции, а следовательно, и свободы по отношению к ней Именно поэтому наиболее способствующие отчуждению, наиболее отталкивающие и близкие к каторжному труду условия работы тем не менее, находят рабочего, который на них соглашается, берётся за их исполнение, воспринимает, оценивает, обустраивает, приспосабливает их к себе и сам к ним приспосабливается в соответствии с собственной историей жизни и даже с историей всего своего рода. Если описание наиболее отчуждающих условий труда и наиболее отчуждённых рабочих звучит так часто фальшиво — и прежде всего в том, что не позволяет понять, почему вещи продолжают оставаться такими, какие они есть, — то это оттого, что оно, следуя логике химеры, способно показать молчаливое согласие, которое устанавливается между наиболее бесчеловечными условиями работы и людьми, подготовленными нечеловеческими условиями своего существования к тому, чтобы их принять. Диспозиции, запечатлённые посредством первого опыта социального мира, способные при определённом стечении обстоятельств предрасположить молодых рабочих принять и даже пожелать войти в мир труда, отождествляемый с миром взрослых, усиливаются затем самим опытом их трудовой деятельности и всеми изменениями в диспозициях, которые он за собой влечёт (и которые можно осмысливать по аналогии с описанными Гофманом как составляющими процесса «asilisation» изменениями). Здесь следовало бы напомнить весь процесс инвестирования, который подталкивает рабочих к тому, чтобы способствовать собственной эксплуатации уже самим своим усилием, направленным на овладение трудом и условиями своего труда, которое заставляет их привязываться к своей профессии во всех смыслах этого слова) в силу тех самых свобод (часто ничтожных и почти всегда «функциональных»), которые им предоставляются, а также, разумеется, под влиянием конкуренции, вызываемой различиями (между специализированными рабочими, иммигрантами, рабочими-женщинами и так далее), присущими профессиональному пространству, функционирующему как поле. Действительно, если исключить предельные ситуации, граничащие с принудительными работами, видно, что объективная правда наёмного труда — эксплуатация — становится отчасти возможной благодаря тому, что субъективная правда труда не совпадает с его объективной правдой. Об этом свидетельствует вызываемое ей (эксплуатацией) возмущение: профессиональный опыт, когда трудящийся не ждёт от своего труда (и от окружающей его рабочей среды) ничего, кроме зарплаты, переживается им как нечто калечащее, патологическое и невыносимое, потому что нечеловеческое [29]. То объективирующее усилие, которое потребовалось, чтобы конституировать наёмный труд в его объективной правде эксплуатируемого труда, заставило того, кто его осуществил, забыть, что эта правда должна была быть завоевана в борьбе против субъективной правды труда, совпадающей с объективной правдой лишь в пределе. Именно об этом пределе упоминает Маркс, когда замечает, что исчезновение разброса в нормах прибыли предполагает мобильность рабочей силы, которая в свою очередь предполагает, среди прочего, «безразличное отношение рабочего к содержанию его труда; возможно большее сведение труда во всех сферах производства к простому труду, освобождение рабочих от всех профессиональных предрассудков» [30]. При этом нельзя не вспомнить о существовании инвестирования в сам труд, что приводит к тому, что труд становится способным приносить специфическую прибыль, не сводимую к денежной прибыли: этот «интерес» к труду, который частично создаёт «интерес» факту трудиться и который является отчасти следствием иллюзии, присущей участию в определённом поле, способствует тому, что труд, несмотря на эксплуатацию, становится приемлемым для рабочего. Такое инвестирование в труд нередко способствует и возникновению определённой формы самоэксплуатации. Оно приводит к тому, что деятельность (например, у артиста или интеллектуала) переживается как свободная и незаинтересованная при соотнесении с узким определением интереса, отождествляемого с материальной прибылью, с зарплатой, в действительности предполагает подсознательное соглашение между диспозициями и позициями. Это практическое взаимоприспособление [31], являющееся условием инвестирования, интереса (в противоположность безразличию) к обусловленной рабочим местом деятельности оказывается, например, реализованным, когда такие диспозиции, которые Маркс называет «предрассудками профессионального призвания» и которые приобретаются в определённых условиях (например, в случае передаваемой по наследству профессии), находят условия своей актуализации в некоторых характеристиках самого труда, таких, как определённая свобода действий в организации производственных заданий или некоторые формы конкуренции в рамках трудового пространства (премии или чисто символические привилегии, как те, что предоставляются старым рабочим на мелких семейных предприятиях) [32]. Различия в диспозициях, равно как и различия в позициях (с которыми они часто связаны), лежат в основе различий в восприятиях и оценках, а тем самым — и совершенно реальных размежевании [33]. Именно поэтому недавняя эволюция промышленного труда в направлении того предела, на который указывал Маркс, то есть в сторону исчезновения «интересного» труда, труда «ответственности» и «квалификации» (и всеми корреляционными иерархиями), весьма Wesen ist was gewesen ist (Существо есть то, что существовало — нём). Можно понять, что социальное существо является тем, что было, но Всякая деятельность, нацеленная на противопоставление возможного вероятному, то есть будущему, объективно вписанному в существующий порядок, должна считаться с грузом овеществлённой и инкорпорированной истории, которая, как при процессе старения, стремится свести возможное к вероятному. Разумеется, следует непрестанно подчёркивать, имея в виду всевозможные формы технологического детерминизма, что потенциальные возможности, предлагаемые относительно автономной логикой научного развития, могут обрести социальное существование только в виде технических достижений и выступать, если представится случай, в роли фактора экономических и социальных изменений опять же только в том случае, если тем, кто обладает экономической властью, они покажутся отвечающими их интересам, то есть способными содействовать максимальной прибыли на капитал в рамках воспроизводства социальных условий господства, необходимых для присвоения доходов [38]. Тем не менее, в качестве завершения длительной серии актов социального выбора, выражающейся в форме совокупности технических потребностей, технологическое наследие стремится стать настоящей социальной судьбой, исключающей не только некоторые возможности, находящиеся ещё в состоянии возможностей, но и реальную возможность исключения множества уже реализовавшихся возможностей. Достаточно напомнить о ядерных электростанциях, которые, будучи построены, заявляют о себе тем, что не только выполняют свои технические функции, но и создают всевозможные формы соучастия тех, кто тесно связан с ними или с их продукцией. Можно также напомнить о том политическом выборе, который наметился с Это хорошо видно на ситуациях постреволюционных периодов, когда овеществлённая и инкорпорированная история оказывает глухое или подспудное сопротивление реформистским или революционным диспозициям и стратегиям, также в значительной мере обусловленным всё той же историей, против которой они направлены. Институционализированная история неизменно одерживает верх над частичными, точнее, односторонними революциями. Даже при самых радикальных изменениях в условиях присвоения орудий производства у инкорпорированной истории остаётся возможность незаметно восстановить объективные (экономические и социальные) структуры, продуктом которых эти изменения являются. С другой стороны, известно, что происходит с политикой, рассчитывающей на трансформацию структур в результате простой конверсии диспозиций [39]. Революционные и постреволюционные ситуации изобилуют многочисленными примерами патетичных или гротескных несовпадений между историей объективированной и историей инкорпорированной, между габитусами, созданными для других должностей, и должностями, созданными для других габитусов, которые наблюдаются также при любом общественном порядке, хотя Во всех этих случаях деятельность носит характер борьбы между историей объективированной и историей инкорпорированной — борьбы, иногда длящейся всю жизнь, за то, чтобы сменить должность или самому измениться, чтобы завладеть должностью или самому быть превращённым ей в собственность (хотя бы для того, чтобы завладеть ей, трансформируя её). История творится в этой борьбе, в этой неявной битве, в ходе которой должности более или менее полно формируют тех, кто их занимает и стремится ими завладеть, когда агенты более или менее полно изменяют должности, перекраивая их по своим меркам. История творится во всех этих ситуациях, когда отношение между агентами и их должностями основывается на некотором недоразумении: это те руководители самоуправляющихся фирм, министры, служащие, которые сразу же после освобождения Алжира вступали в должность, в обличье колониста, директора, комиссара полиции, позволив чужеземной истории завладеть собой через акт повторного овладения [40]; это те освобождённые работники ВКТ, которые, как показывает Пьер Гам, прекрасно «узнают самих себя» в силу их классовых диспозиций в «Примирительном совете», одном из многочисленных институтов, созданных в XIX веке по инициативе «просвещённой» части доминирующего класса в надежде «примирить» хозяев и рабочих; этот типично патерналистский вид правосудия, обеспечиваемый «семейным трибуналом», в явной форме уполномоченный для отправления «отеческой» власти и урегулирования спорных вопросов путём совета и примирения на манер семейных советов и путём «десоциализации» конфликтов, встречает со стороны рабочих ожидание ясного и быстрого судопроизводства, а со стороны их профсоюзных представителей — «заботы о создании благопристойного образа рабочего класса» [41]. Таким образом, овеществлённая история играет на ложном соучастии, которое объединяет её с инкорпорированной историей, чтобы завладеть самим носителем этой истории: то же происходит, когда руководители в Праге или в Софии воспроизводят мелкобуржуазный вариант буржуазной роскоши. В основе своей такие хитрости исторического разума [42]. основаны на эффекте allodoxia, возникающей из случайного и неосознаваемого столкновения независимых исторических рядов. Как видно, история также является наукой о бессознательном. Выводя на свет всё, что скрывается как за доксой — непосредственным соучастием с собственно историей, так и за аллодоксией — ложным узнаванием, основанным на непознанном отношении между двумя историями, располагающим к тому, чтобы узнавать себя в другой истории — в истории другой нации или другого класса, — историческое исследование вооружает нас средствами истинного осознания или, более того, истинного самообладания. Мы без конца попадаем в ловушку смысла, который формируется вне нас, без нас, в неконтролируемом соучастии, объединяющем нас, историческую вещь с историей-вещью. Объективируя всё, что есть социально-немыслимого, то есть забытую историю, в самых обычных или самых учёных идеях — в омертвевших проблематиках, лозунгах, общих местах, — научная полемика, вооружённая всем тем, что произвела наука в постоянной борьбе с самой собой Социология всё ещё полностью остаётся тем, что из неё часто делают, — наукой, стремящейся к развенчанию, по выражению Монтеня, «мыслей, родившихся на кухне», подозрительным и злым взглядом, лишающим мир его очарования и уничтожающим не только ложь, но и иллюзии, предвзятостью «редукции», облачённой в добродетель непреклонной мысли, только в той мере, в которой она способна и себя самое подвергать такому же допросу, какому она подвергает любую практику. Можно постигнуть истины интереса, лишь согласившись на постановку вопроса об интересе для истины и лишь проявив готовность рисковать наукой и учёной респектабельностью, превращая науку в орудие, служащее, чтобы её самое подвергать сомнению. И всё это — в надежде обрести свободу по отношению к той негативной и демистифицирующей свободе, какую даёт наука. | |
Примечания | |
|---|---|
| |
Оглавление | |
| |