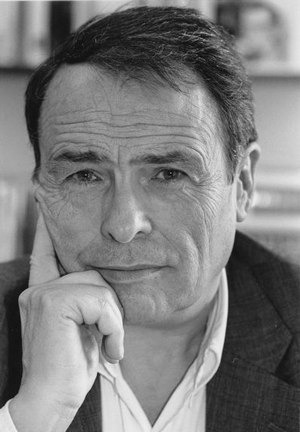 Пьер Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
Для начала — парадокс: примечательно, что даже те, кто с подозрением относятся к социальным наукам и, среди прочих, к социологии, с готовностью принимают опросы общественного мнения, которая в этих опросах присутствует часто в рудиментарной форме (что объясняется не столько низкой квалификацией лиц, ответственных за подготовку, сбор и анализ данных, сколько давлением со стороны заказчика или спешкой). Зондаж соответствует распространённому мнению о науке: на вопросы, которые «задаёт себе весь мир» (весь или, по крайней мере, маленький мир тех, кто финансирует зондажи: директоров газет или журналов, политиков или хозяев предприятий), он даёт быстрые и простые ответы в цифрах, лёгких с виду для понимания и комментирования. Однако в этой области ещё более, чем в любой другой «первоклассные истины суть первоклассные ошибки», и настоящие проблемы политических обозревателей и комментаторов часто являются псевдопроблемами, которые научный анализ должен уничтожить при построении своего предмета. На такой пересмотр первоочередных проблем коммерческие исследовательские институции не имеют ни средств, ни времени, да и как они могли бы это сделать, когда при современном состоянии рынка и информированности заказчиков опросов они в этом совершенно не заинтересованы. Вот почему чаще всего они довольствуются переводом в соответствующие вопросы проблем, которые ставит клиент. Меня могут спросить, не является ли практика, формирующая вопросы так, как формулирует их клиент, законченной формой «нейтральности» науки, к которой взывает «здравый смысл» позитивиста? Заметим один нюанс: бывает, что первоочередные вопросы, когда они внушены практическими знаниями и заботами, как, например, в исследованиях рынка, при новой их интерпретации в зависимости от теоретической проблематики, дают часто больше ценной информации, чем те, что поднимаются полученный в более претенциозных исследованиях. Позитивистский идеал «науки без учёного» реализует в отношениях между доминирующими и подчинёнными в поле власти эквивалент того, что представляет в другом плане мечту о «буржуазии без пролетариата». Успех всех метаморфоз, направленных на представление опроса как простой механической регистрации: «барометр», «фотография», «рентгенограмма» и так далее, а также заказы, которые политические деятели всех мастей продолжают направлять в частные исследовательские центры, игнорируя институты, финансирующиеся государством, свидетельствуют о глубинной установке на науку по заказам и изготовленную «на заказ», на науку без гипотез, которые воспринимаются, скорее, как предположения и даже предубеждения, и без теорий, которые, как известно, не имеют большого отклика. Под вопросом находится, как мы видим, само существование науки о социальном мире, способной утвердить свою автономию по отношению к любой власти. История изобразительного искусства показывает: артисты должны были бороться на протяжении веков, чтобы освободиться от заказа и заставить признать свои собственные намерения, определяющиеся конкурентной борьбой внутри художественного поля. Сначала в отношении манеры, выполнения, формы — короче, в том, что зависело только от артиста, а потом — в выборе самого предмета. Также И потом, почему те, кто, чтобы заставить работать своё предприятие, вынуждены продавать свою продукцию, наскоро упакованную и перевязанную в соответствии со вкусом потребителей, будут большими роялистами, чем их потребитель-король? И как бы они это смогли? У них есть хорошо апробированная выборка, хорошо притёртые бригады анкетеров, проверенные программы анализа данных. В каждом случае им не остаётся ничего другого, как найти, что хочет узнать клиент, то есть то, что он хочет, чтобы ему поискали, а лучше — чтобы ему нашли. Предположить, что владельцы опросных служб могут найти то, что считают правдой, и будут заинтересованы высказать её политику, обеспокоенному перевыборами, руководителю предприятия, теряющему оборот, редактору газеты, жаждущему более сенсаций, чем информации — значит предполагать, что они весьма мало озабочены сохранением своей клиентуры. И это в условиях, когда они должны считаться с конкуренцией новых товаров на рынке иллюзий, производящих фурор среди коммерческих директоров и руководителей public relations. Вновь открывая древнее искусство гадания на картах, хиромантии и разного рода сверхпросветлённых провидцев, эти продавцы «уценённой» научной продукции снова вводят в расплывчато-психологический и всегда очень близкий к обыденной интуиции язык, выработанную очень загадочным образом «жизненную стилистику», «кутилы», «первопроходцы», «не от мира сего» или «авантюристы». Они прошли хорошую школу в искусстве давать своему клиенту услужливые ответы, облачённые, благодаря настоящей магии определённой методологии и терминологии, во вполне научную форму. Как же могут они ставить и настаивать на проблемах, способных огорчить или шокировать, когда для удовлетворения своих клиентов им достаточно просто следовать за склонностями спонтанной социологии (с которыми научное сообщество, без сомнения, никогда не перестанет бороться в себе самом), давая ответы на проблемы, которые стоят только перед теми, кто заказывает исследование, и которые очень часто не ставились респондентами до того, как их обязали отвечать на них? Ясно, что они не заинтересованы в объяснении своим клиентам, что их вопросы неинтересны или, ещё хуже, беспредметны. Им потребовалась бы большая доблесть или вера в науку, чтобы отказаться от опроса по «имиджу арабских стран», зная, что их менее щепетильный конкурент ухватится за него (даже если они предполагают, что этим опросом можно только зафиксировать отношение к эмигрантам и то не в достаточной степени). В этом случае опрос, по крайней мере, Следовало бы переписать — не с наивно полемическим намерением, но чтобы им воспрепятствовать и уничтожить наиболее пагубные, с точки зрение науки, эффекты, которые принуждения рынка оказывают на практику служб, проводящих зондажи. Я только упомяну, чтобы попытаться оградить от таких ошибок в дальнейшем запросе министра национального образования, который в Эффекты «невидимой руки» рынка осуществляющиеся как при анализе, так и при сборе данных (известно, например, что проще получить с клиента деньги на финансирование непосредственно интересующих его вопросов, чем тех, которые дают информацию, необходимую для объяснений ответов), сочетаются с отсутствием свободного людского «резерва», способного выполнить немедленно срочный заказ и владеющего общим капиталом теоретических и технических средств. Это могло бы обеспечить совмещение знаний (полученных с помощью методической архивации предшествующих опросов), чтобы способствовать дескриптивному использованию опроса, к чему бессознательно взывают заказчики. Тем не менее, наиболее бесстрашные из тех, кого я называю вслед за Платоном «доксософами», предлагают объяснения, далеко выходящие за границы, вписанные в систему имеющихся у них объяснительных факторов, всегда очень немногочисленных и зачастую плохо измеренных. Любой может их встретить на вечеринках избирателей, без подготовки приводящих объяснения и интерпретации, которым одна только слишком очевидная нечестность политиков может дать видимость глубины и объективности. Я мог бы привести в качестве примера объяснения, которые предлагались для понимания раскола в коммунистической партии и которые не имели практически никакого значения для структурных изменений, сравнимых по важности с открытием доступа к среднему образованию и со структурным деклассированием, связанным с соответствующим обесцениванием школьного диплома, в отношении которого было выяснено, что он оказывает определяющее воздействие на политические диспозиции. Я готовился остановить здесь рассмотрение научных ограничений, свойственных деятельности коммерческих исследовательских институций, когда прочитал текст Алена Лансело, который закрывает, завершает и заканчивает сборник SOFRES от 1984 года. В этом «ответе» на некоторого рода вязкую смесь возражений против зондажей, как мне показалось, я обнаружил намерение ответить мне, но не узнал своих возражений, которые относились — и здесь, конечно, недоразумение — к науке, а не к политике, как считают (хотя лженаука производит настоящие политические эффекты). Поэтому я разберу другой пример, которого хотел избежать, так как он показывает в немного слишком жёсткой, даже жестокой манере социальные ограничения мыслительных способностей доксософов. Известно, что неответы являются больным местом, крестом и бедой опросных институтов, использующих все средства, чтобы сократить, минимизировать и даже спрятать их. Обречённые, таким образом, оставаться незамеченными в зондаже, который их отбрасывает в анкетной кухне Понятно, что политолог, проводящий зондаж, который видит в любой критике зондажа, идентифицируемого им с всеобщим избирательным правом (аналогия собственно не является ложной), символическую атаку на демократию, не может предположить, что наиболее важный вопрос, стоящий перед наукой, политикой, политической наукой, может заслуживать своим именем существование неответов. Эти неответы варьируют в зависимости от половой принадлежности (женщины чаще воздерживаются от ответов), от позиции в социальном пространстве (воздерживаются тем более, чем более обделены экономически и культурно) и от природы поставленного вопроса (факторы, склоняющие к абсентеизму, тем активнее, чем в более открыто «политической» форме поставлен вопрос, то есть чем он ближе по букве и по духу к проблемам, которые ставят перед собой ординарные доксософы: лица, проводящие зондажи, политологи, журналисты и политики). Чтобы пролить свет на эти истины, простые, но скрывающиеся за очевидностями повседневной рутины чтения ежедневных газет («Доля не принявших участия в голосовании составляет 30%»), нужно придать позитивную ценность этому промаху анкеты и демократии, этому недостатку, этой лакуне, этому небытию (как при подсчёте процентного распределения «без учёта неответивших»), Я не прошу меня оценить, но хочу, чтобы меня поняли: обнаружение, в истинном смысле этого слова, очевидного, то есть того, что «бросается в глаза», было лишь отправным пунктом. Недостаточно открыть, что склонность воздерживаться от ответа или, напротив, желание высказаться («Соглашаться, — как сказал Платон — значит говорить») вместо того чтобы молчаливо делегировать доверенным лицам: церкви, партии или профсоюзу, точнее, полновластным уполномоченным, наделённым plena potentia agendi — полнотой власти говорить и действовать вместо и на месте предполагаемых доверителей, распределяется не случайным образом. Нужно ещё увязать особую склонность лиц, наиболее обделённых в экономическом и культурном плане, со склонностью не отвечать на вопросы более открыто политические Во избежание недоразумений я должен был бы добавить, что это открытие, в конечном счёте, очень банальное, позволяет вернуться к классическим выводам о функционировании политических и профсоюзных аппаратов, которые сделали неомакиавелльянцы, в частности, Моска и Михельс, не принимая их сущностную философию истории. Последняя приписывает природе масс естественную склонность оставаться лишённой собственности в пользу вожаков, но, памятуя, что действенность исторических законов, которые они натурализуют, оказалась бы приостановленной или, по меньшей мере, ослабленной, если бы экономические и культурные условия их действия временно приостановились или ослабли. Мне хотелось бы убедить вас на этом примере, что «критика зондажей», если она существует, лежит не в области политики, где её помещают те, кто считает своей обязанностью защищать зондажи, рассчитывая тем самым, согласно испытанной стратегии, избежать собственно научной критики. И если научная критика должна в этом случае более, чем когда-либо принимать форму социологического анализа институции, то потому, что ограничения научной практики являются, как это всегда бывает, но в разной степени, вписанными в основном в принуждения, которые давят на институцию и, через неё, на мышление тех, кто в ней участвует. Критика является, во всяком случае, верным методом и честной игрой, поскольку в противоположность стратегиям «политизации», скрыто использующим аргументы ad hominem, она освобождает индивидов от ответственности, которой на них возложено значительно меньше, чем они сами хотели бы думать. | |