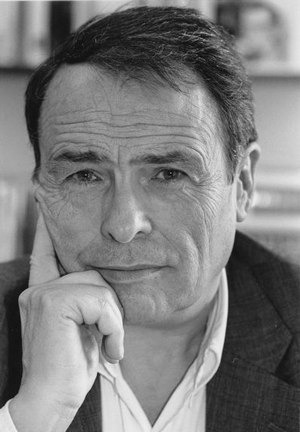 Интервью французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
Вопрос: Я хотел бы поговорить с Вами об интересе, который Вы проявляете в своих работах, к вопросу о родственных связях Пьер Бурдьё: Мои исследования брака в Беарне были для меня переломным моментом и сочленением между этнологией и социологией. С самого начала я задумывал эту работу о крае, откуда я родом, как некий эпистемологический эксперимент: проанализировать этнологически, в привычной среде (с близкой социальной дистанции), матримониальную практику, уже изученную мной в значительно более отдалённой социальной среде — кабильском обществе. Это означало предоставить себе возможность объективировать акт объективации и объективирующий субъект; то есть объективировать этнолога не только как социально локализованного индивида, но и как учёного, профессией которого является анализ социального мира, его осмысление, и который должен для этого выйти из игры: либо наблюдать чужой мир, в который не инвестированы его интересы, либо рассматривать собственный, мир, но отрываясь от игры; насколько это возможно сделать. Короче говоря, я не столько хотел наблюдать за наблюдателем в его своеобразии, что само по себе не представляет большого интереса, сколько наблюдать за воздействием, производимым положением наблюдателя на само наблюдение, на описание наблюдаемых вещей, открыть все предположения, присущие теоретическому положению как видению внешнему, отдалённому, отстранённому или просто непрактическому, невовлечённому, неинвестированному. И мне показалось, что это целая социальная философия, глубоко ложная, вытекающая из факта, что этнологу «нечего делать» с теми, кого он изучает, с их практикой, с их представлениями, кроме как изучать: существует пропасть между исследованием с целью понять, что представляют собой матримониальные связи между двумя семействами, желающими заключить наилучший брак для своего сына или дочери, инвестировав в него такой же интерес, какой люди нашего круга инвестируют в выбор лучшего учебного заведения для своего сына или дочери, и исследованием с целью понять эти связи, чтобы построить теоретическую модель. То же самое справедливо Таким образом, теоретический анализ теоретического видения как видения внешнего и, в особенности, без практической цели был, без сомнения, исходным моментом разрыва со всем тем, что другие назвали бы структуралистской «парадигмой». Усвоенное мной не через одну только теоретическую рефлексию обострённое сознание разрыва между теоретическими целями теоретического, понимания и практическими, непосредственно, заинтересованными, целями практического понимания, подвело меня к тому, чтобы говорить, скорее, о матримониальных стратегиях или о социальных функциях родства, чем о правилах родства. Это изменение терминологии показывает изменение точки зрения: следует избегать давать в качестве основы практики агентов теорию, которую нужно сконструировать, чтобы сделать практику разумной. Вопрос: Но когда Леви-Стросс говорит о правилах или о моделях, которые он реконструировал, чтобы осознать их, на самом деле он не находится в оппозиции к Вам по этому пункту. Пьер Бурдьё: В действительности, мне кажется, что оппозиция5 маскируется двойственностью слова «правило», позволяющей скрыть саму проблему, которую я пытался поставить: никогда нельзя точно сказать, понимается ли под. правилом принцип юридического или квазиюридического характера, более или менее сознательно произведённый и усвоенный агентами, или же это совокупность объективных закономерностей, которая навязывается всем, кто входит в данную игру. Именно с тем или с другим смыслом можно соотноситься, когда говорят о правиле игры. Но можно ещё держать в голове третий смысл — смысл модели, — принцип, произведённый учёными, чтобы понять игру. Я считаю, что, умалчивая о таких различениях, можно поставить себя под угрозу впасть в одно из самых пагубных заблуждений в социальных науках, которое состоит в том, чтобы выдавать, по старому выражению Маркса, «логические вещи за логику вещей». Во избежание этого нужно вписать в теорикореальный принцип стратегий, иначе говоря, практическое чувство «или, если это нравится больше, то, что спортсмены называют чувством Игры, понимаемым как практическое усвоение логики или необходимости, имманентной игры, которое получают через опыт игры и которое функционирует поту сторону сознания и дискурса (как, например, технические приёмы владения телом). Такие понятия, как габитус (или система диспозиций), практическое чувство, стратегия, связаны с усилием выйти из структуралистского объективизма, не впадая в субъективизм. Вот почему я не отношу к себе сказанное недавно Леви-Строссом по поводу исследований того, что он называет «общества жилища». Хотя не могу не чувствовать себя затронутым, поскольку я способствовал введению в теоретические дискуссии в этнологии одного из таких обществ, где акты обмена, матримониального или Вопрос: Вы хотите сказать о лекции Марка Блоха по «Этнологии и истории», опубликованной в Ежегоднике Высшей школы социальных наук (Annales. Пьер Бурдьё: Да. Когда он рассказывает о такой критике структурализма, «которая таскается всюду понемногу, и которая вдохновляется спонтанеизмом и субъективизмом по моде» (все это не Главное в том, что Леви-Стросс, замкнувшийся с давних времён в альтернативе субъективизм-объективизм (я имею в виду его замечания о феноменологии в предисловии к Моссу), не может воспринимать попытки преодолеть эту альтернативу иначе, как сползание к субъективизму. Будучи, как и многие другие, пленником альтернативы индивидуальное — социальное, свобода-необходимость и тому подобное, он не может не видеть в попытках порвать со структуралистской «парадигмой» возврат к индивидуалистскому субъективизму и через это — к иррационализму. По его мнению, «спонтанеизм» замещает структуру на «статистический способ, результирующий выбор, сделанный совершенно свободно или, по меньшей мере, избегающий любой внешней детерминации», и он сводит социальный мир к «необъятному хаосу созидательных актов, возникающих на индивидуальном уровне и утверждающих плодотворность непрерывного беспорядка» (как здесь не узнать образ или фантазм «спонтанеизма» Мая 68 года, который вызвал к жизни, помимо понятия, используемого для обозначения этого теоретического течения, намёки на моду и на критиков, «которые таскаются всюду?») Короче, поскольку стратегия для него является синонимом выбора, осознанного и индивидуального, ведомого рациональным расчётом или «этическими и аффективными» мотивациями, и поскольку стратегия противопоставляется принуждению и коллективной норме, Леви-Стросс может лишь отбросить как не научный теоретический проект, имеющий целью реально ввести в рассмотрение социализованного агента (а не субъекта) и стратегии более или менее «автоматические», идущие от практического чувства (а не от проектов или сознательного расчёта). Вопрос: Но какова, по Вашему мнению, функция понятия «стратегия?» Пьер Бурдьё: Понятие стратегии — это инструмент разрыва с объективистской точкой зрения Чувство игры не безошибочно; оно неравномерно распределено как в обществе, так Очевидно, что невозможно поставить проблему в терминах спонтанности и принуждения, свободы и необходимости, индивида и общества. Габитус, как чувство игры, есть инкорпорированная социальная игра, ставшая натурой. Нет ничего более свободного и, одновременно, более вынужденного, чем действие хорошего игрока. Он совершенно естественным образом находится в том месте, куда упадёт мяч, как если бы мяч им управлял, но посредством этого он управляет мячом. Габитус, в качестве социального, вписанного в тело, в биологического индивида, позволяет производить бесконечность актов игры, которые вписаны в игру как возможность и объективная необходимость. Принуждения и требования игры, хотя они и не заключены в коде правил, навязываются тем (и только тем), кто, в силу имеющегося у них чувства игры, то есть имманентного игре чувства необходимости, подготовлен к их восприятию и выполнению. Это легко переносится на ситуацию брака. Как я это показал в случае Беарна и Кабилии, матримониальные стратегии являются продуктом не подчинения правилу, а чувства игры, приводящему к «выбору» лучшей возможной партии. При этом исходят из игры, которой, располагают, то есть из козырей и плохих карт (дочери, в частности), искусства играть, на которое способны, а также эксплицитного правила игры — например, запретов или предпочтений в сфере родства или законов наследования — определяющих ценность карт (мальчики и девочки, старшие и младшие). А закономерности, которые можно здесь наблюдать благодаря статистике, являются агрегированным продуктом индивидуальных действий, ориентированных при помощи тех же самых объективных принуждений (необходимость, вписанная в структуру игры или частично объективированная в правилах) или инкорпорированных принуждений (чувство игры неравномерно распределено, но оно имеется в высшей степени повсюду, во всех группах). Вопрос: Но кто же устанавливает правила игры, о которых Вы говорите, и отличаются ли они от правил функционирования обществ, изложение которых у этнологов очень точно подводит к разработке моделей? Что разделяет правила игры и правила родства? Пьер Бурдьё: Образ игры, несомненно, наименее плох для изображения социальных предметов. Однако он несёт опасность. В самом деле, говорить об игре значит наводить на мысль, что в её начале стоит изобретатель игры, номотет, который установил правила, учредил социальный контракт. Ещё хуже наводить на мысль, что существуют правила игры, так сказать эксплицитные нормы, чаще всего писаные, тогда как в реальности это гораздо сложнее. Можно говорить об игре, чтобы сказать: совокупность людей участвует в регулируемой правилами действительности деятельности, которая, не будучи обязательно продуктом подчинения правилам, подчиняется определённым закономерностям. Игра есть место имманентной необходимости, которая является в то же время имманентной логикой. Нельзя делать что бы то ни было безнаказанно. А чувство игры, участвующее в той необходимости Нужно ли говорить о правиле? И да, и нет. Можно делать это с условием ясно различать правило и закономерность. Социальная игра регулируема, она — место закономерностей. Событий происходят в ней регулярным образом; богатые прямые наследники регулярно заключают браки с младшими дочерьми богатых семейств. Это не означает, что для богатых наследников является правилом жениться на богатых младших. Даже если можно думать, что жениться на наследнице (даже богатой, а тем более бедной младшей дочери) — это промах, и даже в глазах родителей — ошибка. Могу сказать, что все мои рассуждения проистекают отсюда: каким образом поступки могут регулироваться, не являясь продуктом применения практической таксономии, точнее, классификационных схем, которыми умело пользуются на практике, дорефлексивно, с помощью всех известных эффектов: обряды и мифы являются логичными, но только до определённой степени. Они логичны в практической логике (в том смысле, в каким говорит о практичной одежде, например), то есть подходят для практики, необходимы и достаточны для практики. Слишком логичное часто несовместимо с практикой или даже противоречит практическим целям практики. Отсюда и классификации, которые мы производим по поводу социального мира или мира политики. Я подошёл к тому, что мне представляется верной интуицией практической логики ритуального действия, мысля его по аналогии с нашим способом использования оппозиции между левым и правым для осмысления и классификации политических точек зрения или деятелей. (Спустя несколько лет, вместе с Люком Болтански я даже попытался понять; каким образом функционирует эта практическая логика в нашем каждодневном опыте. Я использовал технику, производную от той, которой пользовались изобретатели компонентного анализа, чтобы зафиксировать существующую у коренных жителей таксономию в области родства, в ботанике и зоологии: я давал классифицировать маленькие карточки, где, с одной стороны, были написаны названия партий, Вопрос: Здесь ещё раз Вы пересекаете границу между этнологией и социологией. Пьер Бурдьё: Да. Различие между социологией и этнологией препятствует этнологу подвергнуть собственный опыт анализу, который он применяет к своему объекту. Это обязывает его открыть: то, что он описывает как мифическое мышление, есть очень часто не что иное, как практическая логика, которая проявляется в трёх четвертях наших действий. Например, в тех наших суждениях, которые, несмотря ни на что, рассматриваются как высшее осуществление развитой культуры, как суждения вкуса, полностью основанные на парах прилагательных (исторически установившихся). Но чтобы вернуться к возможным принципам производства практических правил, нужно, помимо габитуса, принимать в расчёт правила эксплицитные, экспрессивные, сформулированные, которые могут сохраняться и передаваться как устно (в Кабилии и во всех других бесписьменных обществах), так и письменно. Эти правила могут даже выстраиваться в связную систему, с преднамеренной, желаемой связностью ценой работы по кодификации, которая возлагается на профессионалов в области оформления, рационализации, на юристов. Вопрос: Иначе говоря, различение, которое Вы делали вначале, между логическими вещами и логикой вещей, служит тому, чтобы явственно поставить вопрос об отношении между регулярностью практики, основанной на диспозициях, на чувстве игры, и эксплицитным правилом, кодом? Пьер Бурдьё: Совершенно верно. Улавливаемая статистически регулярность, перед коей самопроизвольно пасует чувство игры, в котором «удостоверяются» практически, как говорится, «играя в игру», необязательно имеет в качестве основы такое правило, как, например, дающее право, или «доправовое» правило (обычаи, пословицы, поговорки, формулы, эксплицитно выражающие регулярность, таким образом конституируемую в «нормативный факт»: я думаю о тавтологиях, когда, например, говорят о Вопрос: Таким образом, в принуждениях, определяющих социальную игру, можно было бы выявить правила, более или менее строгие, которые управляют (брачными) союзами и определяют родственные связи? Пьер Бурдьё: Самыми сильными из этих принуждений, по крайней мере, в традициях, которые я непосредственно изучал, являются правила, проистекающие из обычая передачи наследства. Именно через них заставляет признать себя экономическая необходимость, и именно с ними должны считаться стратегии воспроизводства, на первом месте среди которых — матримониальные стратегии. Но обычаи, даже сильно кодифицированные, что редко бывает в крестьянских обществах, сами являются объектом разного рода стратегий. Следует ли также всякий раз возвращаться к реальности практики, вместо того чтобы, как Ле Руа Ладюри, следуя Иверу, положиться на обычай, кодифицированный, то есть писаный, или нет? Обычай, основанный в главном на регистрации показательных «поступков» или нарушений и превращённых, на этом основании, в нормы, даёт очень неточное представление об обычной рутине обычных браков и становится объектом разного рода манипуляций связанных именно с браком. Если беарнцы сумели сохранить свои традиции наследования, несмотря на два века существования гражданского кодекса, то лишь потому, что давно научились играть с правилами игры. Соответственно, не нужно недооценивать эффект кодификации или простого придания официального характера (к которому сводится результат того, что называют преференциальным браком): Пути передачи наследства, указанные обычаем, предписываются как «естественные» и имеют тенденцию направлять (ещё нужно понять, каким образом) матримониальные стратегии, чем объясняется наблюдаемая достаточно тесная связь между географией способов передачи наследства и географией представлений о родственных связях. Вопрос: Фактически Вы отделяете себя от структуралистов по способу действия «принуждений»: юридических или экономических. Пьер Бурдьё: Совершенно верно. Знаменитое сочленение «инстанций» [1], которое структуралисты, и, особенно, Вопрос: Следовательно, матримониальные стратегии вписаны в систему стратегий воспроизводства… Пьер Бурдьё: Я мог бы рассказать о том, как озабоченность редакции журнала «Анналы» («Annales») элегантностью стиля привела к тому, что моя статья была названа Матримониальные стратегии в системе воспроизводства» (что не имеет особого смысла), а не так, как я отел — «в системе стратегий воспроизводства». Главное как раз в этом: мы не можем отделять матримониальные стратегии от совокупности стратегий (я думаю, например, о стратегиях рождаемости, стратегиях воспитания детей как стратегиях капиталовложений в культуру, или о стратегиях экономических, инвестициях, сбережениях и тому подобном), посредством которых семья стремится воспроизвестись биологически и, в особенности, социально, то есть воспроизвести те отличительные качества, которые позволяют ей сохранить свою позицию, свой ранг в рассматриваемом социальном универсуме. Вопрос: Говоря о семье и её стратегиях, не постулируете ли Вы гомогенность этой группы, её интересов, оставляя без внимания напряжённость и конфликты, присущие, например, совместной жизни? Пьер Бурдьё: Напротив. Матримониальные стратегии часто являются результирующей отношения силы внутри семейной группы, и эти отношения можно понять, лишь обращаясь к истории этой группы, в частности, истории предшествующих браков. Например, в Кабилии, если женщина происходит из другого края, она стремится усилить свою позицию через поиск партии с Эта теоретическая модель имеет всеобщую ценность и необходима для того, например, чтобы понять воспитательные стратегии семей или — совсем в другой области — их стратегии инвестирования или накопления. Моник де Вопрос: На самом деле, как мне кажется, этнология больше не рассматривает ни крестьян, ни кого-либо другого как варваров. Впрочем, её разработки во Франции и Европе, возможно, способствовали дальнейшему изменению точка зрения, которые она (этнология) имеет на общества. Пьер Бурдьё: Я намеренно обострил некоторые моменты. Но, тем не менее, я настаиваю, что есть нечто нездоровое в существовании этнологии как обособленной науки и что имеется риск согласиться — через эту обособленность — со всем тем, что содержится в первоначальном пении, из которого она вышла и которое воспроизводится, как я это показал, надеюсь» в её методах (например, откуда это сопротивление статистике?) и, особенно, в способах мышления. Например, отказ от этноцентризма, который запрещает этнологу соотносить то, что он наблюдает, с собственным жизненным опытом (как я только что сделал это, сближая операции по классификации, задействованные в ритуальном акте, с теми, что мы применяем в нашем восприятии шального мира), под видом уважения ведёт к установлению непреодолимой дистанции, как в пору расцвета «примитивной ментальности». И это можно также хорошо показать» когда создают «этнологию» крестьян или рабочих. Вопрос: Вернёмся к логике матримониальных стратегий: хотите ли Вы сказать, что вся структура и история игры представлены, через посредство габитуса актёров их: чувство игры, в каждом браке, которым завершается конфронтация их стратегий? Пьер Бурдьё: Точно так. Я показал, каким образом в Кабилии, например, самые сложные браки и, следовательно, самые престижные, мобилизуют квазицелостность двух данных групп и историю их прошлых взаимодействий — матримониальных или других — так что нельзя их понять иначе, как при условии ознакомления с итогом этих обменов на рассматриваемый период и ещё, конечно, всего того, что определяет позицию двух групп в распределении экономического, а также символического капитала. Мастерами переговоров являются те, кто умеет извлечь наибольшую выгоду из всего этого. Но это, можно сказать, имеет смысл лишь столь же долго, сколько брак является семейным делом. Вопрос: Да. Можно спросить себя, применимо ли это также Пьер Бурдьё: В действительности невмешательство в свободный рынок скрывает необходимость. Я показал её для Беарна, анализируя переход от матримониального режима планового типа к свободному рынку, который олицетворяется балом. Обращение к понятию «габитус» здесь необходимо больше, чем Вопрос: Леви-Стросс, защищая структуралистскую парадигму, говорит, что «сомнение в том, что структурный анализ применим к каким-либо (обществам), приводит к оспариванию его применимости к любым». Не подходит ли это также, по Вашему мнению, для парадигмы стратегии? Пьер Бурдьё: Я считаю, что несколько неосторожно предлагать универсальную парадигму и очень остерегался это делать, исходя из двух случаев — в конечном итоге достаточно похожих, которые изучил (даже если я считаю возможным, что матримониальные стратегии универсально вписываются в систему стратегий социального воспроизводства). Действительно, чтобы сделать вывод в пользу монизма или плюрализма, нужно убедиться, что структуралистское видение, которое господствует при анализе бесписьменных обществ, не является ни результатом отношения к предмету, ни результатом теоретического анализа практики, чему благоприятствует отстранённая позиция этнолога (так, брак с параллельной двоюродной сестрой, который считали правилом в арабо-берберских странах, был предметом нескольких структуралистских упражнений, чью слабость я считаю мной доказанной). Некоторые работы о типично «холодных» обществах вроде бы показывают, что при условии более детального рассмотрения вместо того чтобы довольствоваться фиксацией номенклатуры терминов родства и абстрактных генеалогий, сводя таким образом связи между супругами к одной генеалогической дистанции, обнаруживаешь, что матримониальные обмены и, в более общем виде, все материальные или символические обмены (например, передача имён) являются случаем сложных стратегий, и что генеалогии, сами по себе далёкие от того чтобы управлять экономическими или социальными связями, являются целью манипуляций, предназначенных для усиления или запрещения экономических или социальных связей, их легитимации или осуждения. Я думаю о работах Батзона, который в «Naven» открывал путь, приводя случаи стратегических манипуляций, чьим предметом могли быть названия местности или происхождение и отношения между обоими. Или о совсем недавних исследованиях Албана Бенза по Новой Каледонии. Как только этнолог обзаводится средствами ухватить в их утончённости социальные способы применения родства, комбинируя, как это делал Бенза, лингвистический анализ топонимов, экономический анализ обращения земель, систематический опрос о самых обыденных политических стратегиях и тому подобном, он открывает, что браки являются сложными операциями, связывающими массу параметров, которые генеалогическая абстракция, сводящая все к родственной связи, оставляет в стороне, даже не зная об этом. Одна из основ разногласия между двумя «парадигмами» могла заключаться в том, что нужно провести часы и часы с хорошо информированным и благожелательно настроенным информатором, чтобы собрать информацию, необходимую для понимания одного-единственного брака — или, по меньшей мере, для выявления соответствующих параметров, касающихся построения статистически обоснованной модели принуждений, организующих матримониальные стратегии, — тогда как можно за полдня составить генеалогию, включающую сотню браков, и за два дня составить таблицу обозначений адресов и ссылок. Я склонен думать, что в социальных науках язык правил есть зачастую прибежище для невежества. Вопрос: В «Практическом чувстве», в частности, по поводу ритуала, Вы проводите мысль, что этнолог сам искусственно создаёт дистанцию, необычность, поскольку неспособен разобраться с собственным отношением к практике. Пьер Бурдьё: Я не читал той безжалостной критики, которую Витгенштейн адресует Фрезеру и которая приложима к большинству этнологов, когда описывал то, что мне кажется реальной логикой мифического или ритуального мышления. Там, где видели алгебру, я считаю, нужно видеть танец или гимнастику. Интеллектуализм этнологов, удваивающих беспокойство о наукообразии их работы, мешает им видеть, что в своей каждодневной практике, когда они пинают камень, о который споткнулись — согласно примеру, приведённому Витгенштейном, или когда они распределяют по классам профессии или политических деятелей, то сами подчиняются логике, очень похожей на «примитивную», классифицирующую предметы по тому, сухие они или влажные, тёплые или холодные, высокие или низкие, левые или правые и тому подобные. Наше восприятие и наша практика, в частности, наше восприятие социального мира, направляются практическими таксономиями, оппозициями между высоким и низким, мужским (мужественным) и женским и тому подобным. Классификации, произведённые этими практическими таксономиями, обязаны своей доброкачественностью тому, что в них есть «практического», что допускает логики ровно столько, сколько надо для нужд практики, ни слишком много — расплывчатость необходима, особенно в переговорах, — ни слишком мало, поскольку жизнь стала бы невозможной. Вопрос: Думаете ли Вы, что существуют объективные различия между обществами, благодаря чему некоторые из них, в частности, самые дифференцированные и самые сложные лучше подготовлены к играм со стратегиями? Пьер Бурдьё: Хотя Вопрос: Следовательно, Вы считаете, что изучение родственных связей играет, несмотря ни на что, свою роль в интерпретации нашего общества, но что его следует Пьер Бурдьё: Главную роль. Например, в совместной работе с Моник де Одним словом, вся моя работа на протяжении более двадцати лет имеет целью уничтожить оппозицию между этнологией и социологией. Такое деление остаточно, оно носит следы прошлого и запрещает тем и другим адекватно ставить наиболее фундаментальные проблемы, стоящие перед любым обществом: например, проблемы специфической логики стратегий, используемых группами и, в особенности, семьями для своего производства и воспроизводства, то есть для создания и продолжения своей целостности, и, следовательно, своего существования в качестве группы, что почти всегда и во всех обществах является условием для воспроизводства их позиции в социальном пространстве. Вопрос: Теория стратегий воспроизводства, следовательно, неотделима от генетической теории групп, направленной на уяснение логики, по которой образуются или распадаются группы или классы? Пьер Бурдьё: Совершенно верно. Это было настолько очевидно и важно для меня, что я решился на то, чтобы переставить главу, посвящённую классам, которую предусматривал сделать заключением «Различения», в конец первой, теоретической части «Практического чувства», где попытался показать, что группы, в особенности, единицы, основанные на генеалогии, существуют одновременно Так же, как теоретические единицы, которые вычленяет на бумаге генеалогический анализ, не соответствуют автоматически реальным, практическим единицам, так и теоретические классы, выделяемые социологической наукой, чтобы сделать понятной практику, автоматически не являются мобилизованными классами. В обоих случаях мы имеем дело с группами на бумаге. Короче говоря, группы — семейные или другие — это вещи, которые получаются ценой труда, связанного с непрерывным поддержанием связей, одним из моментов которого являются браки. То же самое справедливо и для классов, сколь бы мало они ни существовали (задавались ли Вы вопросом, что такое «существовать» для группы?): принадлежность конструируется, обсуждается, выторговывается, разыгрывается. И здесь ещё раз нужно преодолеть оппозицию волюнтаристского субъективизма и сциентиетского и реалистского объективизма: социальное пространство, расстояния в котором измеряются величиной капитала, определяет близость и сродство, отдалённость и несравнимость, короче говоря, вероятность принадлежать к реально объединённым группам, семьям, клубам или мобилизованным классам. Но именно в борьбе за классификацию, за навязывание той или иной манеры расчленения этого пространства, за объединение или за деление и тому подобное, определяются реальные связи. Класс никогда не даётся в вещах; он является также представлением и волей; но он может воплотиться в вещах лишь тогда, когда сближает то, что объективно близко, и отдаляет то, что объективно удалено друг от друга. | |
Примечания | |
|---|---|
| |