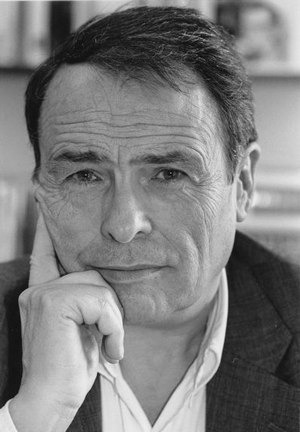 Интервью французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
Вопрос: Какова была интеллектуальная ситуация во время Вашей учёбы: марксизм, феноменология и так далее? Пьер Бурдьё: Когда я был студентом, то есть в Университетская философия не была увлекательной… Даже если её читали очень компетентные люди, такие, как Анри Гуне, вместе с которым я делал курсовую работу (комментированный перевод «Замечаний к общей части декартовых «Начал» — «Animadversiones» Лейбница), Гастон Башляр или Жорж Кангилем. За пределами Сорбонны и, в особенности, в Высшей школе социальных наук Стремление к разрыву, в большей степени, чем к «нарушению», было у меня ориентировано на институированную власть, в частности, против университетской институции и всего того, что она скрывает в себе насильственного, против лжи, канонизированной глупости, а через эта и против социального порядка. Может быть как раз потому, что мне не нужно было улаживать дела с буржуазной семьёй, как другим, Многие интеллектуальные установки, которые я разделял с поколением «структуралистов» (Альтюссер и Фуко, в частности), — к каковому себя не отношу, Вопрос: Вы никогда не интересовались экзистенциализмом?» Пьер Бурдьё: Я читал Хайдеггера; много Вопрос: Но в тот момент социолог [4] доминировал над философом? Пьер Бурдьё: Нет, это был простой эффект институционального авторитета. И наше пренебрежение к социологии было удвоено благодаря тому факту, что социолог мог возглавлять комиссию по присуждению философских степеней и заставлять нас посещать свои лекции о Платоне или Руссо, которые мы оценивали как совершенный ноль. Это презрение к социальным наукам продолжалось у философов-нормальенцев [5], которые представляли «элиту», а значит доминирующую модель — по меньшей мере до Вопрос: Но как же совершился переворот Пьер Бурдьё: Структурализм был очень важен. Впервые социальная наука заставила признать себя как уважаемую дисциплину, даже как доминирующую. Леви-Стросс, который окрестил свою науку антропологией вместо этнологии, объединив англосаксонский и старый немецкий философский смыслы (Фуко переводил примерно в то же время «Антропологию» Канта), облагородил науку о человеке, тем самым конституировавшуюся, благодаря ссылкам на Соссюра и лингвистику, в Королевскую науку, на которую даже сами «философы должны были ссылаться. Это момент, когда осуществилось со всей силой то, что я называю эффектом «-логии», ссылаясь на все те названия, которые используют это окончание: археология, грамматология, семиология и тому подобное, как на наглядное выражение старания философов размыть границу между наукой и философией. У меня никогда не было большой симпатии к таким половинчатым реконверсиям, которые позволяют накапливать, с минимальными затратами выгоды от принадлежности к науке и выгоды, связанные со статусом философа. Я думаю, что на тот момент следовало вводить в игру статус философа и весь его престиж, чтобы совершить настоящее обращение в науку. Со своей стороны, продолжая работу над внедрением в социологию структуралистского или реляционного способа мышления, я сопротивлялся изо всех сил светским формам структурализма. Я был тем меньше настроен на прощение грехов за механический перенос Соссюра или Якобсона в антропологию или в семиологию, практиковавшийся в Вопрос: Но вначале Вы стали этнологом? Пьер Бурдьё: Я предпринял исследование на тему «Феноменология эмоциональной жизни» или, точнее, о временных структурах в эмоциональном опыте. Чтобы совместить стремление к строгости с философским исследованием, я хотел заняться биологией и тому подобным. Я мыслил себя философом и потратил немало времени, чтобы признаться себе в том, что стал этнологом. Новый престиж, который дал Леви-Сгросс этой науке, без сомнения, очень мне помог. Я занимался одновременно исследованиями, которые можно было бы назвать этнологическими (о родственных связях, ритуалах, докапиталистической экономике) и исследованиями, которые можно было бы назвать социологическими, в частности, статистическими опросами, которые проводил вместе с моими друзьями из Национального института статистических, исследований и экономики (INSEE) Дарбелем, Риве и Зейбелем, очень много мне давшими. Например, я хотел установить принцип (никогда ясно не определяемый в теоретической традиции) различия между пролетариатом и субпролетариатом; и, анализируя экономические и социальные условия появления экономического исчисления в области экономики, а также рождаемости и так далее, я попытался показать, что источник этого различия берёт начало в уровне экономических условии для возможности рационального предвидения, измерением которого являются революционные ожидания. Вопрос: Но этот теоретический проект был неотделим от методологии? Пьер Бурдьё: Да, я, конечно, перечитал все тексты Маркса и многих других по данному вопросу (это, без сомнения, был период, когда я больше всего читал Маркса и даже исследование Ленина о развитии капитализма в России). Я работал также над марксистским понятием «относительной автономии» в связи с начатыми мной исследованиями о поле искусства (небольшая книжечка «Маркс, Прудон, Пикассо», написанная Вопрос: Вы занимались в то же время антропологическими исследованиями? Пьер Бурдьё: Да. Эти исследования были тесно взаимосвязаны. Поскольку я ещё хотел понять, исходи из моего анализа временных структур сознания, условия усвоения «капиталистического» экономического габитуса у людей, сформировавшихся в докапиталистическом универсуме. И сделать это посредством наблюдения и измерения, а не вторичным осмыслением вторичных материалов. Я хотел также решить чисто антропологическую проблему, в частности ту, которую ставил передо мной структуралистский подход. Я рассказал во введении к книге «Практическое чувство» («Le Sens pratique») [6], как я, используя статистику, что делалось в этнологии очень редко, с удивлением открыл: брак, считающийся типичным в арабо-берберских обществах, то есть брак с параллельной, двоюродной сестрой, представляет примерно от 3 до 4% случаев и Это заставило меня поразмышлять над понятием родства, правила, правил родства, которые привели меня к позиции-антиподу по отношению к структуралистской традиции. Такое же приключение было у меня Вопрос: Вы часто цитируете Витгенштейна — почему? Пьер Бурдьё: Несомненно, Витгенштейн — это философ, который был мне наиболее полезен в трудные минуты. Это просто спаситель во времена интеллектуального бедствия, когда нужно поставить вопрос о таких достаточно очевидных вещах, как «подчинение правилу». Или когда нужно сказать вещи достаточно простые ( Вопрос: В чём был источник Вашего сомнения в отношении структурализма? Пьер Бурдьё: Я хотел вновь ввести в некотором роде агентов, которых Леви-Стросс и структуралисты, особенно Альтюссер, старались уничтожить, сделав из них простые эпифеномены структуры. Я говорю именно об агентах, а не о субъектах. Действие [8] — это не просто выполнение правила, подчинение правилу. Социальные агенты в архаических обществах, как В более сложных играх, например, матримониальных обменах, или в ритуальной практике, они привлекают инкорпорированные принципы порождающего габитуса — такой системы диспозиций, которую можно представить по аналогии с порождающей грамматикой Хомски с той разницей, что речь идёт о диспозициях, приобретённых в результате опыта, следовательно, изменяющихся в зависимости от места и времени. Это «чувство игры», как говорят французы, есть то, что позволяет породить бесконечность поступков, приспособленных к бесконечности возможных ситуаций, которые ни одно правило, каким бы сложным оно ни было, не может предусмотреть. Таким образом, правила родства я заменил на матримониальные стратегии. Там, где все говорили о «правилах», о «модели», о «структуре», немного отчуждённо, становясь на объективистскую точку зрения, на позицию Бога-Отца, рассматривающего социальных актёров как марионеток, структурами которых служили бы нити, теперь все говорят о матримониальных стратегиях (что подразумевает переход на точку зрения агентов, тем не менее без того чтобы делать из них рациональных «счётчиков»). Конечно же, нужно снять с этого слова наивно телеологические коннотации: поведение может быть ориентировано на цель, не будучи сознательно направляемым к этой цели, движимо этой целью. Понятие габитуса придумано, если можно так сказать, чтобы осознать этот парадокс. Таким же образом, факт, что ритуальные практики есть продукт «практического чувства», а не некоего бессознательного расчёта или подчинения правилу, объясняет то, что ритуалы бывают связаны, но той частичной, всегда неполной связностью, которая присуща практическим конструкциям. Вопрос: Не может ли этот разрыв со структуралистской парадигмой столкнуть Вас снова в «индивидуалистическую «парадигму» рационального расчёта? Пьер Бурдьё: В ретроспективе можно понять (а действительно, в реальности исследования так не бывает) использование понятия габитус (habitus), старого аристотелевско-томистского концепта, полностью мной переосмысленного, как способ избежать выбора между структурализмом без субъекта и философией субъекта. Здесь также некоторые феноменологи (сам Гуссерль, который заставляет понятие «габитус» играть роль в анализе допредикативного опыта, или Мерло-Понти, а также Хайдеггер) открыли путь — ни интеллектуалистский, ни механистический — к анализу отношения между агентом и миром. К сожалению, часто к моим разработкам применяют — и это главный источник всех недоразумений — те самые альтернативы, от которых понятие габитуса стремится отделиться, а именно, сознание и бессознательное, объяснение через детерминирующие или через конечные причины. Так, Леви-Стросс видит в теории матримониальных стратегий форму спонтанеизма и возврат к философии субъекта. Другие, напротив, увидят в ней крайнюю форму того, что они отрицают в социологическом способе мышления — детерминизм и ликвидацию субъекта. Но, конечно, самый чудовищный пример непонимания — это Джон Эльстер. Вместо того чтобы как все предъявить мне один из альтернативных терминов для противопоставления ему другого, он приписывает мне некое колебание между одним и другим и, таким образом, может обвинять меня в противоречии или, более утончённо, в совмещении взаимоисключающих объяснений. Позиция тем более удивительная, что, конечно, под действием конфронтации, он был вынужден принимать в расчёт то, что находится в самой основе моего представления о действии, то есть подгонку диспозиций к позиции, ожиданий, к шансам: sour grapes, Будучи продуктом инкорпорации объективной необходимости, габитус — необходимость, ставшая добродетелью, — производит стратегии, которые оказываются объективно подогнанными к ситуации, несмотря на то, что не являются ни продуктом сознательного устремления к целям, явным образом основанным на адекватном знании объективных условий, ни продуктом механической детерминации В этой логике надо заново проанализировать различение одной из тех парадоксальных линий поведения, которые поразили Эльстера, поскольку они являются вызовом различению между сознанием и бессознательным. Достаточно было бы сказать, но на деле это гораздо сложнее, что доминирующие кажутся отличающимися лишь потому, что, будучи в некотором роде рождёнными в положительно отличающейся позиции, они имеют габитус — социально конституированную природу — непосредственно подогнанную к, требованиям, присущим игре, и могут, таким образом, утверждать своё отличие, не испытывая потребности это желать, то есть с естественностью, которая отмечает различия, называющиеся «природный». Им Достаточно быть тем, что они есть, чтобы быть тем, чем они должны быть, то есть естественно отличающимися от тех, кто должен тратиться на, поиск различия. Далеко не отождествляемый с отличительным поведением, как это думал Веблен, с которым, меня ошибочно сравнивает Эльстер, поиск различия есть отрицание отличительного поведения: прежде всего потому, что он заключает признание нехватки чего-либо и свидетельство заинтересованного стремления, и потому — как это хорошо видно у мелкой буржуазии — что сознание и рефлексивность являются одновременно причиной и симптомом порока непосредственной адаптации к ситуации, которая определяет виртуоза. Габитус поддерживает с социальным миром, продуктом которого является, настоящее онтологическое соучастие, принцип знания без сознания, интенциональности без интенции и практического освоения закономерностей мира, который позволяет предвосхищать будущее, даже не нуждаясь в том, чтобы полагать его как таковое. Здесь мы находим основание отличия, которое делал Гуссерль в «Идеях I», между протекцией, как практическим устремлением в будущее, вписанным в настоящее, то есть воспринимаемым, И именно в силу непонимания этой разницы и, особенно, теории агента (в противоположность «субъекту»), которая обосновывает эту разницу, Сартр в своей теории действия и, в частности, в теории эмоций встречал трудности, полностью идентичные тем, которые Эльстер, чья антропология очень близка к сартровской, постарался решить с помощью некой новой философской казуистики: как я могу свободно освободиться от свободы, свободно дать миру возможность меня детерминировать, например, в страхе и тому подобном? Но я уже разбирал всё это вдоль и поперёк в «Практическом чувстве». Вопрос: Отчего же возврат к понятию «габитус?» Пьер Бурдьё: Понятие «габитус» ранее многократно использовалось такими достаточно различными авторами как Гегель, Гуссерль, Вебер, Дюркгейм и Мосс, которые использовали его более или менее методически. Однако, как мне кажется, использовавшие это понятие во всех случаях вдохновлялись одной теоретической интенцией или, по крайней мере, указывали одно и то же направление поиска. Так, Гегель использовал, с той же функцией понятия «экзис» (hexis), «этос» (ethos) и так далее, чтобы порвать с кантовским дуализмом и вновь ввести в рассмотрение перманентные диспозиции, являющиеся составляющими морали по обычаю (Sittlichkeit) в противоположность морализму по обязанности; Гуссерль использовал понятие «габитус» и такие различные смежные концепты, как, например, Habitualität чтобы вырваться из философии сознания; а Мосс — когда нужно объяснить систематическое функционирование, социализованного тела. Возвращаясь к понятию «габитус», по поводу Пановского, который в его «Готической архитектуре»… [9] сам вернулся к коренному понятию, чтобы объяснить эффект схоластической мысли, я хотел вырвать Пановского из неокантианской традиции, внутри которой он оставался (это ещё яснее в его «Перспективе как символической форме» [10]), извлекая выгоду из чисто, случайных или, по крайней мере, единичных употреблений этого понятия (Люсьен Гольдман хорошо видел, как меня быстро приблизило к тому, чтобы «вытащить» в сторону материализма мыслителя, который, по его мнению «всегда отказывался идти в этом направлении Более всего я хотел противодействовать механистической ориентации Соссюра (который — я это показал в «Практическом чувстве» — понимает практику как простое исполнение) и структурализму. Весьма сближаясь в этом с Хомски, у которого я встретил, такое, же намерение придать практике активную, изобретательную интенцию (оно появилось Но я хотел напомнить, что такая «творческая», активная, изобретательная способность — это способность не трансцендентального субъекта в идеалистической традиции, но действующего агента. Рискуя увидеть себя причисленным к сторонникам наиболее вульгарных форм мышления, я хотел напомнить о «примате практического разума», о котором говорил Фихте, и сделать эксплицитными специфические категории этого разума (что Вопрос: Все Ваши работы и, особенно, критика, которую Вы направляете в адрес идеологии «дара» или в области теоретической, в адрес глубоко антигенетической интенции структурализма, руководствуются заботой о восстановлении генезиса диспозиций, индивидуальной истории. Пьер Бурдьё: В этом смысле, если бы мне нравилась игра в ярлыки, часто практикуемая в интеллектуальном поле с того времени, как некоторые философы ввели в него методы и модели поля искусства, я сказал бы, что пытаюсь разработать генетический структурализм. Анализ объективных структур — структур различных полей — неотделим от анализа генезиса ментальных структур внутри биологических индивидов, которые являются, в некоторой степени продуктом инкорпорации социальных структур и анализа генезиса самих этих социальных структур: социальное пространство и группы, которые в нём распределяются, являются продуктом исторической борьбы (в которую агенты вовлекаются, в зависимости от их позиции в социальном пространстве и от ментальных структур, через которые они воспринимают это пространство). Вопрос: Всё это кажется очень далёким от ригидного детерминизма и от догматического социологизма, которые Вам порой приписывают. Пьер Бурдьё: Я не могу узнать себя в этом образе и не могу запретить себе видеть объяснение тому в сопротивлении анализу. Во всяком случае, я нахожу достаточно забавным, что социологи или историки, которые не всегда лучше других «вооружены», чтобы вдаваться в такие философские дискуссии, поднимают сегодня этот спор для стареющих учёных Прекрасной Эпохи (Belle Epoque), которые хотели спасти духовные ценности от опасности со стороны науки. Тот факт, что они не находят ничего лучшего как противопоставить научной конструкции метафизический тезис, кажется мне очевидным признаком слабости. Дискуссию следует разворачивать именно на территории науки, если не хотят впасть в дискуссию для выпускного класса школы и культурных еженедельников, где все философские кошки серы. Несчастье социологии в том, что она вскрывает произвольность, случайность там, где любят видеть необходимость или природу (дар, например, который, как известно со времени мифа об Эре у Платона, нелегко совместить с теорией свободы); и что она вскрывает необходимость, социальное принуждение там, где хотели бы видеть выбор, свободную волю. Габитус — это тот принцип Таким образом, познавательный вопрос об истинности или ложности того, что социолог подаёт как констатацию, а не предположение (например, что потребление продуктов питания или способность владеть своим телом изменяются в зависимости от занимаемого в социальном пространстве положения) и об осмыслении этих вариаций, избегнув постановки на территории, где он мог бы быть Исходя из этого, как можно не видеть, что, высказываясь за социальные детерминанты практики, в частности, интеллектуальной, социолог предоставляет возможность для некоторой свободы по отношению к этим детерминантам? Именно через иллюзию свободы в отношении социальных детерминаций (иллюзия, о которой я говорил сотни раз, что она служит специфической детерминацией интеллектуалов) социальным детерминациям дана свобода осуществляться. Все, кто начинает спор с закрытыми глазами, имея свой небольшой философский багаж XIX века, поступили бы хорошо, осознав это, если они не хотят давать повод для самых упрошенных форм объективации. Так, парадоксальным образом, социология освобождает, освобождая от иллюзии свободы, или, более точно, от неуместных верований в иллюзорную свободу. Свобода — это не данность, но завоевание, и завоевание коллективное. И мне жаль, что во имя мелкого нарциссического либидо, поддерживаемого незрелым отрицанием реальности, Возьмём очень простой пример: я получил через одного из моих друзей карточки, которые вед преподаватель философии на своих учеников подготовительных курсов в высшую школу. На каждой карточке были: фотография, данные о профессиях родителей и оценки за письменные работы. Вот простой документ: преподаватель (свободы) пишет на карточке одной из учениц, что у неё раболепное отношение к философии; суть в том, что эта ученица была дочерью уборщицы (единственная из таких слоёв на всем курсе). Этот реальный пример, очевидно, немного упрощает картину, но элементарное деяние, которое заключается в том» чтобы написать в письменной работе «пошлый», «раболепный», «блестящий», «серьёзный» и тому подобное — есть приведение в действие социально установленных таксономии, являющихся в общем виде интериоризацией существующих оппозиций в университетском поле (в форме деления на дисциплины, секции) Парадоксально, но это критическое, рефлексивное расположение духа вовсе не само собой разумеется, особенно для философов, которые — в силу социального определения их функции Чем же интересен этот пример? Тем, что мы видим: принуждение, интересы или диспозиции, связанные с принадлежностью к философскому полю, давят на философов-марксистов больше, чем сама марксистская философия. Если и имеется нечто, что марксистская философия должна была бы предписывать, то это внимание к истории ( Вопрос: Я вспоминаю, как мы пытались во Франкфурта обсуждать некоторые аспекты «Различения» («La Distinction»): могли бы Вы сказать, что символические структуры являются представлением об основополагающих сочленениях социальной реальности, или же эти структуры являются в некоторой мере автономными либо произведёнными всеобщим разумом? Пьер Бурдьё: Я всегда считал иерархическое представление о стратифицированных инстанциях (инфраструктура, суперструктура) неотделимым от вопроса об отношениях между символическими и экономическими структурами, который господствовал в дискуссиях между структуралистами и марксистами в Вопрос: Намерение порвать со структурализмом, следовательно, всегда было очень сильным у Вас, в то же самое время как и намерение привнести на территорию социологии опыт структурализма, которое Вы развиваете в своей статье «Structuralism and Theory of Sociological Knowlendge», вышедшей в 1968 году в «Social Research». Пьер Бурдьё: Ретроспективный анализ генезиса моих концептов, который Вы предлагаете мне сделать, это упражнение неизбежно надуманное, которое может столкнуть меня в «ретроспективную иллюзию». Различные теоретические предпочтения, несомненно, в исходной позиции были, скорее, негативными, чем позитивными, а также, по всей вероятности, имели своей основой поиск решения проблем, которые можно было бы назвать личными: например, беспокойство о том, чтобы неукоснительно остерегаться политически злободневных проблем, которое, несомненно, зачастую ориентировало мой выбор — от работ об Алжире через «Наследников» к «Homo academicus»; или, например, разного рода глубинные и лишь частично осознанные побуждения, направленные на то, чтобы чувствовать себя в родстве или во вражде с той или другой манерой жить интеллектуальной жизнью, а следовательно, поддерживать или бороться с той или иной занятой философской или научной позицией. Думаю, что в своих предпочтениях я всегда был сильно мотивирован сопротивлением против феноменов моды и настроений, которые считал фривольными, даже нечестными, против тех, кто делал из них сообщников: например, многие из моих исследовательских стратегий продиктованы заботой об отказе от дмбиции подводить итоги, которую обычно отождествляют с философией. К тому же я всегда имея достаточно амбивалентные отношения с Франкфуртской школой: симпатии очевидны и, однако, я испытывал некоторое беспокойство перед аристократизмом этой глобалистской критики, которая сохраняла все черты большой теории, несомненно, беспокоясь о том, как бы не испачкать руки в кухне эмпирических исследований. То же самое относится Желание выступить против претензий на большую критику привело меня к тому, чтобы «растворять» большие вопросы путём постановки их по поводу объектов социально незначительных и даже несущественных или, во всяком случае, сильно ограниченных, и, следовательно, поддающихся эмпирическому восприятию, как фотографические опыты. Но Вопрос: Что касается структурализма, как развивалось Ваше практическое отношение к этому течению? Пьер Бурдьё: Опять же по этому поводу. Чтобы быть абсолютно честным, скажу: меня вело некоторого рода теоретическое чувство, но ещё, и быть может прежде всего, отказ, достаточно инстинктивный, от этической позы, предполагаемой структуралистской антропологией, от высокомерного и отстранённого отношения, которое устанавливается между учёным и. его объектом, то есть простыми профанами, посредством теории практики, явно сформулированной у альтюссерианцев, делавших из агента простого «носителя» (Tröger) структуры (понятие бессознательного выполняет у Леви-Стросса ту же функцию). Так, например, порвав с леви-строссовским дискурсом по поводу коренной «рационализации», которая ничего не может прояснить антропологу о действительных причинах или настоящих основаниях практики, я упорно задаю информаторам вопрос о первопричине. Это подтолкнуло меня к открытию, например, по поводу брака, что причины для заключения брака одного и того же типа — в данном случае брака с двоюродной сестрой по отцовской линии — могли ощутимо варьировать в зависимости от агентов, а также от обстоятельств. Я был на пути к понятию «стратегия»… И параллельно начинал подозревать, что преимущественное право, жалованное научному, объективистскому анализу (например, генеалогическому) по отношению к представлению местных жителей, возможно, было профессиональной идеологией. Короче говоря, я хотел отказаться от бесцеремонной точки зрения антрополога, составляющего планы, карты, диаграммы, генеалогии. Всё это хорошо и неизбежно лишь как момент период объективизма, антропологический приём. Но не стоит забывать о другом возможном отношении к социальному миру, когда агенты реально вовлечены в рынок, например, схему которого я делаю. Следовательно, нужно создать теорию этого Такое видение вещей, которое я представляю в его «теоретической» форме, конечно, берёт своё начало в интуитивном убеждении в несводимости социального существования к моделям, которые можно создать на его основе или, говоря наивно, в «изобилии жизни», в расхождении между практикой или действительным опытом и умственными абстракциями. Но, не желая делать из этого основание или доказательство иррационализма или приговор научным амбициям, я попытался превратить это «фундаментальное установление» в теоретический принцип, который должен быть положен как момент всего того, что наука может сказать о социальном мире. Например, это вся вновь предпринимаемая мной в настоящее время рефлексия над schole, досугом и школой, как начала того, что Августин называл scholastic view, и ошибками, которые она систематически порождает. Наука не может ничего сделать с экзальтацией по поводу неисчерпаемости жизни: это лишь настроение, бескорыстное mood [11], кроме как для того, кто его выражает и кто напускает на себя, таким образом, раскрепощённый вид любителя жизни (в противоположность холодному и суровому учёному). Это очень острое чувство того, что Вебер называет Vielseitigkeit, множественность аспектов, составляющих действительность социального мира, его сопротивление познавательному процессу, несомненно было в основе моего размышления о пределах научного познания, которое я никогда не прекращал. И работа о теории полей, которую я сейчас готовлю и которая может называться «множественность миров», завершится размышлением о множественности логик, соответствующих различным обществам, то есть различным полям, как месту, где конструируются здравые смыслы, «общие места», системы топиков, не сводимых одни к другим. Ясно, что всё это коренилось в частном социальном опыте: отношение к теоретической ситуации, которое не было пережито как естественное, очевидное. Эта трудность принять бесцеремонную, поверхностную точку зрения на кабильских крестьян, их браки и их обряды, связана с тем фактом, что я знал совершенно таких же крестьян, разговаривал с ними на такие же темы о чести Вопрос: Работая в логике структурализма, но Пьер Бурдьё: Я хотел бы заметить, что никогда не использую понятие праксиса, которое, по меньшей мере во французском языке, смотрится немного как теоретическая высокопарность, и — что достаточно парадоксально — похоже на виртуозный марксизм: молодой Маркс, Франкфурт, югославский марксизм… Я имел в виду всегда просто практику. Иначе говоря, большие теоретические интенции, как, например, те, которые конденсируются в понятиях габитуса, стратегии и тому подобное, с самого начала присутствовали в моих работах, но в полуявной форме и относительно слабо разработанные (понятие поля значительно более позднее: оно выработалось на пересечении исследований по социологии искусства, начатых примерно в 1960 году, семинаров, которые я вёл в Высшей нормальной школе, и комментариев к главе по социологии религии в «Wirtschaft und Gesellschafi»). К примеру, в наиболее ранних исследованиях о чести (я их много раз переформулировал…) вы найдёте все те проблемы, которые я ставлю себе в настоящее время: идея о том, что борьба за признание является основополагающим измерением социальной жизни и что она имеет целью аккумуляцию особой формой капитала, чести в смысле репутации, престижа и что, следовательно, существует специфическая логика аккумуляции символического капитала, как капитала, основанного на знании и признании; идея стратегии как ориентирования практики, которая не является ни сознательной и рассчитанной, ни механически детерминированной, но которая есть продукт чувства чести как смысла этой особой игры, каковой является игра в честь; идея существования логики практики, специфика которой заключается, в частности, в её временной структуре. Сошлюсь здесь на критику, которую я дал анализу обменов дарами у Леви-Стросса: модель, обнаруживающая взаимозависимость дара и ответного дара, разрушает логику практики обменов, которая функционирует лишь постольку, поскольку объективная модель (всякий дар вызывает ответный дар) не существует как таковая. И это потому, что временная структура обмена (ответный дар не только отличающийся, но и отличающий) маскирует или отрицает объективную структуру обмена. Думаю, что эти исследования заключали в Потенциальном состоянии главное из того, что я развил в дальнейшем. Вот почему я могу незаметно и очень естественно перейти от анализа берберской культуры к анализу культуры образования (к тому же я практически совмещал эти две деятельности между 1965 и 1975 годами, поскольку работал одновременно над тем, что должно было привести, с одной стороны, к «Различению», Вопрос: Было ли связано развитие Вашего эмпирического интереса в направлении образования («Наследники» — «Les Héritiers») с Вашей позицией в интеллектуальном поле? Пьер Бурдьё: Очевидно, что моё представление о культуре и системе образования многим обязано занимаемой мной позиции в университетском поле и, особенно, траектории, которая меня туда привела (что не означает, тем не менее, будто оно «релятизировано» ими), а также отношению к образовательным институциям ( Вопрос: Вы следуете дюркгеймовскому замыслу заниматься социологией структур разума, которые анализировал Кант. Но Вы вводите интерес к социальному господству. Пьер Бурдьё: Один историк американской социологии по имени Вогт, написал, что делать в применении к своему собственному обществу (как я попытался это сделать) то, что Дюркгейм делал в отношении примитивных обществ, значит значительно изменить точку зрения, а это связано с исчезновением эффекта нейтрализации, который предполагает дистанцирование от экзотики. Как только мы начинаем ставить в отношении нашего общества, например, нашей системы образования, гносеологические проблемы, которые ставил Дюркгейм в отношении примитивных религий, они становятся политическими проблемами; нельзя не видеть, что формы классификации являются формами господства, что социология дознания неотделима от социологии признания или непризнания, то есть символического господства. В действительности, это верно даже в слабо дифференцированных обществах, как, например, кабильское: структуры классификации, которые организуют все мировосприятие, отражают последнее рассмотрение разделения труда между полами.) Факт постановки традиционных этнологических вопросов по поводу нашего общества и разрушения традиционных границ между этнологией и социологией был, уже политическим актом. (Конкретно это выражается в реакциях, которые вызывают две данные формы работы: в то время как моё рассмотрение ментальных структур, объективированных в пространстве кабильского дома вызывает лишь одобрение и даже восхищение, мой анализ «категорий профессорского разума», который я сумел сделать, опираясь на оценочные суждения, данные преподавателями подготовительных курсов в адрес их учеников, или на некрологи, опубликованные в Ежегоднике выпускников Высшей нормальной школы, кажется грубым нарушением и актом неблагопристойности. Классифицирующие схемы, системы классификации, основополагающие оппозиции мышления: мужское/женское, левый/правый, восток/запад, но ещё и теория/практика, являются политическими категориями. Критическая теория культуры очень естественно приводит к теории политики. И отсылка к Канту, вместо того чтобы быть средством подняться над гегелевской традицией, спасая всеобщее, как у некоторых немецких мыслителей, становится средством радикализировать критику, задавая во всех случаях вопрос о социальных условиях возможного, включая также и вопрос о социальных условиях возможности критики. Такая Selbstreflexion [13], вооружённая социологически, приводит к социологической критике теоретической критики И, следовательно, к радикализации и рационализации критики. Например, критическая наука классификации (и понятия класса) предоставляет один-единственный шанс реально преодолеть границы, вписанные в историческую традицию (концептуальную, например); это границы, которые воздвигает абсолютный мыслитель, не зная о них. Именно открывая свою историчность, разум даёт себе средства преодолеть историю. Вопрос: Интересно было бы увидеть в развитии Вашей теории теоретическое исследование Ваших реакций на окружение. Пьер Бурдьё: Я начал рассказывать о собственном пути с этой точки зрения, пытаясь дать элементы социологического анализа развития моей научной работы. Если я это сделал, то также и потому, что данный вид самоанализа, я считаю, составляет часть условий развития моего мышления. Если я имею возможность сказать то, что говорю сегодня, то это, конечно, потому, что не прекращал применять социологию к моим детерминациям Но положение, в которое меня ставит вопрос о моей интеллектуальной биографии, подталкивает меня выбирать отдельные аспекты моей истории, которые необязательно являются самыми важными или самыми интересными даже в интеллектуальном плане (я думаю, например, о том, что рассказал Вам о периоде учёбы К тому же стратегическое видение, к которому понуждают Ваши вопросы, призывая меня определиться по отношению к другим работам, не должно скрывать истинный принцип, по крайней мере на уровне опыта моего вхождения в потерянный, немного сумасшедший корпус — в науку. Это удовольствие — играть и играть в одну из самых экстраординарных игр, в которые можно играть, а именно в исследование в том его виде, который оно принимает в социологии. Для меня интеллектуальная жизнь ближе к жизни артиста, чем к рутине академического существования. Я не могу сказать как Пруст: «Я часто рано ложусь спать»… Но все эти рабочие совещания, которые заканчиваются часто в немыслимое время, скорее всего, потому, что на них много забавляются, это один из самых чудесных моментов в моей жизни. И нужно ещё сказать о счастье таких интервью, которые, начинаясь утром, в десять часов, продолжаются целый день; о крайнем разнообразии профессии, в которой можно на протяжении одной недели брать интервью у хозяина предприятия Вопрос: Зависит ли способность говорить о подобных вещах от Вашего сегодняшнего положения? Пьер Бурдьё: Без всякого сомнения. Социология придаёт сверхъестественную автономию, особенно, когда её используют не как оружие против других или как средство защиты, но как оружие против самого себя, средство бдительности. В то же время, чтобы быть способным использовать социологию до конца, не слишком защищаясь, нужно, конечно, быть в такой социальной позиции, в которой объективация не была бы непереносима… Вопрос: Вы осуществили перенос социогенеза ваших концептов, и это нам дало глобальное видение развития теории, которая стремится изучить символическую борьбу в обществе, начиная с архаических и до наших современных обществ. Можете ли Вы теперь сказать, какую роль сыграли Маркс и Вебер в интеллектуальном генезисе Ваших концептов? Чувствуете ли Вы себя марксистом или веберианцем, когда говорите о символической борьбе? Пьер Бурдьё: Я никогда не думал в таких терминах. И у меня есть привычка отводить эти вопросы. Прежде всего потому, что, когда их обычно задают, я хорошо знаю, что это не Ваш случай, то почти всегда с намерением полемизировать, классифицировать, чтобы каталогизировать, kategoresthai, обвинить публично: «Бурдьё, в глубине души, дюркгеймианец». Что, с точки зрения говорящего, имеет уничижительный смысл и означает: он не марксист, и это плохо. Или же «Бурдьё — марксист», и это плохо. Речь всегда идёт о том, чтобы свести к чему-нибудь или разрушить. Как если бы меня сегодня расспрашивали о моих отношениях с Грамши, с которым у меня находят (конечно, потому, что меня читают) много общих моментов, но которые я смог найти лишь потому, что его не читал… (Самое интересное у Грамши, которого в действительности я сравнительно недавно прочитал, это введённые им в социологию элементы человека из партийного аппарата и поля коммунистических руководителей его времени; все это весьма далеко от идеологии «органического интеллектуала», благодаря которой он более всего известен.) Во всяком случае ответ на вопрос о том, является ли Я думаю даже, что одним из препятствий в прогрессе исследовательской работы является классификаторское и политическое функционирование академической мысли, которое часто запрещает интеллектуальный вымысел, противодействуя преодолению ложных антиномий и ложных делений. Логика классифицирующего ярлыка — это совершенно та же логика расизма, которая клеймит, замыкая в негативной сущности. Во всяком случае, она устанавливает, на мой взгляд, главное препятствие тому, что мне кажется наиболее верным по отношению к текстам Вопрос: Это напоминает мне слово «самоделка», которое служило Леви-Строссу: у Вас есть проблема, и Вы используете весь инструмент, который Вам кажется полезным и могущим пойти в дело. Пьер Бурдьё: Если угодно. Но Realpolitik понятия, которым я пользуюсь, не осуществляется без теоретической линии, позволяющей избежать чистой воды эклектики. Я думаю, что невозможно достичь действительно продуктивного мышления иначе, как при условии обеспечить себе средства иметь действительно репродуктивное мышление. Мне кажется, что именно в этом хотел нас убедить Витгенштейн, когда в «Vermischte Bemercungen» говорил, что никогда ничего не выдумывал и что все взял у какого-либо автора: Больцмана, Герца, Фреге, Рассела, Крауса, Луса и других. Я тоже мог бы привести подобный список, но, конечно, более длинный. Философы настолько полнее представлены в моих работах, что зачастую я не могу говорить об этом из страха показаться приносящим жертвы философскому ритуалу признания генеалогической преданности. И потом, они представлены не в обычном виде… Социологическое исследование, в том виде, в каком я его задумываю, это ещё и очень хорошая область, чтобы сделать то, что Остин называл Fieldwork in Philosophy [15]. По этому поводу я хочу, воспользоваться данным термином, чтобы скорректировать представление, которое могу произвести обращением к работе Остина в моих работах о языке. Действительно, если Вы читали Вопрос: Откуда взялись эти находки? Почему Вы их искали у данного автора? Пьер Бурдьё: «Добро берут там, где его находят», как говорит здравый смысл, но, конечно, Вы не идёте «туда, не знаю куда», чтобы спросить «то, не знаю что»… Это роль культуры: обозначать круг авторов, у которых можно найти помощь. Есть философское чувство, оно сродни политическому чувству… Культура — тот сорт даровых знаний на все случаи жизни, которые обычно получают в возрасте, когда ещё не ставят никаких проблем. Можно прожить жизнь, повышая культуру, культивируя её ради неё самой. Или же можно использовать её как некого рода ящичек для разных мелочей, почти неиссякаемый. Интеллектуалы подготовлены всей логикой их формирования к тому, чтобы трактовать труды, наследованные из прошлого, как культуру, то есть как сокровище, которое они созерцают, которому они поклоняются, которое они чествуют, тем самым повышая собственную ценность, короче говоря, как капитал, предназначенный для выставления напоказ, для получения символических дивидендов, или же для простого нарциссического вознаграждения, а не как производственный капитал, который вкладывают в исследование с целью получить результаты. Такое «прагматическое» воззрение может показаться шокирующим, настолько культура ассоциируется с идеей бескорыстности, целесообразности без цели. И, конечно, нужно было иметь немного варварское отношение к культуре — одновременно более «серьёзное», более «заинтересованное» и менее заворожённое, менее религиозное, чтобы её трактовать именно так, как культуру, прежде всего, как философию. Такое лишённое фетишизма отношение к авторам То же самое Сказав это, я хотел бы вернуться к исходному вопросу об отношении к каноническим авторам и попытаться на него ответить, переформулировав его в форме, которая кажется мне совершенно приемлемой, то есть в форме основополагающего вопроса о теоретическом пространстве, в котором сознательно или бессознательно располагается автор. Наиболее важной функцией теоретической культуры (не измеряемой числом ссылок — footnotes, которые встречаются в текстах) является возможность эксплицитным образом брать в расчёт это теоретическое пространство, то есть универсум, позиций, научно соответствующих данному состоянию развития науки. Это пространство занятых научных (и эпистемологических) позиций всегда управляет практикой, во всяком случае, её социальным значением, независимо от того, знают ли об этом или нет, и несомненно, тем грубее, чем меньше о нём знают. А осознание этого пространства, то есть научной проблематики как пространства возможного, есть одно из главных условий научной практики, осознающей саму себя и, следовательно, контролируемой. Авторы — Маркс, Дюркгейм, Вебер и другие — представляют вехи, по которым структурируются наше теоретическое пространство и наше восприятие этого пространства. Трудность социологического письма заключается в факте, что необходимо бороться против принуждений, вписанных в данный момент времени в теоретическое пространство ( Вопрос: Потому что это цели… Пьер Бурдьё: Конечно. Весь труд по преодолению канонических оппозиций (между Дюркгеймом и Марксом, например, или между Марксом и Вебером) подвержен опасности педагогического или политического регресса (одна из наиболее важных целей, пожалуй, политическое использование автора или использование символических понятий). Самый типичный пример — это оппозиция, совершенно абсурдная с научной точки зрения, между индивидом и обществом, которую стремится преодолеть понятие габитуса, понимаемого как инкорпорированная и, следовательно, индивидуализированная социальность. Что бы ни делалось, политическая логика будет вечно выдвигать проблему: в самом деле, достаточно ввести политику в интеллектуальное поле, и появится оппозиция между сторонниками индивида («методологический индивидуализм») и сторонниками «общества» (относящихся к «тоталитаристам»), которая не имеет иной реальности, кроме политической. Это регрессивное давление столь сильно, что, чем более развивается социология, тем труднее быть на высоте научного наследия, реально совмещать коллективный опыт социальных наук. Вопрос: В своей работе Вы не оставляете места для всеобщих норм, в отличие, например, от Хабермаса. Пьер Бурдьё: Я стремился представить проблему разума или норм решительно историческим образом. Вместо того чтобы задавать себе вопрос о существовании «всеобщих интересов», я бы спросил: у кого есть интерес к всеобщему? Или лучше: какие социальные условия должны быть выполнены, чтобы некоторые агенты стали заинтересованными во всеобщем? Как организуются такие поля, в которых агенты, удовлетворяя свои частные интересы, способствуют тем самым производству всеобщего (я думаю о поле науки)? Или же поля, где агенты чувствовали бы себя обязанными становиться защитниками всеобщего (как интеллектуального поля в некоторых национальных традициях — например, в современной Франции)? Короче, в некоторых полях, в некоторый момент и на некоторое время (иначе говоря, не необратимым образом), существуют агенты, которые имеют интерес к всеобщему. Я считаю, что с помощью некоего рода радикального сомнения нужно довести историзм до его предела, чтобы увидеть то, что можно спасти реально. Можно, конечно, с самого начала приписать себе всеобщий разум (raison universelle). И думаю ещё, что лучше «вести его в игру, решительно принять, что разум есть продукт исторический, чьё существование и устойчивость являются продуктами определённого типа исторических условий, и определить исторически, какие это условия. Существует история разума; и это вовсе не означает, что разум сводится к своей истории, но означает, что существуют исторические условия появления социальных форм коммуникации, которые делают возможным производство истины. Истина — это цель борьбы в любом поле. Поле науки, достигшее высокой степени автономии, имеет такую особенность, что одержать победу в нём можно лишь при условии соблюдения законов, имманентных данному полю, то есть при практическом при знании истины как ценности и уважении методологических принципов и канонов, определяющих рациональность в рассматриваемый момент времени, но, одновременно с этим, при вовлечении в конкурентную борьбу всех специфических инструментов, накопленных в ходе предшествующей борьбы. Поле науки — это игра, в которой, чтобы выиграть, нужно вооружиться разумом. Не производя и не призывая сверхлюдей, движимых мотивами, радикально отличающимися от мотивов обычных людей, оно производит и поощряет в соответствии с собственной логикой и помимо каких бы то ни было нормативных требований, особые формы коммуникации, как, например, конкурентная дискуссия, критический диалог и тому подобное, которые на деле стремятся способствовать сочетанию и проверке знаний. Сказать, что имеются социальные условия для производства истины значит сказать, что есть политика истины, постоянная деятельность в защиту и совершенствование функционирования социального универсума, в котором осуществляются принципы рациональности Вопрос: В немецкой, традиции существует такое стремление выверить, обосновать, оправдать критику, как, например, у Хабермаса: существует ли стабильная точка, основание, подтверждающее все мои мысли, которое должно признаваться всем миром? Пьер Бурдьё: Можно с самого начала поставить этот вопрос раз и навсегда. Потом стремиться его решить. Со своей стороны я считаю, что нужно его поставить эмпирическим, историческим образом. Конечно, это немного не оправдывает надежд, поскольку не столь «радикально»… Отождествляться с разумом — очень заманчивая позиция для каждого мыслителя. В действительности, нужно рисковать своей позицией и даже позицией универсального мыслителя, чтобы иметь возможность мыслить немного менее частным образом. Когда в своей последней книге [17] я претендую на объективацию Университета — мира, в который я вхожу Я пытаюсь поставить вопрос об основании в квазипозитивистских терминах: какие особые трудности встречаются, когда хотят объективировать пространство, в которое сами включены, и каковы особые условия, которые нужно соблюсти, чтобы иметь шанс их преодолеть? И открываю, что интерес, который можно иметь к тому, чтобы объективировать мир, часть которого составляешь, это абсолютный интерес, притязание на выгоды, связанные с занятием абсолютной, безотносительной точки зрения. Той же самой, которую принимает мыслитель, претендующий на самообосновывающее мышление. Я открываю, что социологами, теоретиками становятся для того чтобы иметь абсолютную точку зрения, и что на протяжении всего времени пока её не замечают, эта королевская, божественная амбиция является превосходной базой для ошибки. И потому, чтобы хоть немного избавиться от относительного, нужно абсолютно отречься от притязания на абсолютное знание, сложить корону философа-короля. Я открываю ещё, что в определённом/поле в определённый момент логика игры устроена так, что определённые агенты имеют интерес к всеобщему. И признаюсь, думаю, что это касается меня самого. Но факт такого знания, знания о том, что я инвестирую в мою исследовательскую работу личные влечения, связанные со всей моей историей, даёт мне небольшой шанс знать ограничения своего представления. Одним словом, невозможно поставить проблему основания в абсолютных терминах: это вопрос степени, и можно построить инструменты, чтобы оторваться, по меньшей мере частично, от относительного. Самый важный из этих инструментов — самоанализ, понимаемый как познание не только точки зрения учёного, но и его инструментов познания в том, в чём они исторически детерминированы. Анализ Университета, с его структурой и историей, таким образом, есть наиболее плодотворное из исследований бессознательного. Я считаю, что хорошо выполню мой контракт «функционера человечества», как говорил Гуссерль, если добьюсь упрочения оружия рефлексивной критики, которую каждый мыслитель должен направить против себя самого, чтобы иметь | |
Примечания | |
|---|---|
| |