Виталий Яковлевич Дубровский — российский и американский методолог, специалист в области информационных систем, почётный профессор Высшей школы бизнеса Университета Кларксон (School of Business Clarkson University), где преподавал более 20 лет. Был активным членом Московского методологического кружка с 1964 по 1978 год. В настоящее время развивает собственную концепцию системо-деятельностной методологии. | |
Общая теория систем (ОТС) ставит своей основной задачей объединение науки путём разработки общих принципов, применимых к любым системам. В этой статье показывается что ОТС в принципе не способна к такой разработке ВведениеБолее полувека тому назад Людвиг фон Берталанфи предложил новую дисциплину — Общую Теорию Систем (ОТС), целью которой провозглашалось объединение науки, а предмет определялся как «формулировка и выведение принципов, применимых к системам вообще» … «какова бы не была природа составляющих их элементов и отношений или сил их объединяющих» (von Bertalanffy, 1968/1998, Хотя успех ОТС в целом всё ещё дискуссируется (например Checkland, 2000), уже очевидно, что попытки разработки общесистемных принципов, или принципов применимых к любым системам, закончились полным провалом. Сам Берталанфи не сформулировал ни единого общесистемного принципа, за исключением принципа целостности, или единства, да и тот, на самом деле, является частью его определения системы. Те принципы, которые он сам называл общесистемными, очевидно таковыми не являются. Например: Принцип релаксации колебаний просматривается в физических системах как и во многих биологических феноменах Представляется, что во многих областях науки существует потребность в общей теории периодичности. Следовательно, должны быть сделаны усилия в разработке таких принципов, как принцип минимального действия, условий стационарных и периодических решений (равновесия и ритмических флуктуаций), существования устойчивых состояний и других подобных принципов, в форме обобщённой по отношению к физике и применимым к системам вообще (von Bertalanffy, 1969/1998. — Очевидно что ни один из вышеупомянутых принципов не имеет отношения к концептуальным системам и, как уже давно заметил Акофф (Ackoff, 1964), ОТС не может претендовать на то, что она общая теория, если она не применима к концептуальным системам. В духе объединения науки, он настаивал, что как раз разработка принципов, применимых Полвека спустя после провозглашения ОТС, подводя итоги электронной дискуссии об общесистемных принципах, в которой участвовали члены Международного Общества по Системным Наукам (ISSS), Tom Mandel ( Проблема метода в общей теории системСледуя Берталанфи (Bertalanffy,
В этом разделе я берусь продемонстрировать, что метод любого из этих направлений в принципе не способен произвести общесистемные принципы. Идентификация изоморфизмов не способна произвести системные принципыСогласно Берталанфи (von Bertalanffy, Второе значение этого термина — это производный изоморфизм общий для любых систем: «Скорее нас интересуют принципы применимые к системам вообще, безразлично являются ли они физическими, биологическими или социологическими. Поставив так вопрос и удачно определив понятие системы, мы обнаружим, что существуют модели, принципы, и законы, применимые к обобщённым системам независимо от особенностей их типа, элементов и связывающих «сил» (von Bertalanffy, 1969/1998, Третьим значением, в котором Берталанфи употреблял термин «общесистемный принцип», является основание для производных изоморфизмов: «Основанием для изоморфизма, обнаруживаемого в различных областях, служат общесистемные принципы более-менее развитой общей теории систем» (von Bertalanffy, 1969/1998, Только это последнее значение термина «принцип» является общепринятым. WebsterDictionary определяет принцип как «фундаментальный, первичный или общий закон или истина, из которой другие выводятся». Существенно подобные определения дают философские словари, например, Honderich (1995) и Angeles (1981). В соответствии с этим определением, только первичные, то есть непроизводные, положения, применимые к любым системам и служащие основанием для выведения изоморфизмов, могут с полным правом называться принципами. Это означает что даже те производные, или выведенные, изоморфизмы, которые применимы к любым системам, неправильно называть принципами. Но это также означает, что идентификация и выведение изоморфизмов с помощью обобщения в принципе неспособны произвести общесистемные принципы, или основания, поскольку сами основаны на предполагаемых Берталанфи «системных принципах» или «системных свойствах». Формальное конструирование теоретических моделей не способно произвести общесистемные принципыВ противоположность методу формулировки системных изоморфизмов путём обобщения, Росс Эшби (Ashby, 1958) предложил «начать с другого конца»: «Вместо того, чтобы исследовать сначала одну систему, затем вторую, третью и так далее, следуют противоположному принципу — рассматривают множества «всех мыслимых систем» и потом сокращают это множество до более разумных пределов». Под «мыслимой системой» Эшби имел в виду любой набор переменных, например, «система с такими тремя переменными: температура воздуха в данной комнате, его влажность и курс доллара в Сингапуре». Согласно Эшби, учёные определяют системы интуитивно, отбрасывая большое количество возможных сочетаний переменных как непригодных для исследования. Это описание не соответствует ни тому, как ученные обычно работают, ни методу самого Эшби. В действительности, например, Эшби (Ashby, 1962), вводя понятие машины, на первом шаге задаёт её как то, что «ведёт себя машинообразно», на втором шаге, указывая на обширный эмпирический материал из разных областей науки, он конструирует концептуальную схему машины со входами, выходами и внутренними состояниями и, наконец, на третьем шаге, выражает соотношения между элементами этой системы с помощью математических уравнений. Точно таким же путём Берталанфи (von Bertalanffy, 1969/1998) ввёл понятие открытой системы. Сначала он задаёт её, формально через её поведение: «Мы называем систему «закрытой» если в неё никой материал ни втекает и ни вытекает; она называется «открытой» если имеет место импорт и экспорт материала». Затем ссылаясь на эмпирический материал физики, биохимии и биологии, он конструирует концептуальную схему открытой системы с её «устойчивыми состояниями», «динамическим равновесием», «эквифинальностью» и другими. Наконец, он выражает эти «реалии» с помощью системы уравнений. Этот трёх шаговый метод формального конструирования характерен для введения научных моделей. Следует отметить что машина, открытая система, чёрный ящик, и другие считаются общесистемными понятиями на том основании, что, в отличие от традиционных теоретических конструкций, они вводились с целью объединения науки и строились на основании междисциплинарных эмпирических знаний. И хотя эти модели действительно имеют широкое междисциплинарное применение ни одна из них не может претендовать на общесистемность. Например, живые организмы не могут быть адекватно представлены как машины (Bertalanffy, 1969; Rosen, 1991), и втекание и вытекание материла не применимо к концептуальным системам, которые, следовательно, ни закрыты ни открыты. Исследование систем не способно произвести общесистемные принципыРассел Акофф (Ackoff, 1964) объяснил неэффективность идентификации изоморфизмов как метода разработки общесистемных принципов тем, что ОТС имплицитно предполагает, что структура реальности изоморфна структуре науки, то есть реальность моно подразделить на физическую, биологическую, социологическую и так далее. В качестве альтернативного подхода, он предложил «исследование систем» (systems research, в то время включающий исследование операций и системотехнику). Он утверждал, что исследование систем имеет дело с реальными системами, какими они являются на самом деле, и производит такие знания, которые не могут быть разнесены в соответствии с существующими научными дисциплинами. По Акоффу, объединение науки может быть осуществлено путём разработки системных теоретических моделей в процессе исследования систем, проводимом коллективами специалистов из различных дисциплин. Такие модели выходят далеко за рамки обобщений дисциплинарных теорий. Такими моделями являются теория управления запасами, теория очередей и другими. Предвосхищая возражение, что системные модели, разработанные исследованием систем, являются частными и неприменимы за пределами ситуаций определённого типа, Акоф замечает, что некоторые изоморфные черты различных моделей уже найдены, и более широкие обобщения следует ожидать в ближайшем будущем. Как было показано выше, идентификация изоморфизмов в принципе не может породить общесистемные принципы. Тот факт, что модели созданные исследованием систем выходят за рамки традиционных дисциплин, не меняет дела. Акофф также утверждает, что любая модель, разработанная в исследовании систем, применима за пределами тех ситуаций, для которых она разрабатывалась. Например, теория управления запасами может применяться Таким образом очевидно, что в отношении общесистемных принципов, исследование систем может рассматриваться как сочетание двух рассмотренных выше методов — формального конструирования теоретических моделей, ассимилирующих междисциплинарный эмпирический материал, и последующей идентификацией общих для этих моделей изоморфизмов. Но такая комбинация методов не меняет положения по сравнению с этими методами, употребляемыми по отдельности. Как и прежде, идентификация изоморфизмов производится по отношению к частным теоретическим моделям, а тот факт, что эти модели не принадлежат традиционным наукам, ничего принципиально не меняет. Следовательно, ни один метод ОТС, включая исследование систем, в принципе не годится для разработки общесистемных принципов. Наконец, ОТС также не способна сформулировать общесистемные принципы на основе «подходящего определения системы» просто потому, что такового в ней не имеется. Такие широко цитируемые определения системы как «единство противоположностей», «организованное целое», «комплекс соотносящихся, или содействующих, элементов», «целое образованное элементами и объединяющими их связями, или отношениями» и другие оказались столь же непродуктивными как и обсуждаемые выше методы. Проблема предмета в общей теории системНатуралистическая интерпретация системы в ОТСНаучные дисциплины представляют объекты изучения в виде онтологических картин, или, как называл их Берталанфи, «схематических картин реальности». Учёные-натуралисты верят, что онтологическая картина их дисциплины изображает реальность, каковой она есть «на самом деле», независимой от их познавательных установок, методов, и так далее. Например, когда физика была доминирующей наукой и полагалось, что сама реальность такова, какой она представлена в онтологической картине физики, возникла идеология редукционизма физикализма, согласно которой онтологические картины всех наук должны сводиться к физической. ОТС возникла как оппозиция редукционизму, в предположении что биологическая, психологическая и социологическая онтологические картины несводимы ни к физической, ни к друг другу, потому что они соответствуют различным уровням реальности как таковой. ОТС утверждает что система как раз и является фактором объединяющим все эти уровни (von Bertalanffy 1969/1998, Большинство системных теоретиков разделяет натуралистический взгляд на системы. Одни из них убеждены, что мир состоит из физических, биологических и социологических систем и что системные изоморфизмы являются реальными свойствами этих систем. Другие убеждены что машины, открытые и закрытые системы и системы управления запасами и очередями являются моделями реальных систем. Но все они верят что реальность является иерархией систем с вселенной на вершине иерархии и элементарными частицами в её основании. Понятие системы в ОТСНаиболее цитируемое определение системы, сформулированное Берталанфи, как «множества элементов и их соотношений» (1968/1998, Похоже что из трёх основных понятий, входящих в определении системы — Единства (также называемого гармоническим целым, сложным целым, целостностью, синергией, и так далее), частей (также называемых составляющими, элементами, компонентами, и так далее) и Соотношений (также называемого связями, взаимодействием, структурой, организацией, и так далее), ОТС делает ударение на Единстве, вводя её как новую онтологему, дополняющую традиционный научный анализ: «Конечно системы изучались веками, но сейчас добавилось нечто новое… тенденция изучения систем как сущностей, а не как конгломерации частей»… (Ackoff, 1959). Таким образом, в дополнение к тому, что система есть «множество элементов и их соотношений», она также является самостоятельной онтологической сущностью — Единством. В ОТС онтологическое отношение между Единством и частями с их Соотношениями объясняет доктрина эмерджентности: «Эти характеристики комплекса, следовательно, возникают как «новые» или «эмерджентные»… Мы можем также сказать, что в то время как композиция суммы частей может быть представлена как постепенная, композиция системы, в полноте её частей и их соотношений, должна быть представлена как мгновенная» (Von Bertalanffy, 1969/1998, Эта имманентная эмерджентность Единства из частей и Соотношений предполагает, что они сосуществуют как онтологически самостоятельные сущности. На соответствующей онтологической картине системы (Рис. 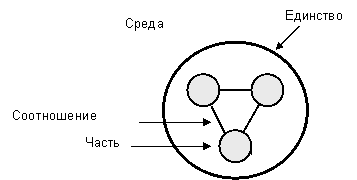 Проблемы связанные с понятием системы в ОТСПарадокс эмерджентностиЦелью доктрины эмерджентности является объяснение того, каким образом целое является больше суммы своих частей. Эта доктрина была бы банальной, если не бессмысленной, если бы она могла быть сведённой к утверждению, что Единство порождается тем что в системе к частям добавлены их Соотношения, и именно это делает её больше чем сумма её частей. Такая интерпретация сделала бы понятие Единства ненужным, и очевидно, не соответствовала намерениям её авторов. Доктрина эмерджентности содержит гораздо более сильное утверждение что Единство возникает (emerges) из частей и их Соотношений, как нечто новое, дополнительное и отличное от них. Более того, и это принципиально важно, это эмерджентное Единство невозможно ни предсказать исходя из знания частей и Соотношений (Angeles, 1981), ни вывести из них (Honderich, 1995). Вместе с тем, было бы также неправильным интерпретировать эмерджентность как порождение или продуцирование Единства, подобно рождению ребёнка, как результата особых взаимоотношений его родителей, хотя ребёнок и является новым, и несводимым к родителям существом и существующим одновременно с ними. В этом случае порождённая «эмерджентная» сущность может существовать и независимо от родителей, в то время как, согласно доктрине эмерджентности, существование Единства немыслимо с исчезновением частей или Соотношений. C эпистемологической точки зрения, парадокс эмерджентности состоит в том что, с одной стороны, по определению, эмерджентное Единство всегда ново и непредсказуемо, С онтологической точки зрения, парадокс эмерджентности состоит в «удвоении реальности», состоящей в том, что разные представления одного и того же объекта, или вещи, представляются как два одновременно реально сосуществующих объекта ( Парадокс среды системыПарадоксы эмерджентности могут приводить, и действительно приводят к неверному пониманию системы. Примером может служить общепринятое представление об окружении, или среде (environment), системы: «Систему можно определить как совокупность элементов соотносящихся друг с другом и со средой (von Bertalanffy, 1969/1998. — «Взаимодействие», или взаимное влияние двух или более сущностей (см., например, Webster Dictionary), обычно онтологически изображается подобно Получается что система, состоящая из Единства, частей и их Соотношения, находится внутри среды ( 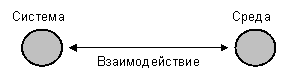 Для разрешения парадокса среды системы следует пересмотреть многие системные понятия, включая Единство, эмерджентность, и среду, что должно привести к пересмотру других, ставших привычными понятий, таких как подсистема, внешняя система (supra-system), открытая и закрытая система, и другое. Понятия организма и его среды поражены теми же самыми проблемами. Б. Ф, Скиннер (Skinner, 1974), который был очень чувствительным к логическим и философским проблемам, избежал парадокса среды за счёт того, что при построении онтологии поведения ограничился только взаимодействием организма и среды, при этом отказавшись от рассмотрения организма в качестве системы. Следуя образцу физики, он представил организм в виде «поведенческой точки» (locus of behavior) и отказался от рассмотрения каких-либо внутренних механизмов поведения, включая нервные и информационные процессы. Таким образом, суть проблемы предмета в ОТС — это парадоксальность её онтологической картины, предопределённая натуралистическим подходом к системам. Этот подход приводит к реификации понятий Единства и частей, интерпретации их логических соотношений как натуральных процессов взаимодействия, и мистической интерпретации логического статуса Единства как эмерджентно возникающего. Неудивительно что натуралистической онтологии соответствуют беспомощные натуралистические методы разработки общесистемных принципов. Если системы реальны, то единственным методом формулировки общесистемных принципов может быть обнаружение изоморфизмов в моделях различного рода «реальных» эмпирических систем и их обобщение. Но, как было показано выше, этим методом, в принципе, невозможно получение общесистемных принципов. Но если системы реально не существуют, то тогда каков их истинный онтологический статус? В своё время Акофф (Ackoff, 1960) отметил, что к реальным физическим и концептуальным системам можно относиться и как к системам и как не системам. Так если исследователь представляет поведение системы как результат взаимодействия её частей, то он относится к системе как к системе. Если он относится к реальной системе как к целому, то есть не прибегая к её частям и соотношениям, то такое отношение к системе будет не как к системе, а как к простому объекту. Согласно такому представлению, системы реальны, но наши методы и соответствующие представления могут соответствовать этой реальности а могут и не соответствовать ей. Но если «реальные системы» допускают обращение с собой как с системами, но также и как с не системами, то почему бы не предположить, что сама реальность не является ни системной ни несистемной, а только наши методы и соответствующие представления реальных объектов либо системны либо не системны (Щедровицкий, 1964; Checkland, 2000). Именно это предположение мы и сделаем. Онтологический статус системыМы не можем указать пальцем и сказать «это система» как мы говорим «это чашка». Системы не являются чувственными объектами. Никто не видит ни частей, ни их соотношений, ни единства, точно также как никто не видит причин и следствий или сил и взаимодействий. Всё что мы можем видеть — это единичные объекты и события. Однажды я попросил своих студентов привести мне пример системы и один из них указал на компьютер на моём столе. Я заметил, всё что я вижу — это вещи, которые мы называем клавиатурой, мышкой, монитором, принтером, и прочие соединённые проводами, но Вообще, когда мы характеризуем чувственно-единый объект, или вещ, например, кошку, как систему, мы имеем в виду, что кошка, согласно тому, чему нас учили в школе на уроках биологии, является сложным организмом, состоящим из органов, согласованно взаимодействующих между собой. Точно также, когда мы характеризуем чувственно-множественный объект, например семью, как систему, мы имеем в виду, что, согласно социально психологии или социологии, семья, есть социальное целое, состоящее из нескольких человек, координировано исполняющих свои культурно нормированные роли. Во всех случаях применение понятия системы к чувственной реальности опосредуется соответствующими теоретическими конструкциями: для кошки — биологический организм, для семьи — её социальная функция и ролевая структура. Вопрос об онтологическом статусе системы и применении понятия системы к чувственным объектам впервые обсуждался Иммануилом Кантом в Критике Чистого Разума (1781). Кант различил три уровня мышления — чувственный опыт, рассудок и разум. И хотя позднее были введены и другие уровни мышления (например, Гегель различил отрицательный разум — диалектику и положительный разум — спекуляцию), для целей этого обсуждения нам достаточно трёх кантовых уровней. Согласно Канту, система есть концепция разума (Кант 1781/1964, Основные системные понятия и категориальные оппозицииКлассические определения системыИсторически первое обсуждение систем — Трактат о Системах де Кондильяка (1749/1938) — начинается со следующего определения системы: «Всякая система есть не что иное, как расположение различных частей какого-нибудь искусства или науки в известном порядке, в котором они всё взаимно поддерживают друг друга Сорок лет спустя, Иммануил Кант сформулировал более развёрнутое и общее определение системы: «Под системой же я разумей единство разнообразных знаний, объединённых одной идеей. А идея есть понятие разума о форме некоторого целого, поскольку им a priori определяется объём многообразного и положение частей относительно друг друга. Следовательно, научное понятие разума содержит в себе цель и соответствующую ей форму целого. Единством цели, к которому относятся все части (целого) Основные системные понятия — Единство, части и СоотношенияПодобно современным определениям систем, вышеприведённые классические определения употребляют Единство, части и Соотношения в качестве своих основных составляющих, однако толкуют их иначе. Все эти составляющие определения системы интерпретируются не как реальные вещи, а как идеальные понятийные сущности. Де Кондильяк и Кант рассматривают отношение Единства к частям и Соотношениям отлично от друг друга и от естественной эмерджентности ОТС. По де Кондильяку, Единство является не особой сущностью, а такой организованностью частей, в которой одна особая часть объединяет все остальные, являясь их общим объясняющим принципом. В отличие от де Кондильяка и подобно ОТС, Кант задаёт Единство как отдельную сущность, но в отличие от ОТС, он подчёркивает приоритет Единства по отношению к частям и Соотношениям. По Канту, Единство не является В отличие от частей, представление о которых может быть получено только в чувственном восприятии, «связь (conjunctio) никогда не может быть воспринята нами через чувства…, … всякая связь… есть действие рассудка, которое мы обозначаем общим названием синтеза, … среди всех представлений связь есть единственное, что не даётся объектом, а может быть создано только самим субъектом» ( Таким образом, в отличие от натуралистического понимания Единства в ОТС как сущности, происходящей от частей и Соотношений, Кантово понимание Единства избавлено от мистики «эмерджентности» и не является парадоксальным. Действительно, в эпистемологическом плане, представление о Единстве всегда предшествует анализу сложного целого, и следовательно, ни о чём эмерджентном «новом» и «непредсказуемом» речи быть не может. Части должны быть получены в результате разложения сложного целого, а соотношения должны быть определены таким образом, чтобы исходное Единство сложного целого было восстановлено. Таким образом, главной задачей системного анализа является определение таких простых частей и их соотношения, чтобы с их помощью можно было восстановить единство, объяснить, спроектировать, создать сложный объект или спланировать и осуществить сложное действие. В онтологическом плане, в действительности системного мышления (а не в реальности существования), Единство, с одной стороны, и части и Соотношения, с другой, являются взаимо-дополнительными представлениями системы, связанными процедурой анализа-синтеза ( 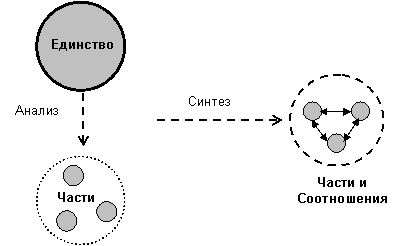 Основные категориальные противопоставленияФорма — СодержаниеКак мы видели выше, Кант определяет систему как «единство разнообразных знаний, объединённых одной идеей», которая «есть понятие разума о форме некоторого целого» Сложное — ПростоеМы привыкли говорить о целых как о сложных Целое-часть является соотносительным противопоставлением. Целое и части немыслимы друг без друга. Когда мы говорим «целое», мы подразумеваем, что оно состоит из частей; и когда мы говорим «часть», мы подразумеваем целое, частью которого она является. В отличие от этого, сложное-простое является противопоставлением типа обладания-лишённости — сложное означает лишённость простоты. Когда мы говорим о простом, мы имеем ввиду нечто легко понимаемое, объяснимое, осуществимое, и вообще, с чем легко обращаться во всех отношениях (например, Webster’s Dictionary). Простота может мыслиться безотносительно к сложности. С другой стороны, сложное всегда означает недостаток простоты, что традиционно и этимологически («сложенность») ассоциируется с соединением, и установкой на разложение на простые составляющие. Предположим, что мы соединили два равных прямоугольных равнобедренных треугольника (части), совместив их по катету так, что опять получили прямоугольный равнобедренный треугольник, только большего размера (целое). Вряд ли Следовательно, целые не обязательно являются сложными и части простыми. Тем не менее, целые действительно могут быть сложными и части простыми, и следовательно, нет ничего неверного в выражениях «сложное целое» и «простые части», если мы при этом понимаем, что склеиваем категории из разных уровней мышления — разума и рассудка, соответственно. Цель разложения не всегда состоит в получении простых частей, как и цель соединения не всегда получение сложного целого. В то же время, целью анализа всегда является представление сложного целого в терминах простых частей, как и целью синтеза всегда является представление целого в виде сложного единства составленного из простых частей. Поскольку системное мышление имеет дело со сложностью, его основным методом должен быть анализ-синтез и соответственно объекты как системы должны быть представлены в терминах сложных целых и простых частей. Таким образом, в то время как противопоставление сложное-простое соответствует системе как форме, противопоставление целое-часть соответствует системному содержанию. Внешнее — ВнутреннееПротивопоставление внешнее-внутреннее является важной составляющей типичного определения системы. В системном контексте, в зависимости от взглядов исследователей, это противопоставление получило несколько различных интерпретаций. Наиболее распространённой является натуралистическая вещественно-пространственная интерпретация, согласно которой все части и их соотношения находятся внутри системы (Angeles, 1981) и, соответственно, вне системы находится её среда. Выше было продемонстрировано, что эта интерпретация приводит к логическим затруднением. Согласно Канту, вышеприведённая интерпретация возможна только по отношению к предметам чувственности (Кант, 1787/1964, Вторая рассудочная интерпретация внешнего-внутреннего — это отношение к понятию. Внутренним считается только то, что входит в объём понятия, что может быть «подведено под понятие», всё остальное есть внешнее-другое (а не среда): «В предмете чистого рассудка внутренним бывает только то, что не имеет никакого отношения (по своему существованию) ко всему отличному от него (Кант, 1787/1964, Согласно третьей разумной интерпретации внешнего-внутреннего, данного в кантовом определении системы, внутренним должно считаться только то, что принадлежит системе, то есть то, что, является необходимой частью системы и соответствует другим её частям (Кант, 1787/1964, Системные процедуры, мысленного погружения «наполнения» (рассудочного содержания) в структурное «место» элемента или всей структуры в целое и обратные процедуры извлечения, описанные Предлагаемый подходПредмет эмпирического изучения системВ первой части этой статьи было продемонстрировано что натуралистический подход, рассматривающий системы как реальные объекты и имеющий дело с физическими, химическими, географическими и другими дисциплинарными системами, а также с формальными системами — машинами, открытыми. /закрытыми системами, и системами управления запасами и им подобными, потерпел полный провал в формулировке общесистемных принципов. В этой статье предлагается альтернативный подход, основанный на положении, что система является не реальным объектом, а концепцией разума. В соответствии с этим подходом, системная наука не может эмпирически изучать реальные системы просто потому, что их не существует. Вместо этого, системная наука должна эмпирически исследовать системное мышление (а более точно, системное разумение) в философии, науке, инженерии, и практических приложениях (Щедровицкий, 1964; 1975). Переформулируя идею Вильгельма Виндельбанда о предмете истории философии (Windelband, 1900), я предлагаю рассматривать эмпирическое исследование систем как историческое исследование развития системных принципов. Это означает, что, помимо многого другого, эмпирический анализ каждого акта системного мышления должен преследовать двоякую цель: (1) реконструкцию системных принципов, лежащих в основе данного акта (а может и даже сформулированных в нём), (2) и включение его в схему исторического развития системных принципов. Метод эмпирического исследования актов системного мышленияС точки зрения деятельностного подхода, которого автор этой статьи придерживается, система является не реальным объектом, независящим от нашей деятельности, а действительным предметом системного мышления, или разумения (Щедровицкий, 1964; 1974; 1975). Онтологическое представление системы как действительного предмета определяется системными методами и процедурами: «Когда сейчас характеризуют «систему» (будь то содержание понятия или объект), то говорят обычно, что это сложное единство, в котором могут быть выделены составные части — элементы, а также схема связей, или отношений, между элементами — структура. За этим определением мы как бы непосредственно видим объект, составленный из элементов и связей между ними; то, что мы видим, и есть онтологическая картина системного подхода. Но сама онтологическая картина, как мы уже видели выше, снимает, «свёртывает в себе» все процедуры и способы оперирования, которые мы применяем к различным знаковым элементам научных предметов, воспроизводящих объекты в виде систем. И именно они должны быть раскрыты, если мы хотим определить категории системного подхода» (Щедровицкий, 1975/1995, Щедровицкий (1975) зафиксировал три группы взаимосвязанных системных процедур, лежащих в основе онтологической картины системы. Первая группа включает процедуры разложения объекта на части и соединения частей в целое. Вторая группа включает измерение формально разнородных характеристик, или «сторон» объекта как целого, а также измерение характеристик составляющих его частей и последующую обратную измерению процедуру выведения разносторонних характеристик целого из характеристик его частей и их соотношений. Третья группа процедур включает мысленное погружение элемента или структуры в целое и обратную операцию извлечения элемента или структуры из этого целого. Следует отметить, что в типичном случае системные процедуры применяются не к системе как таковой (как, например, в саморефлексии разума), Помещение исследуемых актов системного мышления в контекст исторического развития системных принциповПомимо «словаря» системных понятий и категорий, для описания актов системного мышления необходимо определить характеристики, общие для всех таких актов. Эти характеристики должны будут служить как критериями для выделения актов системного мышления как объектов эмпирического исследования, так и основанием для их сопоставления. На мой взгляд, такой характеристикой является решение проблем сложности методом анализа-синтеза (ведь существуют и другие подходы к проблемам сложности). Выделенные по этому критерию акты системного мышления могут быть представлены в терминах вышеприведённых системных понятий и категорий. Но для того, чтобы сопоставить их с друг другом и затем поместить их в исторический контекст развития системных принципов необходимо ещё выделить или реконструировать системные принципы, лежащие в основе каждого исследуемого акта системного мышления. Если мы принимаем, что принципы суть первичные, невыводимые, фундаментальные, начала или положения, из которых все остальные положения выводится, то нам необходимо следовать норме сформулированной Аристотелем, и вводить принципы путём противопоставления (например, Физика, Следует отметить, что Аристотель использовал противопоставление как исходную абстрактную конструктивную онтологическую единицу, которую он затем развёртывал в более конкретную пользуясь методом «конструктивной атрибуции» (Dubrovsky, 1999). Мы бы могли воспользоваться этой стратегией для построения онтологической картины системы. Эта картина представляла бы собой совокупность взаимодополнительных системных представлений, соотнесённых с помощью процедур системного метода. Искомые нами системные принципы могли бы формулироваться путём разумной саморефлексии в терминах этой онтологии. Поскольку в саморефлексии разум сам есть система (Кант, 1787/1964, Остаётся надеяться, что представленные в терминах системной онтологии акты системного мышления могут быть выстроены в линию или линии развития таким образом, что более развитые системы будут понятийно и категориально более богаты | |
Библиография | |
|---|---|
| |