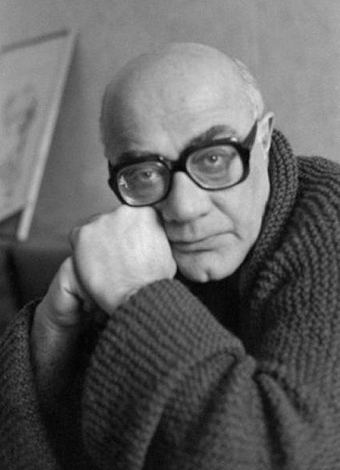Тема моего доклада — проблема человека в философии. Я постараюсь изложить её не академически, а так, чтобы какие-то ваши собственные состояния и ощущения были бы приведены разговором нашим в движение. И тогда, может быть, возникнет интуитивно ощущаемый контакт, который поможет и вам слушать, и мне говорить. Я бы сказал так, если не быть академичным, что проблемы человека — как предмета философских исследований — в философии не существует. Не существует в том смысле, что философия с самого начала была вынуждена ввести некоторые абстракции в понимание мира, — такие, которые в максимальной мере могли бы устранить моменты, проистекающие из земной, конечной, специальной или частной природы человека. И дело здесь заключается как в трудностях самой философии, так и в отношении к ней со стороны культуры и просто любителей философии. Странное философское положение Ницше очень хорошо выражает природу того затруднения, перед которым и я стою, и вы оказываетесь, а именно: «Человеческое — слишком человеческое». Конечно, когда такое философское высказывание проникает в обыденный, повседневный язык, оно понимается согласно правилам этого обыденного языка, который под термины и утверждения подставляет некоторые наглядные картинки, и тогда высказывание, которое я только что привёл, представляется как антигуманистическое высказывание. В действительности оно требует для своего восприятия совершения нами первого философского акта, состоящего в том, чтобы приостановить в себе мелькание картинок, то есть приостановить в себе неизбывную манию человека подставлять под высказывания и понятия наглядные картинки. Философские утверждения, в особенности когда они относятся к человеку, имеют всегда некоторый отвлечённый спекулятивный умозрительный смысл. Этот смысл уловить трудно по той простой причине, что даже если мы хотим высказать нечто не наглядное, а лишь умопостигаемое, то всё равно мы пользуемся словами из обыденного языка, каждое из которых имеет наглядные предметные референции. Чтобы пояснить то, о чём сейчас говорится, я возьму простой пример, хотя простые примеры опасны тем, что они требуют какой-то согласной интуиция для своего восприятия. Простым примером будет наше положение в мыслительной и культурной среде. Мы живём, погружённые в слова и некоторые культурные навыки и стереотипы. Мы рождаемся в этой среде. Я имею в виду российскую среду. Причём под словом «российская» я понимаю не этнический, а социально-политический феномен, называемый Россией, который, естественно, включает и узбеков, и грузин, и армян. Наше положение я выразил бы так: это положение прислоняющихся неумех. Все мы живём, прислоняясь к тёплой, непосредственно нам доступной человеческой связи, взаимному пониманию, к некоторым, чаще всего неформальным и «внезаконным», отношениям. Закон максимально формален и лишён того оттенка человечности, который мы ожидаем от него. Мы компенсируем это прислонением друг к другу, некой человечной, аморфной, неартикулированной связью взаимных подмигиваний, взаимных пониманий, которые устанавливаются всегда поверх и помимо каких-либо законов и формальных критериев. Я бы выразил эту ситуацию так: если иметь в виду проблему отопления, то мы обогреваемся соприкосновением наших человеческих тел, то есть тем теплом, которое излучают сжавшиеся или сбившиеся в ком человеческие тела, в то время как другие изобретают паровое отопление. Нам свойственна погружённость в непосредственную человечность, мы не способны разорвать связь понимания. Мы как бы компенсируем взаимным пониманием и взаимным человеческим обогревом варварство и неразвитость нашей социальной, гражданской жизни. Всё, что выходит за рамки этого человеческого тепла, кажется нам некими опосредованиями и формальными образами наших состояний, которые, уходя от нас в область необозримого, тем самым как бы лишаются знака человечности. И мы это презираем, тем более, что имеем за собой давнюю российскую так называемую мирскую традицию, или традицию мира, общины. Вот — это. Это существование, которое, цепляясь за теплоту взаимного человеческого обогрева, продолжает дальше, в бесконечность именно ту жизнь, какая есть, при этом всегда думая: «Меня пронесет, если я не подниму голову и не разорву… не отстранюсь от этой человеческой связи. Умирают или погибают всегда другие, а не я: меня пронесет». Это и есть «человеческое — слишком человеческое», о котором Ницше и любой другой философ сказал бы: вот то первое, что мешает человеку мыслить, первое, что отгораживает его, как экран, от себя самого, от своего реального положения в мире и от своих обязанностей. Это как бы некоторое варварское, архаическое состояние, оставшееся в современном мире — мире, по сути уже исключающем это аморфное состояние, мире, предполагающем некую сложную артикуляцию опосредований и формализаций социальной и гражданской жизни, некое наличие у людей культуры (если под культурой иметь в виду реальный навык и способность), наличие силы, чтобы практиковать сложность и разнообразие. А сложность и разнообразие, как известно, не могут находиться целиком в области объемлющего человеческого взгляда, не разрывающего вот этого: сбива человеческих тел в некий совместно шевелящийся ком. Удачной иллюстрацией этого сбившегося кома, в котором, в отличие от законов человеческой истории, возможны лишь законы мифологического цикла и повторения, является фильм Абдрашитова и Миндадзе «Остановился поезд». Если вы помните, там — налаженный человеческий мир, который является достигнутым, взаимно удобным уровнем всеобщих неумений! Никто из составляющих это общество людей ничего не умеет по-настоящему ответственно и профессионально. Они это компенсируют тем, что взаимно друг друга понимают. Приехавший следователь не хочет этого понимать. Тем самым он делает первый шаг, за которым уже следует шаг мышления. Конечно, мышление поставило бы под вопросы и законы тоже. Но он делает лишь первый шаг, шаг законника. Теперь о человеке, машинисте, который остановил поезд ценою своей жизни. Он, разумеется, стал героем, поскольку был звеном в единой цепи всеобщей лени и неумений, но одновременно и взаимопомощи. Поэтому очевидно, что и герой, и его семья, ибо погиб кормилец, должны быть вознаграждены. Это понятно всем жителям городка! В итоге перед нами — калейдоскоп масок, слипшихся с лицами, и театр масок, в котором голос реальности: «Что же происходит на самом деле? Кто есть кто?» никогда не будет расслышан, если не разорвётся связь «слишком человеческого»… В фильме тема круговой поруки и попытки разрыва «слишком человеческого» звучит очень ярко: тот, кто осмелился сделать шаг, чтобы выпасть из человеческой связи, отмечен отдельно. Его могут забросать камнями. Помните, следователь проходит как бы сквозь строй жителей города, осуждающе (естественно, осуждающе и даже враждебно) на него смотрящих. А как же иначе, ведь они объединены в привычный комок человеческого понимания и доброты, исключающий формалистическое и холодное применение закона, а он стремится к истине, которая способна разрушить суть их великого бытия. Его могут забросать камнями. Он отмечен отдельно! Без этой отмеченности отдельно, без того чтобы прийти в ситуацию, где тебя могут забросать камнями, не может открыться пространство человеческого мышления и не может открыться пространство человеческого существования, пространство Homo sapiens. Следовательно, когда мы говорим о человеке (а я сейчас говорю о человеке), как ни странно, самый-то разговор должен быть построен на основе абстракций, максимально устраняющих непосредственно, человечно доступные нам вещи и экраны. В этом смысле я сказал, что в философии нет проблемы человека! Человек как существо, обладающее какими-то естественным образом данными ему свойствами, не является для философии предметом или объектом исследования. Объектом, или предметом, исследования и одновременно нитями или введёнными в котёл атомными стержнями, позволяющими случиться тому, что потом случается, является всегда только возможный человек. Не какой-то определённый, наличный, а тот возможный человек, который может сверкнуть, промелькнуть, установиться в пространстве, совершить некоторое усилие, которое поставит его за предел самого себя, где прямо в лицо ему поглядит облик смерти. Возможный человек символизирует способность или готовность индивида расстаться с самим собой, таким привычным и любезным, каким он был к моменту события, то есть изменить самого себэ, поскольку только в изменённом состоянии сознания может пройти ток реальности, и некое целое, некая реальность, как она есть сама по себе, может воссоздаться в тех состояниях, перед лицом которых человек оказался способным изменить самого себя. У древних есть одна странная формула. Сейчас я введу её, но сначала сделаю один поясняющий шаг. Вы знаете, что человеческий образ философскими абстракциями закреплён в трёх вещах: высшем благе, красоте и в истине. Старые греческие абстракции, или отвлечённые истины… Так вот, в ситуации, которую я описывал, приводя в пример фильм, люди не являются людьми именно потому, что они загипнотизированы тем, что представляется им благом! На это философия говорит: «Есть высшее благо, которое стоит по ту сторону «человеческого — слишком человеческого». Вот отсюда — термин «высшее благо». Теперь я ввожу некоторый элемент философского языка. Здесь «высшее благо» не определяет какой-либо конкретный предмет и не объявляет его высшим по отношению к другим. Ведь не сказано, что именно высшее. Какая-либо наглядность и разрешимость на частном предмете здесь устранена. Высшее благо — это абстракция, обладающая свойством всех философских абстракций, которые требуют: ничто не должно определяться по содержанию! Например, «долг». Долг никогда не есть. Он никогда не определён по содержанию. Долгом является то, что является и случается в виде долга в данный момент сейчас и на месте! Он никогда не выводится ни из каких общих определений. То же самое говорится о благе. Вот тебе благо: вдова и дети погибшего кормильца должны быть накормлены и обеспечены, и для этого можно играть в символ героя. А «символ героя» — это объективное высказывание. Оно утверждает, что нечто в мире случилось так-то и так-то… поистине этот человек — герой! Но мы из-за человеческого блага согласились на ложь, на жизнь в иллюзии, в мареве. И это не было бы обидно: как таковая истина вообще никакой привилегии не имеет… Но беда в том, что одну привилегию она имеет — ложь будет бесконечно повторять одни и те же несчастья. И если мы не принимаем смертельный предел человеческого существования (а человеческий образ в философии непредставим без сомкнутости его с символом смерти), то, значит, мы вечно прожевываем один и тот же непрожеванный кусок. Вечно с нами будут случаться те же события, которые случались, и будет в нас та же немота, которую можно легко представить, если вообразить, что ты вечно осуждён жевать один и тот же кусок! Это настоящая картина ада! Кстати, русский философ Евгений Трубецкой а своей книге «Смысл жизни» очень тонко уловил эту черту. Он сказал так: «Ад — это никогда не умирать!» Умирают ведь один раз и навсегда истинной смертью. А есть ещё смерть, когда ты вечно умираешь! И никак не можешь умереть. Вот это ад, это — адское мучение! Его можно увидеть в картинках, например в тех, которые есть у Данте в «Божественной комедии». В переходе за эту черту появляется та философская формула, которую я обещал ввести. Я уже говорил о понятии высшего блага, которое, конечно, символ, а не понятие, поскольку понятие «высшее благо», как сказал бы Кант, не имеет созерцания, на котором бы оно могло быть разрешено, то есть под него нельзя подставить никакой конкретный предмет. Вот это высшее благо, лежащее по ту сторону видимой нами связи человеческих благ, и формулируется древним высказыванием, которое звучит так: «Да погибнет мир, но свершится справедливость!» Или: «Пусть свершится справедливость, но погибнет мир». Здесь имеется в виду вовсе не побеждающий формализм закона, ради холодного, нечеловеческого торжества которого можно всем пожертвовать в мире. Так мы интерпретировали бы, если бы следовали логике и картинкам, которые подсовывает нам обыденный язык. В действительности это высказывание лишь утверждает, удерживает справедливость. Нельзя изобрести никакого конкретного закона, который бы был вполне справедлив и цель которого достигалась бы. Пример абсолютно справедливого закона, увы, невозможно привести, ибо всякий закон подвержен критике. Он чего-то не учитывает, и все конкретные случаи исполнения закона — на высоте формулы самого закона — ставят под сомнение саму эту формулу. Но философия требует, чтобы мы понимали: целью закона является сам же закон, а не конкретная справедливость частных случаев, нет. Поэтому для осуществления влияния любого закона всегда и повсюду должны применяться такие средства, которые поддерживают на весу, над нами сам же закон. И вот это состояние, которое никогда конкретно не достижимо в полной чистоте и справедливости закона, и есть искомое состояние человека. А оно исключает нашу привязанность к тому миру, с которым мы срослись и который считаем всеобщим и окончательным. Без способности заглянуть за этот мир нет ни высшего блага для человека, ни красоты. Кстати, такая схоластическая истина высказана и в первичных религиозных прозрениях человечества — в мировых религиях, в той части их, которая является метафизической. К примеру, странная картина рисуется в Посланиях Иоанна, особенно в Апокалипсисе. Человек в этой философии никогда не предстаёт как какой-то объект, особый объект в мире, способный изменяться, эволюционировать, проходить некие хронологические периоды, этапы. Он всегда статичен. Ясно, что эта странная картина указывает на удел человеческий, на основное состояние и ограничение, накладываемое на то, что возможно для человека, на то, к чему он может стремиться и чего может достигать. Поэтому картина Апокалипсиса не есть картина какой-то эпохи, которая бы случилась после какого-то другого состояния, скажем, хорошего, нормального состояния, после которого был бы Апокалипсис. Она другая. И это очень точно заметил первый (и на длительное время последний) действительно чистый мыслитель России. Я имею в виду Чаадаева. Он указывал на то, что Апокалипсис не есть эпоха, которая наступит и вера в которую была бы знаком какого-то пессимизма или какого-то особого апокалиптического состояния у человека, живущего в точке до Апокалипсиса. Апокалипсис — это характеристика любого момента человеческой жизни, характеристика возможного нашего перехода в это состояние, способности стать на предел в отказе от мира, с которым срослись… Стать на предел и лишь за этим пределом увидеть своё истинное благо и свой истинный образ, увидеть реальность как она есть. С такой вот щепоткой соли и должны восприниматься все философские утверждения о человеке в той мере, в какой они являются философскими, а не скажем, теми утверждениями, которые могут формироваться в биологической науке, в антропологии и так далее. Все философские утверждения, содержащие термин «человек», никогда не разрешимы на каких-либо антропологических свойствах, на каком-либо конкретном образе человека, поскольку, как я уже сказал, они всегда имеют в виду возможного человека, который никогда не есть, то есть не есть как какое-то предшествующее состояние, а всегда есть тогда, когда есть. А сейчас я предложу ещё одну философскую абстракцию. Вы знаете, что есть единственное гениальное определение бытия, построенное по законам философской грамматики, а не грамматики обыденного языка. Это следующее утверждение: бытие — это то, чего никогда не было и никогда не будет, а есть сейчас! По законам обыденного языка при нашей попытке понять это мы должны были бы сказать, что если есть сейчас, то после «сейчас» пройдёт какой-то момент, и об этом «сейчас» можно будет сказать, что это «было!» В противоречии с грамматикой это утверждение гласит, что бытие не есть что-то, что было и чего никогда не будет, то есть никогда не будет само по себе. Если было, то можно представить себе продолжение этого сквозь моменты времени, когда это будет… А бытие — это то, что внутри и в рамках некоего момента мира. Так же, как, скажем, Апокилипсис. Это не то, что будет — это то, что есть всегда, сейчас. Сказать: «Никогда не было и никогда не будет, а есть сейчас», — то же самое, что сказать: «Всегда», если воспользоваться временными наклонениями, существующими в языке, которые мешают нам понять, о чём же идёт речь, если мы не способны совершить философское отвлечение и приостановить в себе манию картинок, манию представления предметных референтов под утверждения. Ведь философские утверждения относятся к некоторым моментам существования и не имеют в виду никакого предмета, обособленного расположением в пространстве наряду с другими или в течение философского времени. И я бы сказал так: если бы в философии существовал заданный образ человека, то никогда философски нельзя было бы обосновать никакое истинное высказывание об универсуме. Оно всегда несло бы на себе антропологические ограничения земного существования человека и лишало бы любое физическое высказывание (скажем, высказывание о физических законах) какой-либо универсальности. Следовательно, философия всегда строила нечто вроде отрицательной онтологии человека, создавала как бы онтологию отсутствия, или онтологию того, чего никогда не было, не будет, а только есть сейчас! Могу привести другой пример, поясняющий, что в философии имеется в виду под человеческим состоянием. У Паскаля есть прекрасное высказывание, в котором он определяет любовь. Но это определение по структуре своей с таким же успехом может быть применимо и как определение бытия, и как определение человека. Паскаль говорил так: «Любовь не имеет возраста, она всегда в состоянии рождения». Если она есть. Если она есть — она внутри себя не подразделима на прошлое, настоящее и будущее. Она не имеет хронологического деления, она всегда нова. Любовь не имеет возраста, она всегда в состоянии рождения. В философии в такой же структуре определяются разные, казалось бы, вещи — бытие и человек. У человека нет возраста, человек всегда в состоянии рождения, он есть, он — человек. Если бы мы выдумали определять человека с помощью возраста, мы определяли бы уже не человека. Отсюда, конечно, великий образ, существующий подспудно. Я уже упомянул отрицательную онтологию. Великий образ, всегда подспудно существующий в философии, — это образ Великого Ничто! И я должен сказать, что этот же ход мысли одинаково совершался и в западной философии, и в восточной, хотя в установившихся историко-философских классификациях обычно он приписывается восточной философии, скажем, буддизму, и исключается из западной… Но я уверяю вас, что при любом внутреннем интимном чтении философских текстов западной философии, подчиняющемся правильно понимаемым правилам философской грамматики, прочитывается тот же самый Лик Ничто, вводимый в само основание, на которой строятся европейская метафизика и онтология. В истории философии всегда происходит интересная вещь. Она неминуема в силу того, что всё, что человек делает, сразу же оказывается элементом разделения труда, элементом, тем или иным образом институционализированным в культуре. Поэтому рядом с реальными философскими актами (в то же мгновение, когда они совершаются) есть «университетская философия», или культурные эквиваленты совершенного философского акта, и в этих культурных эквивалентах — живая, бьющая нота философствования, которая, на мой взгляд, вообще невозможна без стояния перед лицом этого Ничто, которое я с разных сторон пытался описать в той мере, в какой вообще что-то можно описать… Я надеюсь, что вы простите меня и примете во внимание, что я не предлагаю вам никаких поучений, никакой готовой системы, а просто пытаюсь вступить с вами в разговор о чём-то близком и вам, и мне. Так вот, в культурных эквивалентах эта живая нота теряется часто, и есть целые философские эпизоды, которые выступают как самостоятельные, но в действительности являются просто возобновлением в уже бывших философских текстах вот этой живой ноты. Скажем, таким философом в ХХ веке является М. Хайдеггер: у него есть талант прочитывания в старых текстах вот этой ноты, которая выступает для него в качестве собственного самостоятельного открытия, каковым на самом деле не является. Это лишь восстановление жизненного смысла некоторых философских абстракций, которые стали предметом школьного изучения университетской философии и потеряли исходный жизненный смысл. А у него, у Хайдеггера, как раз интуиция к этим жизненным смыслам, и он эти жизненные смыслы восстанавливает. А в том, что касается нашей проблемы, именно это и есть причина: поскольку он чувствителен к этим жизненным смыслам, постольку в литературе он предстаёт как антигуманист. Он-то понимает, в каком смысле говорится в философии о человеке; о человеке в философии говорится на фоне и в свете Великого Ничто. Один из выводов, который следует из того, о чём я говорил: человек — это, очевидно, единственное существо в мире (как человеческое существо в том смысле, что оно не порождается Природой, той, которую мы можем изучать в биологии объективированно, в какой-то картине, отвлечённой от себя), пребывающее в состоянии постоянного зановорождения, и это зановорождение случается лишь в той мере, в какой ему удаётся собственными усилиями поместить себя самого, свою мысль, свои стремления, поместить в поле, в некоторое сильное магнитное поле, сопряжённое предельными символами. Эти символы выступают на поверхность, с одной стороны, в религии (я имею в виду не этнические, не народные религии), с другой стороны — в философии. В каком-то фундаментальном смысле человек мыслящий есть некоторая природная сила, если слово «природа» здесь употреблять до различения его на сущность и явления, на «вещь в себе» и явления (я имею в виду Кантовское различение) и понимать природную силу не в первичном смысле слова (как силу природы, силу естественную, скажем, биологическую или какую-то ещё), а как некую силу, природу, которой мы ещё не знаем, но которая естественным, или органическим, образом действует. Такая сила не складывается как результат нашего конструирования, не является продуктом наших конструкций, не разлагаема нами на части и не слагаема. Если бы мы могли, например, эту силу познать, это означало бы, что мы могли бы её разложить на элементы, а всё, что можно разложить, можно сложить, следовательно, мы могли бы её составить. Сила же эта действует таким образом, что она мгновенна, неповторима и непреодолеваема! Она может лишь случаться, но не потому, что мы можем её продлить. Всё, что мы могли бы сложить, мы могли бы и продлить! Как вы знаете, свершение мировых гармоний в один миг — это и есть закон гармонии, и то, что свершается в один миг, — непреодолеваемо. Хотя этот миг может быть по отношению к законам нашего наглядного языка таким, что мы его потом будем расшифровывать как «столетие», «тысячелетие», и так далее. Поэтому все временные термины, которые существуют в разговорах о человеке в философии, говоря фактически о неделимых явлениях, всегда указуют на некоторые истинные состояния, которые требуют от нас не наглядного постижения, из которого мы что-то высчитываем о возможностях нашей человеческой природы и ограниченияф, на неё налагаемых. Прежде чем завершить эту мысль, хочу привести простой пример. Вот утверждение: «Подставь вторую щёку». Если тебя обидели, ударили по одной щеке, то подставь обидчику вторую щёку. (Или утверждение: «Возлюби врага своего», правда, дальше сказано «как самого себя», что вносит некоторую поправку.) Данное утверждение не есть рецепт нашего поведения, из него не следует, что если меня в реальной жизни действительно ударили по одной щеке, то во всех случаях я должен подставить вторую. Оно — отвлечённая духовная истина, которая говорит человеку: «Если с тобой сделали то, что ты воспринял как обиду и оскорбление (получил пощёчину), значит, в этой обиде содержится какая-то истина о тебе, и что если ты хочешь её узнать, не реагируй, остановись, не разрешай своего состояния первым же автоматическим образом — ответом тем же своему обидчику». Как видим, это уже совсем другое утверждение. Понимание его таким образом, конечно, предполагает какую-то духовную и душевную грамотность в человеке, и эта грамотность развивается, практикуемая религией и философией. Она может отсутствовать в конфессиональной организации церкви, в ритуалах, которые чисто автоматически могут выполняться людьми, она может отсутствовать в университетских философиях так же, как она отсутствует в конфессиональной церкви, так что у университетской философии сейчас никаких преимуществ перед церковью нет; она одинаково может терять исходные метафизические интуиции. Но тем не менее какие-то правила духовной грамотности там содержатся, и нам иногда удаётся поверх конфессий и поверх ритуалов доходить до сути дела. Так вот, я начал говорить о природной силе. Она вспыхнула где-то! Где-то в истории, на фоне нашей мифологической предыстории произошёл прорыв, двойственный, я бы сказал, прорыв. Прорыв человеческой формы и истории. Так возникла история. История ведь есть нечто, что возникает, хотя на нашем языке история — это то, что было, и поэтому мифы — это тоже история. Нет, история как орган человеческого бытия и развития есть нечто, что само возникает исторически. Ясперс в таких случаях говорил об осевом времени; правда, это касалось возникновения философии, а сейчас речь идёт о возникновении истории… Значит, произошёл прорыв, когда возникла история как поле человеческих сил и как орган человеческого бытия и развития. Возникло поле личностной ответственности и труда души как некая авантюра и драма, лишь проходя и осуществляя которую человек может становиться и быть всё время снова и снова в состоянии рождения. Орган постоянного рождения и нахождения состояния постоянного рождения (как любовь, по определению Паскаля) — это история. С другой стороны, вот эта человеческая форма, которая соразмерна с Космосом в той мере, в какой она предполагает, что в некой точке Космоса возможны состояние и действие, отражающие и несущие в себе всесвязность космического целого, не соразмеримого, конечно, с отдельным человеческим существом и не умещаемого в нём. Иными словами, предполагается то чудо, которое имел в виду Кант, когда говорил, что в состояние удивления и восторга его приводит «нравственный закон во мне». Это не сентиментальная умиленность состоянием человечности, о котором я говорил в самом начале. Нравственный закон — действительно чудо в том смысле слова, что в виде некоторого простого и самодостоверного ощущения или восприятия может быть дано то, что в принципе можно было бы знать и иметь, только пройдя бесконечную цепь причинных связей и опосредований. Но когда сказано, что «я стою здесь и не могу иначе», то здесь в виде простого состояния дано то, о чём можно было бы знать, только охватив весь мир и потом придя к необходимости действия здесь. А оно дано в виде простой и нудительной (как в старорусском языке выражались) очевидности. То, что в мире должно по законам его случаться, может быть дано в свёрнутом виде, в облике простой нравственной очевидности. Поэтому-то Кант всегда хранил в своём кабинете портрет, казалось бы, совершенно противоположного ему мыслителя — Руссо и всегда с почтением и любовью говорил о нём. Он считал его единственным писателем, который наиболее близко и точно описал это состояние нравственной очевидности и тем самым поставил это состояние выше разума, которому, чтобы обосновать то, что очевидность уже обосновала, нужно было бы постичь все мировые сплетения. А это невозможно. В области же очевидности они даны в некотором свёрнутом виде. И это чудо. На него способен только человек. Это вторжение в космос человеческой формы: форма человеческого содержится здесь. На что эта форма указует? На сопряжённый с ней элемент, на свободу. Форма — это единственное, что серьёзным образом требует с нашей стороны свободы. Человеческая форма — это ещё и канал, через который в Космосе существует феномен свободы, или свободного действия, свободного явления, для которого причинные связи могут оставлять лишь пустое пространство. Как вы знаете, даже греческие детерминисты-атомисты вводили атомы как элементы рационально постижимой конструкции мира, но тут же вводили и пустоту. Пустота была условием для того, чтобы вообще что-либо могло случиться… Что есть в мире такого, что могло бы породить догадку, мысль о вечности? Откуда эта мысль? Она из человеческого мышления в той мере, в какой оно (это мышление) человеческое, а не в той, в какой оно «слишком человеческое»; человеческое в той мере, в какой оно в пространстве возможного человека, которого никогда не было и не будет, который сейчас. Вот это человеческое есть нечто, способное на такие состояния, относительно которых невообразима причина, почему они могли бы быть. Это — феномен свободы, который сам, в свою очередь, не может быть сделан предметом, для него нет разрешающего созерцания, на основе которого мы могли бы построить понятие свободы. И в этом смысле свобода невысказываема, и она не есть нечто, делаемое человеком, а свобода есть нечто, что производит свободу. Ещё одна сторона философской грамматики и структуры философских определений. Скажем, в грамотной философии сознание ведь не определяется или определяется так: сознание есть то, что есть возможность большего сознания. Свобода — это то, что есть возможность большей свободы. Она не является каким-то предметом, который производил бы какие-то другие предметы. Тем самым она оказывается условием всех других человеческих деяний в той мере, в какой они человеком осуществимы. История как ответственное поле драмы человеческого существования, на которое человек решается, лишь идя на чудовищный, тяжкий и никогда не гарантированный в смысле успеха труд души, на внутренний труд, на внутреннюю работу. Эта связка и определяет нашу современность, определяет нас как принадлежащих к христианской культуре и христианской традиции. Я позволю себе слово «христианство» употребить здесь в экуменическом смысле, просто беря слово «христианство», чтобы не перечислять все мировые религии, хотя их не так уж много. Ощущение истории как сцены драмы человеческого существования, моментами которого является эсхатологическая нота, то есть нота исполнения того, что должно исполниться, исполнения до конца, или нота пребыть до конца, есть основное ощущение европейского человека в той мере, в какой европейская культура является не одной из культур наряду с другими, а каким-то другим срезом человеческого бытия. И в этом смысле Европа не есть географическое понятие; Европа может быть в Токио или в Гонконге, и её может не быть в Тбилиси или в Москве. Такой контекст, мне кажется, является реальной размерностью нашего мышления и понятий, которые мы применяем. Многие наши проблемы, обозначенные для нас понятиями ответственности или уважения человека к себе и отсюда — уважения к другим, небезразличия к тому, чем занимаешься, к труду и так далее, выходят за пределы нынешних десятилетий, за ними стоят более размерные, длительные и долгодействующие силы истории. И если мы мыслим, то должны мыслить в терминах этих размерностей, размерностей долгодействующих сил нашей истории; иначе мы ничего не поймём в человеческих проблемах, которые стоят сегодня перед нами. В своё время М. Волошин в одном из своих стихотворений писал, что есть дух истории, и перед ним программа и партийность ничего не значат. Не в силу их что-то случается, а в силу этих долгодействующих сил, которые, конечно, мы должны выявить и осмыслить. Тогда мы поймём, что же с нами сегодня происходит. Вот известный феномен: российский человек безразличен к содержанию того, чем занимается. Почему? Одной из причин является дохристианская, языческая, но вторгнувшаяся в христианские термины мистика, свойственная российской культуре. Это вечное делегирование «на завтра», противоречащее определению бытия (как сказано о бытии: этого никогда не было и не будет, а есть сейчас). А мы не согласны, мы никогда не то, что сейчас. Вот я сейчас, например, делаю гадость, но у меня есть высшее сознание, что это — по необходимости, что это — не может быть иначе, и я в принципе не то, чем я являюсь сейчас, а то, чем я буду потом — в некоторой мистической точке. Для россиян характерна миститизация своего Отечества. «Мистическое тело России» — это нечто неосязаемое, ненаглядное, которое всех сзывает к себе и поэтому позволяет им проскальзывать мимо предметов, стоящих перед носом. Вместо того чтобы любить человека, живущего рядом с тобой, мы любим человечество, которое как раз в той мистической точке расположено. В итоге — мы никого не любим. Всегда нас можно дёрнуть за ниточку, и мы подчиняемся. Вопреки тому, что говорил Достоевский, что мы и испанцы, и французы; некая всечеловечность как будто сидит в нас, а в действительности — не сидит. Классический русский человек, будучи прекрасным испанцем, в один прекрасный день может исчезнуть из Мадрида, дёрнуть за ниточку из Москвы и сделать что-то такое, что уничтожит тот Мадрид, который он так любил… Не любил! Потому что он никогда не совпадает с тем, что реально, и с тем, что сейчас. Он всегда трансцендирован в пользу какого-то будущего! Как всё это связано с настоящим? Думать, что мы сейчас способны разрешить проблемы, связанные с нашей так называемой бюрократией и ещё с чем-то? Нет, эти проблемы находятся в размерности нескольких столетий. И только возобновляя порванные нити этих столетий и восстанавливая традицию долговременного мышления, мы можем разобраться в тех человеческих проблемах, которые стоят перед нами, и в том облике человека, который возник сейчас на российских пространствах и в котором я, например, скорей бы узнал некоторую помесь носорогов с саранчой, чем человеческий облик. Как это всё возникло? И снова… понять это можно, лишь поместив себя в поле долгосрочно действующих сил, некоего духа истории, и найти там, в далёких структурах российской истории, то, что сломалось, что оказалось несделанным и эсхатологической страстью не покрытым или было сделано людьми, которые не были движимы эсхатологической страстью — самой существенной страстью в человеке, которая говорит ему, что самое большое честолюбие — это исполниться, прибыть раз и навсегда, а не жить в дурной повторяемости мифа или мифического существования, которое является доисторическим существованием! |