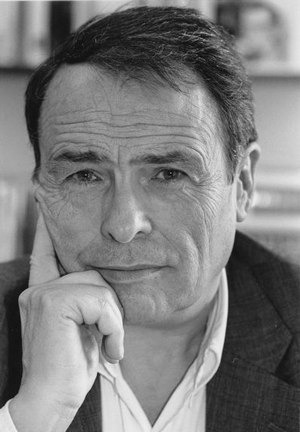 Доклад французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
Существует ли социология веры? Я считаю, что нужно переформулировать вопрос: та социология религии, какая делается сегодня, а именно, производителями, причастными в разной степени к полю религии, может ли она быть настоящей научной социологией? И я отвечаю: с трудом, то есть только при условии, что она будет сопровождаться научной социологией поля религии. Такая социология является очень трудным предприятием, но не потому, что поле религии более сложно для анализа, чем другое поле (даже если те, кто в него входят, хотят в этом убедить), а потому, что когда ты в нём, то разделяешь веру, свойственную принадлежности к полю, какому бы то ни было (религиозному, университетскому и другим), а когда ты вне его, то рискуешь, В чём состоит вера, которую связывают с принадлежностью к полю религии? Вопрос не в том, чтобы узнать, как это часто пытаются изобразить, верят или нет те люди, которые занимаются социологией религии, и даже не в том, принадлежат они церкви или нет. Речь идёт о вере, связанной с принадлежностью к религиозному полю, которую я называю illusio, то есть инвестицией в игру, связанной со специфическими интересами и выгодами, характерными для этого поля, Проблема ставится с особой остротой в случае религии, поскольку поле религии, как и любое другое поле, есть универсум веры, но вера в нём является проблемой. Вера, которую организует институция (например, вера в Бога, в догмы и так далее), стремится замаскировать веру в саму институцию — obsequium, а также все интересы, связанные с её воспроизводством. И это тем сильнее, чем более размыты границы поля религии (можно встретить, например, священнослужителей-социологов), так, что можно считать себя покинувшим поле религии, но в действительности не выйти из него. Инвестиции в поле религии могут пережить утрату веры и даже более или менее декларированный разрыв с Церковью. Это парадигма Интерес, связанный с принадлежностью к полю, сопровождается практической, заинтересованной формой познания, которой нет у того, кто туда не входит. Чтобы уберечься от эффектов науки (или, в случае социологии, от научной конкуренции), те, кто включён в поле, стремятся сделать из принадлежности к нему необходимое и достаточное условие адекватного познания. Этим аргументом широко пользуются в различных социальных контекстах, чтобы дискредитировать всякое знание «извне», «не прирождённое» («ты не можешь понять», «это надо пережить», «так не бывает» и так далее), С другой стороны, уклончивость местного жителя, которая иногда выражается в критике но адресу социологической объективации со стороны специалистов, связанных со своими объектами «наивным» интересом, скрывает важней вопрос, касающийся философии истории, или [философии] действия, которую наблюдатель применяет более или менее сознательно. Эта уклончивость напоминает, что структурные эффекты, воссоздаваемые аналитиком с помощью операций, аналогичных переходу от почти бесконечного числа тропинок к карте как модели всех дорог, охватываемой одним взглядом, осуществляются на практике только через контингентные на вид события, единичные по виду действия, тысячи бесконечно малых происшествий, интеграция которых порождает «объективное» чувство, воспринимаемое объективным аналитиком. Если невозможно, чтобы аналитик реконструировал и восстановил бесчисленные действия и взаимодействия, в которое бесчисленные агенты инвестировали свои специфические интересы, не имеющие по замыслу ничего общего с результатом, которому они всё же способствовали (верность предприятию, учебному заведению, газете, ассоциации, соперники, друзья и так далее, — все те единичные события, связанные с именами собственными, с особыми обстоятельствами, в которых с успехом утопает взгляд местного жителя), то он [аналитик] должен по крайней мере знать и помнить, что самые глобальные тенденции, наиболее общие жёсткие правила выполняются лишь с помощью наиболее специфического и наиболее случайного, в связи с приключениями, встречами, связями и отношениями, казалось бы» неожиданными, которые очерчивают особенности биографий. Именно против такой упрощающей грубости стороннего наблюдателя взывают, более или менее ясным образом, местный житель и тот, кого можно было бы назвать «оригинальным социологом» по аналогии с Гегелем и его «оригинальным историком»), кто, «погружаясь в дух события», вбирает в себя пристрастия тех, чью историю он рассказывает. Это объясняет столь часто встречающуюся неспособность социолога совершить объективацию своего почти прирождённого опыта, описать его и опубликовать. Но, замыкаясь в альтернативе частичного и неделимого; внутренне заинтересованного и предвзятого и внешне нейтрального и объективного; взгляда понимающего и даже соучаствующего и взгляда редуцирующего, упускают, что воинствующее неверие может оказаться только инверсией веры, а главное, что возможно участвующее наблюдение, которое предполагает объективацию участия и то, что она в себя включает, то есть сознательное покорение интересов, связанных с принадлежностью или непринадлежностью. Препятствуя объективации, принадлежность может стать вспомогательным средством для объективации ограничений объективации, при условии, что принадлежность сама объективирована и покорена. Если знать о принадлежности полю религии с соответствующими ему интересами, то можно научиться управлять эффектами этой принадлежности и черпать в них опыт и необходимую» информацию для производства нередуцированной объективации, способной преодолеть альтернативу внутреннего и внешнего, слепой привязанности и частичного ясновидения. Но это преодоление предполагает объективацию без изъятия всех, даже самых тончайших связей, всех форм участия и принадлежности, как объективной, так и субъективной (ведь самоанализ не имеет ничего общего с личной или публичной исповедью, с этико-политической самокритикой). Я считаю, что наиболее парадоксальные формы принадлежности, как, например, негативные или критические, часто обусловливаются прошлой принадлежностью со всеми её союзами и амбивалентностями, связанными с тем, что было, с прохождением через семинарию, большую или маленькую и тому подобное. Эпистемологаческий разрыв в таком случае совершается через социальный разрыв, который сам предполагает объективацию (болезненную) связей и привязанностей. Социология социологов не вдохновляется полемической или юридической интенцией: она только стремится сделать видимыми некоторые наиболее значительные социальные препятствия для научного производства. Отказаться от объективации союзов и от болезненной ампутации, вызываемой ею — значит обречь себя играть двойную игру, которая социально и психологически выгодна и позволяет сочетать выгоды от наукообразности (внешней) и от религиозности. Такое искушение двойной игры и двойной выгоды особенно грозит специалистам в больших универсальных религиях: католикам, изучающим католицизм; протестантам, изучающим протестантизм; евреям, изучающим иудаизм (нельзя не отметить, что перекрёстные исследования, когда католики изучают иудаизм, либо наоборот, или сравнительные исследования — это редкость). В подобном случае существует большая опасность произвести некую назидательную науку, обречённую служить фундаментом научной религиозности, позволяющую совместить выгоды научной проницательности с выгодами религиозной верности. Это двойственное отношение обнаруживается в языке и, в частности, во введении в рамки научного дискурса слов, заимствованных из религиозного языка, через которые проскальзывают default assumptions (Молчаливое или скрытое одобрение; предположение по умолчанию — [англ.] — В заключение скажу, что социология социальных детерминант социологической практики предстаёт как единственное средство аккумулировать иным, чем через фиктивное примирение в двойной игре, способом выгоды от принадлежности, участия и выгоды от внешней стороны, разрыва и объективирующей дистанции. | |