 Вадим Маркович Розин — российский учёный-философ, доктор философских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института философии Российской Академии наук (ИФ РАН). Один из первых участников Московского методологического кружка, а ныне — методологического движения; развивает своё направление методологии, основанное на идеях и принципах гуманитарного подхода, семиотики и культурологии. Помимо методологии известен исследованиями в следующих областях: культурология, семиотика, философия науки и техники, философия права, анализ эзотерических учений, психология, философия образования, философия управления. Автор более 420 научных публикаций, в том числе свыше 40 учебников и монографий. | |
Начиная с работ Платона и Аристотеля возникло привычное и уже, кажется, очевидное для нас представление, что существует мир, а человек его познает, получая о мире знание. Когда Платон говорит, что подлинное знание может быть только о мире идей, а Аристотель — что нет знания о том, что не существует, они устанавливают именно этот взгляд на природу вещей, который Гуссерль назвал «натуралистической позицией». С Античности в центре интереса философа и учёного, действующего в рамках натуралистического умозрения, стоят две проблемы — знание и его объект, Кажется, всё прекрасно: узнаем, как устроен мир, и будем счастливо жить в соответствии с этим знанием. Но оказывается, сколько философских школ и научных направлений — столько и представлений о мире. Ещё Юм сетовал на этот парадокс: «Философы считают человеческую природу предметом умозрения и тщательно изучают её с целью открыть те принципы, которые управляют нашим разумением… Они считают позором для всей науки то, что философия до сих пор ещё не установила непререкаемых основ нравственности, мышления и критицизма и без конца толкует об истине и лжи, пороке и добродетели, красоте и безобразии, не будучи в состоянии указать источник данных различений» [20, Но в ХХ столетии культурологи показали, что в разных культурах (архаической, античной, средневековой, нового времени) представления о мире и природе знания существенно различаются. Да и если внимательнее присмотреться к учениям основателей философии, то и здесь можно заметить противоречия. Истолкование познания у древних и средневековых философовС одной стороны, Платон говорит о том, что существует мир идей, которые не подвержены изменениям, божественны. С другой («Тимей»), — что этот мир создан Демиургом, который замыслил, рассчитал и построил космос. При этом Демиург подозрительно напоминает самого Платона, но, конечно, последний сказал бы, что он всего лишь подражает творчеству Создателя. Приступая к обсуждению совершенного государства, Платон, вместо того, чтобы «вспомнить» идею такого государства, что и есть по Платону размышление и познание, пишет: «так давайте же займёмся мысленно построением государства с самого начала» [11, Аристотель, который как никто способствовал становлению натуралистического умозрения, безусловно, твёрдой рукой выкорчевывал в своих построениях все платоновские искусственные трактовки мира (как творения и строительства). Однако, вспомним, как он определяет в «Категориях», что такое «род» и «вид». «И так же как первые сущности, — пишет он, — относятся ко всему остальному, так и вид относится к роду: вид есть подлежащее для рода, ведь роды сказываются о видах, виды же не сказываются о родах. Значит, … вид в большей мере сущность, чем род» [1, Значительно проще было средневековым философам, ведь им было известно, что мир создал Бог из «ничего», Боэций пытался разрешить противоречия между константной античной трактовкой категорий и объектов (вещей) и средневековой — многозначной, определяемой интенцией личности и языковыми интерпретациями. Боэций утверждает, что при одном («античном») понимании универсалий они однозначны, а при другом (учитывающем разные значения слов и интенции рассуждающего) — многозначны. Второй случай — зона действия категории отношения: «Если мы говорим, что животное это род, то словом «род» мы называем, я думаю, не саму вещь, а определённый способ отношений, которые могут быть между животным и другими подчинёнными ему вещами, о которых он сказывается… Он может выступать в качестве сказуемого по отношению ко многим различным по виду вещам», определяя при этом «степени причастности» вида к роду, а заодно выявляя смысл имени. «Будучи частью, вид соотносится с единичностью, а будучи целым — с множественностью» [10, Новое понимание категорий и основанной на них логики Боэций пытается обосновать в плане устройства человеческих действий (способностей). «Предметом так понятой логики, — пишет С. Неретина, — является анализ возможности «схватывания» множества единичных вещей. Предметом такого «схватывания» является понятие общего и возможности его сказывания о себе… Боэций, постоянно употребляя глаголы, связанные со «схватыванием», всюду сопровождает их терминами, связанными с высказыванием, с речью, с душой читателя; это «схватывание» осуществляется как «сказуемое», которое есть не определение (его тесная связь определения с понятием несомненна), а описание, рисунок, сообщаемость, что присуще речи» ( Вводя представление о «схватывании», Боэций закладывает основание для «концептуализма», идеи которого плодотворно развивает Пётр Абеляр. У последнего чётко прорисовывается схема, где увязываются основные элементы и процессы, участвующие в спасении-познании: Бог и человек, движение их друг к другу, место встречи Божьего и человеческого слова, трансформации смыслов в этом месте; наконец, вещи, универсалии и речь. «Решение проблемы универсалий, — пишет Неретина, — у Абеляра связано с попытками обнаружить способ «схватывания» (conceptio) единичного и многообразного в акте познания, осуществляемой душой, но так, чтобы душа с её модификациями в чувственном восприятии и рассудке, осуществляющими созерцание (что и есть «схватывание»), не оказались бы всего лишь местом сбора разнородных представлений о вещах, мало связанных между собой, «лишённым мысли созерцанием» (Кант), что противоречило бы представлениям о любовной принадлежности миру высших истин… Идея «схватывания», коррелирующая с этими идеями, … есть одна из основных в логике Абеляра: общее должно Проблема универсалий решается Абеляром двояко: на основе идеи «покрова», задающей границу между чисто религиозным подходом и философским осмыслением («это вместе и то, о чём можно рассуждать, преобразуя индивидуальное в общепонятное, и то, чему можно верить, не рассуждая» [10, Итак, с точки зрения Боэция и Абеляра, познание мира есть момент его создания человеком («в абстрагирующем рассудке приобретает форму понятия, значения которого укоренено в субъект-вещи»), причём условием и того, и другого является, В эпоху Возрождения, когда человек всё более решительно заимствует прерогативы Творца, идея концепирования постепенно начинает трансформироваться в представление о творчестве как создании нового, а понимание мира истолковываться в искусственной модальности: мир именно то, что создаётся. (Но продолжается и натуралистическая традиция умозрения: мир — то, что существует и познается.) Вот что пишет Николай Кузанский: «Всё чувственное пребывает в Фактически здесь намечена новая программа исследования природы: многообразие неорганизованных и часто противоречивых эмпирических знаний о реальных объектах делает необходимым построение идеальных объектов; последние человек находит в математике. Более того, Кузанский указывает, что математические предметы представляют собой построения нашего рассудка, повторяющего (в рамках подобия) творчество самого Бога, именно поэтому они точны [9, Итак, уже в работах Кузанского естественное начинает пониматься как аспект искусственного и наоборот; ничто, пишет Кузанский, не может быть только природой или только искусством; все Истолкование познания у КантаУ великого Канта мы видим то же противоречие в истолковании познания и мира. С одной стороны, мир существует как вещи в себе, как явление и опыт, с другой — он создан Творцом и всё время творится человеком, познающим мир. В «Критике чистого разума» Кант указывает, что его система была определённым решением проблемы, возникшей при осмыслении работ Локка и Юма. Оба этих философа утверждали, что только опыт (прямой, основанный на ощущении, или опосредованный, опирающийся на рефлексию или деятельность ума) является источником знаний. Свойствами же научных и философских знаний, считает Кант, являются общезначимость, необходимость, всеобщность. Эти характеристики из опыта получены быть не могут. Кроме того, Кант обращает внимание на то, что одни научные и философские знания получаются на основе других, как он говорит, путём синтеза. Кто и как осуществляет этот синтез? Кант отвечает так: источником научных и философских знаний является не опыт, а разум (вместе с рассудком), то есть — это источник внеопытный, «априорный» (это решение вполне вписывается в традицию, идущую прямо от Средних веков, например, в абеляровскую идею концепта или в философские взгляды Кузанского). Действительно, чем, спрашивается, направляется концепирование, если не разумом (либо направляемого Богом, либо действующего по собственным законам)? Но концепирование — это деятельность мыслящей личности, следовательно, именно она должна осуществлять синтез. Апеллируя к опыту математики и естествознания, Кант предполагает, что мыслящий, рассуждая, не только связывает знания, но и привносит в природу законы; при этом разум оперирует понятиями и категориями, независимыми от опыта, Кант называет их априорными. «Первый, кто доказал теорему о равнобедренном треугольнике, — пишет Кант, — понял, что его задача состоит не в исследовании того, что он усматривал в фигуре, Но тогда получается, что опыт, на котором основывается все естествознание, не играет никакого значения для научного мышления. Чтобы разрешить это затруднение, Кант вводит понятия «созерцания», «вещи в себе», «явления» и «предмета». Суть решения состояла в постулировании двух реальностей — трансцендентальной, где с помощью разума, точнее, в сфере разума, как говорит Кант «а priori» создаются научные и философские знания, и эмпирической, где на основе созерцания имеет место опыт. Одновременно созерцание и опыт выступают как необходимое условие изучаемого в науке или философии явления и предмета. В этой схеме — два принципиальных и замечательных открытия (изобретения): вещь в себе и трактовка опыта как обусловленного априорными представлениями. На первый взгляд, вещи в себе обладают противоречивыми свойствами: мы о них абсолютно ничего не можем сказать, они не «являются» и «непознаваемы», Действительно, с одной стороны, выведение вещей в себе за пределы явления и научного знания позволяло приписать последним конструктивно создаваемые (самим человеком) характеристики всеобщности, общезначимости и необходимости. С другой стороны, понимание вещей в себе в качестве созерцаемой объективной реальности объясняло в методологическом плане, почему явления и научные знания обусловлены опытом. Понятие вещи в себе по происхождению было таким же, как галилеевское «падение тела в пустоте». Оно получалось в презумпции, что можно мыслить предметы, не данные нам в чувственности, — точнее было бы сказать: данные нам ещё до чувственности, до нашего познания. Тогда получалось, что они непознаваемы — и одновременно в дальнейшем в познании обуславливают его. С формально-логической точки зрения налицо противоречие: вещь в себе непознаваема Вообще-то говоря, ещё Аристотель показал, что научные знания относятся не к эмпирической действительности, Кант же имел перед собой вполне сформировавшееся математическое и естественно-научное мышление; кроме того, весь ход развития предшествующей философской мысли подвёл его к необходимости чётко различать: мышление; условия, которые его детерминируют (то есть познаваемые объекты, категории и понятия); и продукты мышления (в одних случаях — знания, в других — те же самые объекты, понятия и категории). Важно, что и само мышление Кант понимает иначе, чем Аристотель. Последний ещё не осознает роль мыслящего (его действия сливаются с действием Разума-Божества); Кант же, опираясь на декартовскую новоевропейскую традицию личности, уже понимает, что именно мыслящий, как он пишет, «сам является творцом опыта», «сам вкладывает» в объект необходимые априорные характеристики, «сам связывает знания и характеристики объекта». Но при такой трактовке возникает вопрос, кто же направляет разум (мышление) человека? В Средние века всегда можно было сказать, что Бог; по Канту получается, что разум человека следует «вечным и неизменным законам» разума. Другими словами, разум Кант понимает двояко: как разум отдельного эмпирического человека и разум как таковой, как особую природу, законам которой подчиняется отдельный правильно мыслящий человек. Так, разум по Канту «осуществляет синтез», «выходит за пределы опыта», «впадает в антиномии» и тому подобное. Обсуждая антиномии разума, Кант пишет, что разум «заставляет выступать в защиту своих притязаний» философов, ведущих спор; но одновременно философ является «законодателем разума» [7, Замыкает Кант свою систему, отождествляя (правда, осторожно) разум с Богом. Вероятно, иначе Кант и не мог поступить: ведь замыкание философской системы предполагает не только указание на реальность, с которой бы согласились основные участники культурной коммуникации (в данном случае философы и их читатели), но также возможность реализовать собственные идеалы и ценности. А среди этих идеалов у Канта были не только вера в Бога, но также в разум и точную науку. Тогда возникает другой вопрос: каким образом Кант совмещает эти, на первый взгляд, противоположные, начала? Решил эту трудную проблему Кант достаточно органично, строго следуя замыслу трансцендентальной философии. Истолковывая разум одновременно как разумную деятельность людей и как органическое разумное целое (существо), действующее посредством мышления людей, Кант получает предположительную возможность не только отождествить Бога с этим разумным существом, то есть с разумом, но даже приписать Творцу антропоморфные характеристики. «Высшее формальное единство, основывающееся исключительно на понятиях разума, — пишет Кант, — есть целесообразное единство вещей, и спекулятивный интерес разума заставляет рассматривать все устроение мира так, как если бы оно возникало из намерения наивысшего разума. В самом деле, такой принцип открывает нашему разуму, применяемому в сфере опыта, совершенно новую перспективу — связать вещи в мире согласно телеологическим законам и тем самым дойти до их наибольшего систематического единства. Следовательно, допущение некого высшего мыслящего существа как единственной причины мироздания, но, конечно, лишь в идее, всегда может быть полезным разуму и никогда не может повредить ему. Более того, мы даже без боязни и не навлекая на себя упрёков, можем допустить в этой идее некоторые виды антропоморфизма, полезные для упомянутого регулятивного принципа. Действительно, это всегда есть лишь идея, относящаяся не прямо к отличной от мира сущности, Итак, мир по Канту возник из намерения Творца, создан Им; одновременно, именно Он в лице разума вносит в мир систему, но конкретно Творец-разум реализует себя через деятельность людей, которые сами «a priori» конституируют действительность. Эта свобода их творчества ограничена опытом, за которым, вероятно, стоят как деятельность человека, так и Бога. Дальше этого, не отказываясь окончательно от принципов натуралистического умозрения, пойти было невозможно. Как известно, окончательно с натуралистическим умозрением порывают Фихте, Шеллинг и Гегель, а вслед за ними Маркс. Первый утверждает, что мир порождается деятельностью Сознания, аспектом которого является и познание. Шеллинг настаивает на том, что мир — продукт деятельности и развития Интеллигенции, соответственно, познание — момент последней. Гегель показывает, что мир является продуктом деятельности и развёртывания абсолютного Духа; одновременно в форме жизни понятия Дух выступает как познание. Наконец, Маркс утверждает, что мир — это продукт культурно-исторического процесса и общественной практики человека, и что главная задача — не объяснить мир, а его переделать. Мир для Маркса — это продукт деятельности человека, а не только результат культурно-исторического процесса. Но сменить умозрение с натуралистического на «деятельностное» ещё не достаточно, необходимо было также понять, как всё это возможно с точки зрения достижений современной научной и философской мысли, задающих понимание реальных процессов и механизмов. Наиболее интересные решения здесь в ХХ столетии, на мой взгляд, предложили Антинатурализм Г. П. Щедровицкого и М. ФукоПо мнению Г. Щедровицкого, чётко противопоставившего «натуралистический» и «деятельностный» подходы, нечего «пялиться» на объект и мир, чтобы разрешить проблемы, волнующие человечество [19]. И объект, Осуществив кардинальный выбор в пользу культурно-исторического подхода, Фуко начал с анализа того, что лежало как бы на поверхности — с языка и вещей (многие, наверное, помнят его известную книгу «Слова и вещи»). С этого возникает интерес Фуко к дискурсу, который первоначально понимался просто как высказывающая речь о вещах и мире. Однако уже в исходном пункте анализа у Фуко подразумевался особый контекст существования языка и вещей: общественная практика, которая бралась, с одной стороны, в историческом и культурном планах, с другой — в социальном, как отношения власти и управления. При этом, вполне в духе марксизма, Фуко писал: если знать, как устроена социальная действительность, то её можно и переделать [18, Затем Фуко переходит к анализу тех условий, которые обусловливали существование (жизнь) языка и вещей. Его исследования показывают, что это, Третий в логическом отношении шаг Фуко — переход в поисках детерминант и условий (теперь уже относительно правил и практик) к анализу властных отношений. Замыкает все три слоя анализа Фуко на основе понятия диспозитива, который наиболее обстоятельно рассмотрен им на материале истории сексуальности. Фуко старается показать, что сексуальность — не натуральный и биологический феномен, а социальный и культурный. Он возникает, конституируется в ответ на формирующиеся в Новое время репрессивные практики (в институтах церкви, тюрьмы, медицины и педагогики). Стремление расширить зону властных отношений приводит к контролю и нормированию различных аспектов интимной жизни человека. С точки зрения Фуко, сексуальность — это инстанция, приписанная человеку, которая оправдывала его включение в данные репрессивные практики и властные отношения. Биологическая сторона — всего лишь субстрат сексуальности. Диспозитив сексуальности по Фуко — это и то, что создаётся (конституируется), и то, что изучается. (Интересно, что Г. Щедровицкий замыкает свои исследования в два этапа: сначала на идею деятельности (она объявляется исходной реальностью), затем на идею «мыследеятельности», которая помимо планов деятельности и чистого мышления содержит план коммуникации — то есть тоже некоторый социальный аспект). На мой взгляд, Г. Щедровицкий и М. Фуко всё же ясно не ответили на три важных вопроса, без которых деятельностный подход выглядит уязвимым. Первый: в каком отношении находятся между собой мир как данность и условие (то есть, как актуальная реальность) и — как продукт деятельности. Второй: какое место в деятельности, конституирующей мир, отводится познанию, и что это такое по своей природе. Третий: какова роль человека в процессах порождения мира. Попробую наметить ответы на эти вопросы, опираясь на собственные исследования. Мир как актуальная реальность и как продукт деятельностиЭта проблема обсуждается, в частности, в понимающей социологии. «Если ситуация определяется как реальная, она реальна по своим последствиям… Лукман и Бергер в книге «Социальная конструкция реальности» показывают, что мир, в котором живут и трудятся социальные индивиды и который они воспринимают как изначально и объективно данное, активно конструируется самими людьми в ходе их социальной деятельности, хотя это происходит неосознаваемо для них самих. Это диалектическая концепция: познавая мир, люди созидают его и, созидая, познают» [6, Известно, что архаическая реальность практически целиком основывается на представлении о душе. Архаический человек считает, что всё живое — это души, живущие в собственных домах (для человека такой дом его тело, для реки — вода, для дерева — ствол и так далее); души могут покидать свой дом и возвращаться в него; они вечны. Если душа покидает свой дом на время — то это болезнь или сон (сновидение). Если душа оставляет свой дом навсегда, — это смерть. Создавая «произведения искусства» (рисунок, маску и прочее), архаический человек считал, что вызывает души, которые могут жить в этих созданных человеком «домиках» («произведениях»), временно покинув свои [14]. Этимология слова «душа» показывает его связь со словами «птичка», бабочка», «дыхание». Можно предположить, что представление о душе возникло в следующей ситуации. Подобные необычные языковые конструкции («у человека есть птичка-дыхание») и являются первыми схемами. Они выполняют несколько функций: помогают понять происходящее, организуют деятельность человека, собирают смыслы, до этого никак не связанные между собой, способствуют выявлению новой реальности. Необходимым условием формирования схем является означение, то есть замещение в языке одних представлений другими (в данном случае необходимо было состояния человека представить в качестве состояний птички-дыхания) [14; 16]. Изобретя представление о душе, человек смог действовать во всех указанных выше случаях; на основе анимистических представлений формируются и первые социальные практики и соответствующее понимание и видение мира (он был населён душами, которые помогали или вредили человеку). И опять именно схемы помогали человеку распространить анимистические представления на новые случаи и ситуации. Двигаясь в схеме души и решая одни проблемы, архаический человек порождал другие, третьи — и так до тех пор, пока не удавалось выйти на понимание реальности (мира), обеспечивающей при сложившихся условиях устойчивую социальную жизнь. Религиозная реальность складывается не раньше Приглядимся к богам Древнего Египта, Шумера, Вавилона, древней Индии и Китая по моей классификации они относятся к «культуре древних царств»). Они управляют любым человеком (обладают властью), даже царём (фараоном). Каждая профессия имеет своего бога-покровителя. И они всегда действуют совместно с человеком [ По механизму обнаружение реальности богов напоминает процесс, который привёл к представлению о душе. Только здесь для сборки разных смыслов и выявления новой реальности потребовались более сложные схемы — мифы о том, как боги создали мир и человека, пожертвовав для этой цели своей жизнью [14]. Используем теперь этот материал для того, чтобы проанализировать, как возникает мир и что это такое. Мир — это аспект культуры: культурное понимание действительности. В свою очередь, культура может быть категорирована как форма социальной жизни. Социальные явления, с одной стороны, уникальны, с другой — законосообразны. Уникальны они в том отношении, что являются элементами и составляющими определённой культуры, определённой формы социальной жизни (архаической, античной, средневековой, нового времени, западной или восточной, российской и прочих). В качестве таких элементов и составляющих социальные структуры отражают в своём строении уникальные проблемы и способы их разрешения, характерные для определённой культуры и времени. Социальные явления как моменты и составляющие той или иной культуры, — уникальны; если они и воспроизводятся в других культурах, то именно как уникальные образования, не характерные для этих культур. Законосообразность социальных явлений обусловлена тем обстоятельством, что каждая культура представляет собой социальный организм, а следовательно, можно говорить о её рождении, существовании и гибели (смерти), а также о среде существования культуры, её органах и прочее. В культуре как социальном организме существует взаимосвязь по меньшей мере семи основных подсистем — базисных культурных сценариев (картин мира), социальных институтов, хозяйственного обустройства (хозяйства), экономики, системы власти, общества, популяций [14; 15; 16]. (Важна взаимосвязанность подсистем и процессов, позволяющая истолковывать социальные явления в естественной модальности, а культуру в целом как социальный организм.) Мои исследования подсказывают следующий, конечно, один из возможных сценариев формирования культуры. На определённом этапе развития осознаются «витальные катастрофы», «разрывы» и проблемы, например, две рассмотренные выше, предшествовавшие становлению архаической культуры и культуры древних царств. Они разрешаются в результате изобретения новых схем (в данном случае представлений о душе и богах). На их основе выявляется новая реальность (анимистическая и религиозная), складываются социальные практики и отношения. Поскольку к культуре подключаются новые поколения людей и, кроме того, в результате функционирования культуры возникают новые разрывы и проблемы, в ней складываются механизмы трансляции, адаптации и новаций (например, происходит переосмысление традиционных представлений). Действие этих механизмов тоже предполагает использование существующих или построение новых схем. До тех пор, пока на основе всех этих механизмов, опыта и схем удаётся разрешать основные проблемы, снимать разрывы, осуществлять нормальное функционирование, — культура живёт, развивается и совершенствуется. Когда же базисные культурные сценарии и картины мира, на которых держатся все процессы и структуры культуры, перестают соответствовать реальной социальной жизни, наступает очередная витальная катастрофа. В целом в социокультурной действительности необходимо различать два основных процесса — становления и функционирования. К первому относится разрешение витальных катастроф, формирование базисных подсистем, ко второму — распространение всех этих структур на новые ситуации, в новых условиях, что, конечно, предполагает их усложнение и развитие, но не ведёт к принципиальному изменению самих структур. Таким образом, в каждой культуре складывается своё представление о мире, обусловленное существующими базисными сценариями и остальными подсистемами. В периоды становления социокультурной действительности можно говорить Анимистическое осмысление представляло собой первый в истории человечества тип познания (он оставался пока нерефлексированным). В культуре древних царств все природные стихии и социальные явления понимались как соответствующие боги. Частично начал осознаваться в той же религиозной форме и сам процесс познания (чтобы согласовать деятельность человека с жизнью богов, жрецы стали вести регулярные наблюдения за поведением богов, то есть изучать движение солнца, луны, звёзд, начало и окончание разлива рек и прочее). Однако полностью рефлексированное познание возникает значительно позднее, в античной культуре. В рамках познания складываются и первые знания: атрибутивные, типа «это — 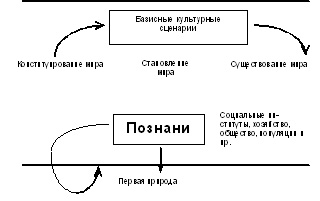 Формирование личности, мышления и рефлексированного познанияДо античной культуры знания создавались не в рассуждениях и обязательно проверялись в практике хозяйственной и социальной жизни. Например, утверждение, что «у Рассуждения были изобретены только в античной культуре, и этому способствовали два важных обстоятельства. Первое — формирование того, что условно можно назвать античной личностью, второе — социальной коммуникации, допускающей наряду с общественными также и личные мнения и убеждения [14]. В античной культуре, где мифологические и религиозные начала сильно ослабевают, а государство имеет ограниченное влияние на человека, впервые складывается самостоятельное поведение человека и, как следствие, первая в истории человечества личность. Вспомним поведение Сократа на суде. С одной стороны, он идёт на суд и соглашается с решением общества, назначившим ему смерть. С другой — Сократ предпочитает оставаться при своём мнении. Сократ как личность, хотя и не разрывает с обществом, идёт своим путём. И что существенно: не только Сократ выслушивает мнение суда, но и афинское общество выслушивает достаточно неприятные для него речи Сократа и даже, как нам известно, через некоторое время начинает разделять его убеждения. В теоретическом же плане речь идёт о формировании самостоятельного поведения, которое невозможно без создания «приватных схем» (например, представлений, как говорит Сократ на суде, что он не простой человек, что он сам ставит себя на определённое место в жизни и стоит там насмерть). Приватные схемы выполняли двоякую роль: с одной стороны, обеспечивали (организовывали) самостоятельное поведение, с другой — задавали новое видение действительности, включавшее в себя два важных элемента — индивидуальное видение мира и ощущение себя микрокосмом (уникальной личностью). Анализ платоновской «Апологии Сократа», показывает, что античная личность «потянула» за собой и формирование ряда социальных субъектов на их основе дальше формируются популяции). Так, в суде над Сократом участвуют, по меньшей мере, четыре разные группы. Социальные субъекты вырабатывали самостоятельные цели, действовали согласованно на политической сцене, пытались навязать остальным членам общества своё видение мира. Античное общество состояло из социальных субъектов, сходившихся на публичной сцене (суде, собрании, агоре и так далее), где каждый мог высказать своё мнение и попытаться повлиять на других. В результате складывалось общественное мнение, принимались коллективные решения, исполнение которых поручалось уже властям. Античная личность и социальные субъекты — каждый из них видит всё До античной культуры рассуждения не были нужны, поскольку все представители культуры имели одни и те же представления, заданные коллективными схемами те же, кто почему-либо начинали видеть, отклоняясь от общей нормы, подвергались немедленному остракизму). Структура рассуждений содержит такое важное звено, как схему типа «А есть В» («все есть вода», «люди — смертны», «боги — бессмертны», «кровь есть жидкость» и тому подобные), позволяющую переходить от одних представлений к другим от А Собственно рассуждения появляются тогда, когда человек, Дальше, однако, возникли проблемы: рассуждать можно были Из истории античной философии мы знаем, что возникшее затруднение, грозившее парализовать всю общественную жизнедеятельность греческого полиса, удалось преодолеть, согласившись с рядом идей, высказанных Платоном и Аристотелем. Эти философы предложили, В данном случае правила, которые тоже задавались на схемах, я понимаю широко. Важны всего два признака: указание на определённые операции (процедуры), а также некоторые условия применения правила. Например, в схеме совершенного силлогизма [2, Дополнительно решались ещё две задачи: правила мышления должны были способствовать получению в рассуждениях только таких знаний, которые можно было бы согласовать с обычными знаниями (то есть вводился критерий опосредованной социальной проверки) и, кроме того, правила должны были быть понятными и приемлемыми для остальных членов античного общества. Уже применение к реальным предметам простых арифметических правил требует специального представления материала. Тем более, это было необходимо сделать для применения построенных Аристотелем правил мышления. Эти правила, как известно, в основном были сформулированы в «Аналитиках». Например, применение правила совершенного силлогизма к конкретному предмету, скажем, Сократу («Сократ человек, люди смертны, следовательно, Сократ смертен») предполагает возможность рассмотреть Сократа и людей, как находящихся в определённом отношении. Схематизируя подобные отношения, обеспечивающие применение созданных правил, Аристотель в «Метафизике» и ряде других своих работ вводит категории: «род», «вид», «начало», «причина», «материя», «форма», «изменение», «способность» и другие. С их помощью предметный материал представлялся таким образом, что по отношению к нему, точнее, к объектам, заданным на основе категорий, можно было уже рассуждать по правилам. Схемы и описания, созданные с помощью категорий и одновременно фиксирующие основные свойства рассматриваемого предмета, причём такие, использование которых в рассуждении не приводило к противоречиям, получили название понятий. Например, в работе «О душе» Аристотель, анализируя существующие рассуждения о душе человека и её состояниях, с помощью категорий создаёт ряд понятий — собственно души, ощущения, восприятия, мышления (последняя, например, определялась как «форма форм» и характеризовалась способностью к логическим умозаключениям). Создание правил мышления, категорий и понятий, позволяющих рассуждать без противоречий и других затруднений, получать знания, которые можно было согласовывать с обычными знаниями, обеспечивая тем самым социальный контроль, а также понимать и принимать все предложенные построения (правила, категории и понятия), венчает собой длительную работу по созданию мышления. С одной стороны, конечно, мыслит личность, выражая себя в форме Уже в античной культуре сложились два основных взаимосвязанных способа использования мышления. С одной стороны, мысля и рассуждая, античный человек уяснял окружающие его природу, мир и самого себя. С другой — мышление позволяло решать социальные задачи, касающиеся всех. Например, Аристотель и его школа осуществили настоящую реформу в сфере знания. Они поставили своей задачей заново в правильном мышлении получить знания, созданные к этому времени по поводу различных предметных областей софистами и философами. Для этого они сначала проанализировали существующие рассуждения и знания на предмет противоречий и проблем. Затем схематизировали отобранные правдоподобные знания с помощью категорий, что позволило создать соответствующие понятия. Наконец, заново получили знания, используя уже созданные понятия, а также правила мышления и категории. Наиболее последовательно эта работа продемонстрирована в книгах Аристотеля «О душе» и «Физика». Обе указанные функции мышления предполагали познание действительности. Но в данном случае оно было уже отрефлексированным. Мир, который философ или учёный познавал, задавался с помощью категорий и понятий. Продуктом познания считалось знание. Процесс познания осознавался в представлениях о самом мышлении, философской и научной работе. Схема и знаниеВ намеченной нами картине мир возникает в рамках социокультурной действительности и познается на этапе существования. В период становления мира речь может идти только о его конституировании, важным моментом которого является создание новых схем. Однако и существование мира предполагает создание и использование схем (и представление о познании может быть понято как превращённая форма, как исторически ограниченная форма осознания специфического способа бытия схем). Но можно ли сказать, что знание — частный случай схем, а познание — частный случай схематизации? Вопрос непростой. С одной стороны, вроде бы именно так и нужно считать. Но с другой — познание и знание исторически образуют в мышлении самостоятельный тип реальности. Поэтому в мышлении правильнее сохранить автономию соответствующих понятий (познания и знания), одновременно понимая, что эта автономия условна, имеет смысл только в рамках существования мира, и для ряда современных задач она может быть отменена даже Если всё же рассуждать последовательно, то нужно утверждать, что существование мира — всего лишь один из планов социокультурного бытия, что, даже когда мир познается, он конституируется в схемах, только это конституирование имеет специфический характер. В данном случае схемы разворачиваются таким образом, чтобы в них можно было осмыслить и освоить явления первой природы и социальную действительность, при условии закрепления представлений о принципиальной структуре мира, а также закрепления способа построения схем (познание в отличие от искусства, проектирования, инженерной деятельности и прочее). На последующих этапах социокультурной жизни существование уступает место становлению нового мира, затем следует фаза существования нового мира и так далее. Нельзя сказать, что философы предыдущих эпох не обсуждали материю и природу схем. Но поскольку они не могли преодолеть натуралистическое умозрение, то схемы в их рассуждениях получали статус эпифеноменов. Чтобы в этом убедиться, совершим краткий экскурс в историю этого вопроса. При этом я буду использовать следующую схему: Для меня, как это можно понять из предыдущего изложения, схемы становятся реальностью только в рамках деятельностного подхода. Они выполняют несколько функций: обеспечивают организацию (осуществление) деятельности, способствуют выявлению новой реальности, в познавательной позиции задают некоторый объект (например, схема души обеспечивала деятельности захоронения, лечения, толкования сновидений, вызывание душ; способствовала выявлению такой реальности, как человек, обладающий душой; задавала в этой реальности душу как самостоятельный объект). Платон, а вслед за ним и многие другие философы, обсуждает статус прежде всего схем математики. В натуралистическом умозрении этим схемам, чтобы признать их существование, нужно было найти соответствующие идеи. Но схема по сравнению с истинным знанием задаёт объект, выглядящий менее «реальным», чем идеи. Поэтому Платон утверждает, что математические схемы (например, геометрические чертежи), скорее, «познавательные леса», а объекты, которые они задают, хотя и похожи на идеи, всё же не идеи, их можно охарактеризовать как «незаконные идеи», получаемые посредством «незаконного умозаключения» как бытие, которое нам только снится, соответственно, знания, полученные на схемах, являются «незаконным знанием» [11, Аристотель вроде бы согласен с Платоном, что геометрические чертежи не являются сущностью, утверждая в то же время, что математические схемы, с одной стороны, принадлежат тем явлениям, которые они описывают, а, с другой — являются самостоятельными мыслительными образованиями [3, Понятие концепта у Абеляра весьма близко к понятию схемы, правда, с поправкой на различие подходов. И концепт, и схема способствуют выявлению (творению) новой реальности, оба они помогают собрать (связать) смыслы, до этого «прописанные» по разным предметным областям; и концепт, и схема выступают как средство организации деятельности человека. Другое дело, что абеляровское понятие концепта обязательно предполагает наличие божественного образца предмета (универсалий) и подражание творчеству Бога. Утверждая, что математическое мышление «совершенно», а природа написана на языке математики, Кузанский и Галилей не только настаивают на исключительной важности математических схем, но и фактически утверждают, что с их помощью порождается реальность природы. Более того, структура эксперимента, разработанная Галилеем, представляла собой способ приведения (техническим путём) природной реальности к состоянию, полностью описываемому математической схемой [17]. Кант вводит представление о схемах и схематизмах мышления так: «Чистые рассудочные понятия совершенно неоднородны с эмпирическими (и вообще чувственными) созерцаниями, и их никогда нельзя встретить ни в одном созерцании. Отсюда возникает вопрос, как возможно подведение созерцаний под чистые рассудочные понятия, то есть применение категорий к явлениям; ведь никто не станет утверждать, будто категории, например, причинность, могут быть созерцаемы также посредством чувств и содержатся в явлении… Ясно, что должно существовать нечто третье, однородное, с одной стороны, с категориями, с другой — с явлениями и делающее возможным применение категорий к явлениям. Это посредствующее представление должно быть чистым не заключающим в себе ничего эмпирического) и, тем не менее, с одной стороны, интеллектуальным, Но как такое может быть, как можно связать неоднородные содержания? Кант только намекает, что здесь, с одной стороны, работает воображение (оно, по Канту, как раз и объединяет, синтезирует разнородные содержания мысли), с другой — сама схема тоже неоднородна, в силу чего она может связать разнородные содержания. «Схема треугольника, — пишет Кант, — не может существовать нигде, кроме мысли, и означает правило синтеза воображения в отношении чистых фигур в пространстве… Схема же чистого рассудочного понятия есть нечто такое, что нельзя привести к какому-либо образу; она представляет собой лишь чистый, выражающий категорию синтез сообразно правилу единства на основе понятий вообще, и есть трансцендентальный продукт воображения» [7, Онтологический статус схем ниже, чем категорий и понятий. Схема, пишет Кант, «есть, собственно, лишь феномен или чувственное понятие предмета, находящееся в соответствии с категорией, имеющей независимое от всякой схемы и гораздо более широкое значение» [7, Понятно, что схемы Канта — это только один из типов схем, а именно те, которые используются в науке, даже более узко — в её онтологическом слое, когда в него вводятся новые объекты. Такие случаи рассматривал Аристотель, и особенно — Архимед. Он, чтобы ввести в геометрию новые теоремы и соответствующие им фигуры, использовал схемы, заимствованные из механики: « И понятие диспозитива Фуко близко к понятию определённого типа схем, но опять же с точностью до разницы подходов: «Я пытаюсь ухватить под этим именем, Во-вторых, то, что я хотел бы выделить в понятии диспозитива, это как раз природа связи между этими Гетерогенными элементами. Так, некий дискурс может представать то в качестве программы некой институции, то, напротив, в качестве элемента, позволяющего оправдать и прикрыть практику, которая сама по себе остаётся немой, или же, наконец, он может функционировать как перосмысление этой практики, давать ей доступ в новое поле рациональности (мы бы сказали, что в данном случае речь идёт об условиях, обеспечивающих трансформацию и развитие. — Под диспозитивом, Собственно, здесь Фуко обсуждает не столько природу схем, сколько особенности схем, на основе которых сегодня можно строить успешное социальное действие. Такие схемы должны соединять представления разных дисциплин, причём не только научных, описывать как существующие дискурсы, так и ориентированные на изменение социальной действительности. И притом способствовать разрешению актуальных проблем современности.  Условие мыслимости множественности мировКак мы помним, Юм и Кант обсуждают как скандальную ситуацию множественности представлений мира. Но Кант понимает, что свобода личности предполагает именно такое развитие событий: «Во всех своих начинаниях разум должен подвергать себя критике и никакими запретами не может нарушать свободы, не нанося вреда самому себе и не навлекая на себя нехороших подозрений…» [7]. С другой стороны, Кант уверен, что рано или поздно истина восторжествует и человечество выйдет к правильному, по сути, кантианскому пониманию действительности и мира. Понять это противоречие можно, учитывая европоцентристское мироощущение того времени. Выступая от лица человечества, ощущая мир как единое целое, Кант утверждал, противореча сам себе, что существует единый мир, который можно адекватно познать. Однако все попытки доказать, что Но почему исследователи так упорно настаивают на единстве и единственности мира? Здесь, по меньшей мере, два обстоятельства. Одно — упомянутое выше натуралистическое умозрение и его распространение на человека и общество. Если считать, что человек и социум представляют собой особого рода природу, законы которой изучают антропологические и социальные науки, то невозможно признать существование множества миров. Другое обстоятельство — ощущение того, что современная жизнь оказалась перед лицом общих глобальных проблем и постепенно вовлекается в общие социальные, экономические, культурные процессы. Разберём последовательно оба эти момента. Вернёмся ещё раз к представлениям древнего мира и Античности. Разве представления о мире и человеке в этих культурах совпадали? Естественно, нет. Схемы, которые описывали соответствующие реальности (души, богов, личности), задавали и определённые типы социальности. По-видимому, схематизация не только способствует выявлению новой реальности, но и задаёт определённые аспекты социальности, социальной жизни. Если учесть, что схемы человек может строить А как же проблема органичности и организмичности социальной жизни? Ведь не произвольно же конституируются культуры, социумы и миры? Естественно, не произвольно. Существуют различные факторы и условия, обусловливающие подобную работу. Однако обусловленность не отменяет свободу и вариативность организации и схематизации социальной жизни, а это и есть одно из предельных оснований для существования различных миров. Другое — различие реальных природных условий, уже сложившихся ситуаций, социальных и антропологических типов, традиций и так далее, которые застаёт человек на очередном этапе конституирования действительности. Третье — природа личности, существенно определяющая социальную жизнь, начиная с Античности. Появление личности знаменует собой становление внутри социума второй формы социальной жизни. Назовём её «личностной». Личностная форма социальной жизни также задаётся на схемах (схемы человека, личности, биографии, жизненного пути, личностных ценностей и прочее). Будем дальше все эти заданные приватными схемами семиотические и психологические конструкции называть «жизненными сценариями личности». Кроме этой составляющей, для личностной формы жизни характерна деятельность, направленная, с одной стороны, на реализацию жизненных сценариев личности, с другой — на поддержание или создание необходимым для жизни личности условий (в пище, отдыхе, защите, общении и так далее). Сразу следует подчеркнуть, что становление личностной формы социальной жизни было бы невозможным без соответствующей самоорганизации социума. Если Сократа общество убивает, то на излёте Античности Апулея, обвинённого в сходных прегрешениях (в магии и необычном образе жизни), суд оправдывает. Апулей в свою защиту говорит судьям и зрителям, что он философ, а следовательно, может жить не так, как остальные. То есть в обществе уже созрело понимание, что люди могут существенно различаться, что нужны даже такие странные личности, как философы. Более того, и при том, что общество плохо понимает жизнь такой странной личности, оно готово её поддерживать, как, например, в Тибете, где население близлежащих деревень десятилетиями приносит отшельникам пищу. Поскольку личностная форма социальной жизни основывается на самостоятельном поведении, которое в свою очередь основывается на приватной схематизации, в социуме реализуется столько форм личностной социальной жизни, сколько возможно оппозиций и различений в самой схематизации, но поддержанных реальными формами жизни личности. Например, учение Будды — это оппозиция социальному бытию, и буддистам удалось практически выйти на такие формы самоорганизации индивидуальной жизни, которые приближают их к нирване. Иначе говоря, буддисты в своей жизни реализуют определённую форму личностной социальной жизни и связанное с ней буддистское видение мира. Платон же, стремясь преодолеть смерть, вышел на учение «эпимелии» — работы человека над собой: она должна помочь его душе прийти в мир богов, которому она исходно принадлежит. Эта работа включала не только занятие философией и наукой, но и переделку (совершенствование) себя («вынашивание духовных плодов» [13]). Поскольку Платон в своей жизни реализует именно этот сценарий, в его лице мы имеем и соответствующую форму личностной социальной жизни и соответствующее платоновское видение мира. 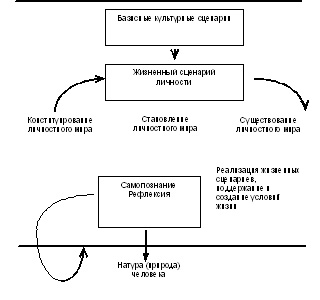 Теперь — о проблеме ощущения единого мира современности («модернити»). Да, такой мир складывается на наших глазах. Но его становление не отменяет другие культуры, социумы и миры, хотя и меняет условия и среду их существования. Модернити становится как сложный социальный организм, включающий множество культур, социумов и миров, находящихся в различных отношениях (иерархических, дополнения, включения, рефлексивности, ассимиляции, взаимодействия, размежевания и прочее). Теперь можно уточнить наше понимание механизма формирования социума и ответить на поставленный выше вопрос, касающийся соотношения планов существования и конституирования действительности. Схема формирования социума такова: его изменение обусловливаются двумя основными обстоятельствами: витальными катастрофами или ситуациями разрыва, — и появлением и осознанием новых возможностей (например, в эпоху Возрождения постепенно сложилось убеждение, что можно воспользоваться силами природы, поставив её на службу человеку: для этого необходимо описать законы природы и создать новую науку и практику). Витальные катастрофы (ситуации разрыва, новые возможности) разрешаются человеком культуры или личностью (личностями), изобретающими новые знаки и схемы, на основе которых перестраивается существующая деятельность, создаются новые формы организации. Перестройка и организация деятельности идут в таком направлении, которое обеспечивает становление и затем функционирование социального организма (в результате складываются базисные культурные сценарии, формируются социальные институты, хозяйство, экономика, популяции, власть). Новые знаки и схемы рано или поздно способствуют изменению и самого типа человека и личности. Функционирование социума и человека в нём ведут к их усложнению (развитию), в результате чего возникают новые ситуации разрыва, витальные катастрофы и возможности. Как мы видим, чтобы объяснить формирование социума и человека, необходимо сочетание двух подходов — «естественного» и «искусственного». При этом социум преимущественно рассматривается как организм, а человек — в плане его деятельности (хотя на другом уровне анализа человек тоже должен быть истолкован как форма жизни — индивидуальная, личностная). Соответственно, и схемы нужно рассматривать, с одной стороны, в плане их социальных функций, с другой — личностных. Характеристики схемВ заключение ещё раз подробно обсудим схемы. Чем схемы отличаются от знаков? Говоря о знаках, мы употребляем два ключевых слова — «обозначение» и «замещение», например, некоторое число как знак обозначает Знаки вводятся в ситуации, когда уже сформировалась некоторая объектная область, но по какой-либо причине человек не может действовать с объектами этой области (например, они разрушились, громоздки и прочее). Замещая эти объекты знаками и действуя с ними, человек получает возможность достигнуть нужного ему результата; при этом частично перестраивается сама деятельность; Схемы тоже означают некоторую предметную область (например, схема души — состояния человека), но эта их функция — не главная, а подчинённая; можно сказать, что она вообще находится на другом иерархическом уровне. Более важны две другие функции: организации деятельности и понимания, выявление новой реальности [16]. Здесь нет исходной объектной области, которая означается. Напротив, создаётся новая объектная и предметная область. До изобретения схемы души никаких душ не существовало. Схема вводится с целью организации новой деятельности, материалом которой выступают различные состояния человека, при этом душа — это не ещё одно интегральное состояние, а новая антропологическая реальность. Другое дело, что схему в силу её означающих возможностей можно использовать и как знак. Например, схему метро можно использовать не для организации нашего поведения в метрополитене, а как знак-модель, чтобы определить, по какому маршруту можно быстрее добраться от А Как о знаке можно говорить о материале схемы. Это может быть Целесообразно также ввести представление о конструкции схемы. Чтение и работа со схемой всегда предполагает её анализ, структурирование, вообще, операции, позволяющие или разложить исходную схему на отдельные элементы или подсхемы, или, наоборот, создать из отдельных элементов более сложные образования. Например, схему метро мы раскладываем на отдельные линии, узлы пересадок, станции и подходы к ним, из которых каждый пользователь конструирует собственные маршруты. Следующая характеристика схемы, безусловно, сущностная: схема — это средство организации деятельности и поведения и связанного с ними понимания. В некотором отношении можно сказать, что как средство организации деятельности и поведения схема выступает как их программа. Не менее важная и другая характеристика схем: они задают определённую реальность. Я имею в виду, что в реальность, заданную в схеме, нужно войти, прожить события, которые она задаёт, знать особенность («логику») этих событий, а по окончании работы со схемой — освободиться от событий этой реальности (читатель сам может разобрать эти моменты на примере схемы метро). Как реальность схема осваивается и часто понимается индивидуально. В познавательной позиции реальность, заданная схемой, обычно категорируется как объект. При этом говорят, что схема описывает его. С точки зрения познания описываемый в схеме объект парадоксален: он существует в двух основных состояниях — виртуальном и актуальном. Например, для архитекторов, работающих с генеральным планом, схема метро описывает реальные транспортные потоки, которые обеспечивает метрополитен. Но когда метро только проектировалось, эта схема задавала виртуальный объект. Для горожанина, собирающегося воспользоваться метро, его будущий маршрут — виртуальный. Но когда поездка уже закончена, на схеме метро можно указать его реальный маршрут; здесь схема метро задаёт актуальный объект, причём частично конституированный на основе данной схемы. Не понимая функций схемы, исследователи, которые сравнивают её с моделями или теориями, постоянно отмечают, что схема, так сказать, схематична, в том смысле, что не тянет ни на модель, ни на теорию объекта. Но она и не должна выполнять эти функции — она может выступить, например, в роли модели лишь побочно с основной своей ролью. Природу схем можно лучше понять, анализируя их генезис. Так, в сфере познания (и, вероятно, в других), действует особый порождающий механизм: в коммуникации исходные схемы требуют своего разъяснения, для чего вводятся новые схемы. Требования понимания и обоснования схем обусловливают необходимость построения группы (пакета) схем, связанных между собой генетическими отношениями. Эти связи можно выявить только в специальной реконструкции. Рассмотрим одну их них. В «Пире» Платона (диалог, как мы помним, формально посвящён прославлению бога любви) мы находим несколько схем, которые я сначала перечислю. Почему перечисленные здесь образования я отношу к схемам? С одной стороны, потому, что они в тексте Платона ниоткуда не выводятся, а напротив, сами являются источниками рассуждений о любви и получения о ней знаний. С другой — потому, что каждое такое образование представляет собой некую целостность в отношении последующих рассуждений о любви. Например, из истории с андрогином Аристофан получает знание о том, что возлюбленным присуще стремление к поиску своей половины. Таким образом, с помощью схем герои диалога (фактически — сам Платон) получают различные знания о любви. Почему Платона не устраивало обычное понимание любви, столь красочно описанное в античной мифологии? Прежде всего, потому, что такая любовь понималась как состояние, вызываемое богами любви, не зависящее от воли и желаний человека. Платон, однако, считал, что одно из главных достоинств философа (как и вообще человека) — как раз сознательное участие в собственной судьбе. Кроме того, обычно любовь понималась как страсть, полностью исключающая разумное поведение. Платон, напротив, призывал человека действовать разумно. Разумное построение жизни по Платону — это работа над собой, направляющая человека в совершенный мир идей, где душа пребывала до рождения человека. Зная Платона, нетрудно предположить, что когда он утвердился в новом понимании любви (любовь — это не страсть, а разумное чувство, оно предполагает совершенствование человека и ведёт его к бессмертию), то стал излагать своё новое видение окружающим его слушателям. Но они ведь ещё не пришли к новому видению любви и поэтому не понимали Платона. Более того, слушатели, скорее всего, возражали Платону, ловя его на противоречиях и указывая различные затруднения (проблемы), возникающие, если принять новое понимание. В ответ на это Платон начинает сложную работу (кстати, вместе со своими оппонентами). С одной стороны, он выстраивает «логическую аргументацию», с другой — чтобы облегчить понимание (точнее, сделать его впервые возможным), изобретает схемы, вводящие слушателей в новую для них реальность. Так, чтобы избежать противоречия в рассуждении, Платон вспоминает о существовании в народной мифологии разных богинь любви и настаивает на принципиальном делении Эрота на два разных типа; а тогда, рассуждая о любви, нельзя качества одной Афродиты (Эрота) переносить на другую (Аристотель потом запрещал перенос знаний из одного рода в другой). Весьма тонко Платон выводит любовь Но разве женщина, не покидающая женской половины и способная только на страсть, в состоянии так любить? — Нет, но высшей формой любви является любовь мужчины к прекрасному юноше. Но ведь однополая любовь осуждается в народе? — Народ заблуждается, именно однополая любовь освещается Афродитой небесной, и так далее. Вновь и вновь слушатели возражали Платону, но с каждым шагом его схемы становились всё понятнее, а аргументация убедительней, пока все собрание не согласилось, что правильное понимание любви именно такое. Но если сравнить это понимание с исходным, оно стало другим, обросло схемами и логической аргументацией. Иначе говоря, новые знания в буквальном смысле вырастают из исходных идей, укрепляются и конкретизируются в лоне коммуникации (непонимания, споров, поисков аргументов и схем, делающих понятными утверждения мыслящего). В заключение изобразим структуру понятия схемы на двух схемах. 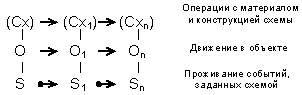 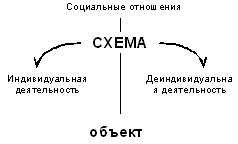 | |
Библиография | |
|---|---|
| |