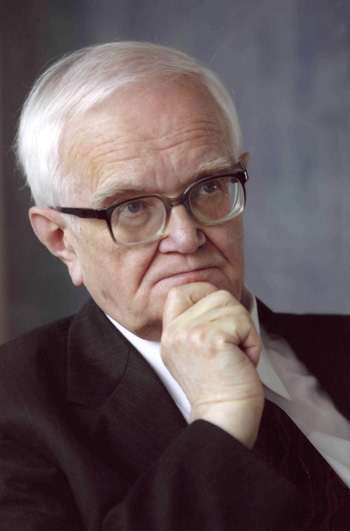 Вячеслав Семёнович Стёпин ( | |
Тема переосмысления философии, сформулированная в качестве девиза XXII международного философского конгресса, предполагает углублённый анализ природы философского знания, его функций в культуре и социальной жизни. Конструктивно-прогностические функции философии выступают здесь ключевым моментом. Концепцию этих функций я развивал с Начну с констатации того факта, что не во всех культурах и цивилизациях возникает потребность в философии. Она не была востребована во многих традиционалистских обществах, которые веками и тысячелетиями воспроизводились на одних и тех же основаниях. Например, в Древнем Египте философии не было. Было мировоззрение, были мифы, но люди обходились без философии. В лучшем случае можно говорить лишь о её зародышевых формах. Но в развитии общества периодически наступают переломы, когда меняются образ жизни, человеческие связи и коммуникации, способы отношения к природе, — тогда философия становится, если угодно, не просто абстрактным теоретическим занятием, а вполне практическим делом. Она нужна для того, чтобы выявить новые основы человеческой жизнедеятельности. Известны характеристики философии, восходящие к Гегелю (которые можно встретить с небольшими модификациями у К. Маркса): философия — живая душа культуры, квинтэссенция культуры, эпоха, высказанная в мысли. В этом подходе философия соотносится с культурой и ставится вопрос о функциях философии в культуре. Культура может быть интерпретирована как сложноорганизованная система надбиологических программ человеческой жизнедеятельности (деятельности, поведения и общения людей). Эти программы представлены многообразием знаний, предписаний, норм, навыков, идеалов, образцов деятельности и поведения, идей, верований, целей, ценностных ориентаций и так далее. В своей совокупности и исторической динамике они образуют накапливаемый и постоянно развивающийся социальный опыт. Надбиологические программы деятельности, поведения и общения фиксируются и транслируются в культуре в форме различных знаковых систем, имеющих смысл и значение. В качестве таких систем могут выступать любые компоненты человеческой деятельности (орудия труда, образцы операций, продукты деятельности, опредмечивающие её цели, сами индивиды, выступающие как носители некоторых социальных норм и образцов поведения и деятельности, естественный язык, различные виды искусственных языков и так далее). Таким образом, наряду с генетическим кодом, который закрепляет и передаёт от поколения к поколению биологические программы, у человека существует ещё одна кодирующая система — социокод, передающий от человека к человеку, от поколения к поколению надбиологические программы, регулирующие социальную жизнь. Этот сложный развивающийся массив регулятивов человеческой жизнедеятельности системно организован, и есть основания, обеспечивающие его системную целостность. Такими основаниями выступают фундаментальные жизненные смыслы и ценности. Их обозначают В своём сцеплении и взаимодействии они образуют целостную картину человеческого жизненного мира, который называется мировоззрением. Мировоззренческие универсалии определяют не только понимание и осмысление мира, его рациональное постижение, но и переживание человеком мира, эмоциональные оценки различных аспектов, состояний и ситуаций человеческой жизни. Смыслы универсалий в этом аспекте предстают как базисные ценности культуры. Человек усваивает их в процессе воспитания и социализации, через образцы поведения и деятельности, через включение в разные виды деятельности, через язык, через транслируемые в культуре знания, которые он приобретает. Часто он не осознает всего содержания этих категорий, хотя и понимает и переживает их. Он имеет о них неявное знание. Если спросить человека, не занимающегося философией, на уровне его обыденного сознания, что такое справедливость, то, опираясь на конкретные примеры, он покажет, что есть справедливые и несправедливые поступки, но не сможет дать обобщающего определения справедливости. Универсалии культуры не локализованы в Мировоззренческие универсалии культуры функционируют как предельно обобщённые программы деятельности, поведения и общения людей. Они являются своеобразными генами социальной жизни, в соответствии с которыми воспроизводится тот или иной тип общества. Для того чтобы радикально изменить общество, надо изменить эти гены. Поэтому духовная революция всегда предшествует революциям политическим. Философия осуществляет рефлексию над фундаментальными мировоззренческими универсалиями культурами. То, что здравому смыслу эпохи представляется само собой разумеющимся, философия проблематизирует и анализирует. Такой анализ необходим не для того, чтобы сохранить прежние основания социальной жизни, а для того, чтобы изменить их и тем самым способствовать социальным переменам. В жизни общества периодически возникают такие состояния, когда оно уже не может ответить на исторические вызовы, сохраняя прежний уклад жизни, когда ранее сложившиеся смыслы универсалий культуры не способны обеспечить сцепление и взаимодействие новых и традиционных видов и способов деятельности, поведения и общения людей. Личный опыт всё большего числа людей уже не согласуется со смыслами «обжитых» универсалий. Эти переломные состояния жизни — первый сигнал того, что Можно выделить два взаимосвязанных этапа порождения философией новых категориальных идей. Эти этапы характеризуют эпоху становления философии, но затем повторяются во всём последующем её развитии. На первом этапе философия стремится выявить в различных сферах культуры общие смыслы мировоззренческих универсалий, базисных ценностей, программирующих деятельность людей. Она выносит их на суд разума, улавливает тенденции их возможных изменений, критически их анализирует и предлагает их новые смыслы. В этом процессе происходит первичная трансформация универсалий культуры в философские категории. Первоначально они могут быть представлены в форме смыслообразов («Логос» Гераклита, «Нус» Анаксагора, «Дао» в китайской философии и так далее). На этом этапе философия имеет много общего с художественным познанием, близка к литературе и искусству. Но затем начинается второй этап философствования, когда происходит дальнейшая рационализация первичных категориальных смыслообразов. Они переплавляются в достаточно строгие понятия. Эти образы упрощаются, схематизируются, становятся своеобразными идеальными объектами, абстракциями, с которыми мышление начинает работать как с особыми сущностями. Философ исследует их свойства так же, как, например, математик изучает числа, фигуры, функции, различные типы геометрических пространств, создаёт Философское исследование, связанное с постановкой теоретических задач и оперированием категориями как особыми теоретическими конструктами, позволяет выйти за рамки универсалий своей культуры и генерировать их новые смыслы. Категории философии и универсалии культуры не тождественны, хотя часто обозначаются одними и теми же терминами. Философское познание способно генерировать новые мировоззренческие смыслы и тем самым вносить мутации в культуру, подготавливая кардинальные изменения социальной жизни. Причём философия осуществляет эту работу не только в эпохи социальных кризисов, а систематически, заготавливая заранее идеи, которые могут понадобиться в будущем. Уже в начальной фазе своей истории философское мышление продемонстрировало способность в процессе постановки и решения теоретических проблем порождать нестандартные категориальные модели, не совпадающие и даже противоречащие стереотипам и архетипам сознания, доминирующим в культуре своего времени. Например, решая проблему части и целого, единого и множественного античная философия прослеживает все логически возможные варианты: мир делится на части до определённого предела (атомистика Левкиппа, Демокрита, Эпикура), мир беспредельно делим (Анаксагор), мир вообще не делится (элеаты). Причём последнее решение явно противоречит стандартным представлениям здравого смысла. Логическое обоснование этой концепции выявляло не только новые, необычные с точки зрения обыденного сознания аспекты категорий части и целого, но и новые аспекты категорий «движение», «пространство», «время» (апории Зенона). Здесь впервые были поставлены проблемы, к которым потом не раз возвращалась научная мысль разных эпох. В частности, парадокс «летящая стрела» заново возник более чем через две тысячи лет после Зенона, в эпоху становления механики, возник как научная проблема: если тело движется под действием силы, то, значит, оно имеет скорость в каждой точке пространства в каждый момент времени. Но скорость — это путь, делённый на время. А если путь стягивается в точку, то он равен нулю. А ноль, делённый на любую величину, даст ноль. Значит, скорость движущегося тела в точке равна нулю, то есть движущееся тело покоится в каждой точке. Решение проблемы и обоснование понятия мгновенной скорости было найдено на путях разработки концепции бесконечно малых и создания дифференциального и интегрального исчисления. Конструктивный проблемный смысл содержался Новые философские идеи включаются в поток культурной трансляции как своего рода дрейфующие гены. Занимаясь профессиональной работой, философ, сознает он это или нет, часто адресует открытые им новые категориальные смыслы будущему. Какому будущему он заранее не знает. Но когда возникают переломные эпохи, эти идеи могут обрести практическую актуальность. Тогда они становятся своеобразным генератором и катализатором соответствующей публицистики, художественной критики, литературных произведений, новых религиозно-нравственных, политических и правовых идей, внедряемых в социальную практику. Так с высот философской абстракции новые категориальные смыслы погружаются в основания культуры. Они обрастают эмоциональным содержанием, переживаются людьми и постепенно погружаются в недра новой культуры, переправляясь в новые мировоззренческие универсалии. Иногда эта роль философских идей в становлении новых социокультурных реалий прослеживается в явном виде. Показательным примером может служить использование идей Д. Локка творцами американской конституции. Эти идеи (права человека, разделение властей и другие) были сформулированы Локком задолго до создания Конституции США. Но чаще идеи и проблемы, сформулированные в философии, конкретизируются и видоизменяются в процессе культурной трансляции, поэтому проследить их философские истоки не всегда просто. Для этого нужен специальный анализ. Процесс трансляции философских идей не просто сохраняет их в первозданном виде, а модифицирует, адаптируя к состояниям новой культурной среды. Ранее выработанные идеи переформулируются в новом философском языке, В работе на двух полюсах — с одной стороны, улавливания смыслов категорий культуры и экспликации намечающихся в культуре точек роста новых ценностей, Философское познание выступает особым самосознанием культуры, которое активно воздействует на её развитие. Генерируя теоретическое ядро нового мировоззрения, философия тем самым вводит новые представления о желательном образе жизни, который предлагает человечеству. Обосновывая эти представления в качестве ценностей, она функционирует как идеология. Но, вместе с тем, она имеет установку на выработку таких категориальных смыслов, которые не являются идеологемами своей эпохи и которые на данном этапе социального развития могут быть оправданы преимущественно внутренним теоретическим развитием философии. В своё время Такого рода исследования Неклассический тип философии меняет стратегию исследования. Как отмечал Ю. Хабермас, классическая философия полагала, что между предметным бытием и познающим разумом нет никакого посредника. Отсюда возникало представление о своеобразном параллелизме бытия и сознания. И в рамках этой парадигмы протекали бесконечные споры идеалистов и материалистов. Но неклассический подход обнаруживает, что между разумом и бытием есть посредник это деятельность и язык. Можно уточнить этот тезис Хабермаса и сказать — виды деятельности и языки культуры. Этот посредник соединяет бытие и разум, включая в себя компоненты обоих полюсов. И тогда то, что увидит философский разум в бытии, определено характером его укоренённости в это бытие. Он не является беспредпосылочным разумом и имеет социокультурную обусловленность. Поэтому невозможно построить абсолютно истинную философскую систему, поскольку каждая такая система даже в своих прогностических компонентах детерминирована особенностями культуры своей эпохи Сегодня человечество переживает такую эпоху, когда ломаются базисные ценности техногенной цивилизации. На наших глазах возникает общество гигантских рисков и обострения глобальных кризисов. Всё отчётливее возникает проблема новой стратегии человеческой жизнедеятельности. Речь идёт о поиске нового типа цивилизационного развития. Бурно протекающий технологический прогресс выдвигает целый ряд новых мировоззренческих проблем, которые ещё предстоит осмыслить. Сегодня очень важно аналитически выявить, создаются ли предпосылки новых ценностей в системе современных цивилизационных перемен. Я вижу в этой аналитической работе одну из главных задач философии. Ей необходимо проследить, где и как в недрах современной техногенной культуры возникают точки роста новых ценностей, отличные от тех, на базе которых более четырёх столетий развивается техногенная цивилизация. Под этим углом зрения я анализировал изменения типа научной рациональности в конце ХХ — начале ХХI века, но подобный анализ необходим по отношению к политическому, правовому сознанию, сфере нравственности, к области искусства, и так далее. Важно, критически осмысливая базисные ценности техногенной культуры, выяснить, как они могут сегодня видоизменяться и каковы предпосылки их трансформации. Новая цивилизация, если она возникает, должна вырастать из современной. А это значит, что предпосылки нового культурно-генетического кода должны формулироваться в недрах современных состояний техногенной культуры. И наше участие, участие философов в процессе поиска новых ценностей — это наша прямая обязанность, наша социальная функция, мы для этого и предназначены. | |