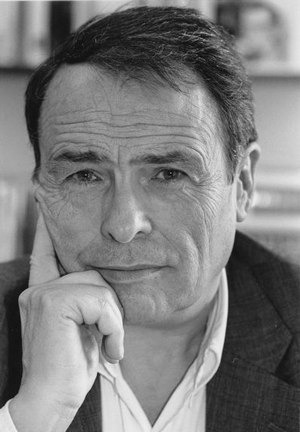 Работа французского социолога Пьера Бурдьё (Pierre Bourdieu; | |
1. Поле как относительно автономный микрокосмосВ чём заключается социальное назначение науки? Возможно ли создание науки о науке, то есть социальной науки научного производства, способной описывать и направлять его социальное использование? Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо вначале напомнить несколько понятий, являющихся условием обоснованного анализа и, в частности, понятие поля, генезис которого мне бы хотелось кратко представить. Все типы культурного производства — философия, история, наука, искусство, литература и тому подобное — являются объектом анализа, претендующего на статус научного. Существует история литературы, история философии, история науки и так далее, и при анализе каждой области возникает одна и та же оппозиция, которую часто считают неизбежной (вероятно, сфера искусства представляет собой одно из тех мест, где эта оппозиция является наиболее сильной), один и тот же антагонизм между двумя способами интерпретации, которые можно назвать интерналистскими, или внутренними, и экстерналистскими, или внешними. В общих чертах можно сказать, что, с одной стороны, существуют те, кто считает, что для понимания литературы или философии достаточно чтения текстов. Для приверженцев такого фетишизма автономного текста, процветавшего во Франции вместе с расцветом семиологии и сегодня снова распространившегося с тем, что называют постмодернизмом, текст является альфой и омегой, и потому для понимания философского текста, юридического кодекса или поэмы, не нужно знать ничего, кроме буквы самого текста. Я немного упрощаю, но не слишком. С другой стороны, традиция, часто представляемая теми, кто, ссылаясь на марксизм, желает свести текст к его контексту и стремится интерпретировать произведения, устанавливая прямое соответствие между ними и социальным или экономическим миром. Существуют различные примеры этой оппозиции и те, кто этим интересуется, могут обратиться к моей книге «Правила искусства» («Les règles de l’art»), где они разбираются более подробно, включая библиографию. Обращаясь к науке, мы вновь находим всё ту же оппозицию в виде традиции истории науки, которая к тому же довольно близка к историко-философскому подходу. Эта традиция очень хорошо представлена во Франции. Она описывает процесс воспроизводства науки как некоторый вид партеногенеза, как самопорождение науки без какого бы то ни было вмешательства со стороны социального мира. Для того чтобы избежать указанной альтернативы, Понятие поля здесь вводится для того, чтобы обозначить это относительно автономное пространство, этот микрокосм, наделённый своими собственными законами. Если, как и макрокосм, он подчинён социальным законам, то они всё же не тождественны. Хотя поле никогда полностью и не избавлено от ограничений макроструктуры, оно располагает более или менее ярко выраженной относительной автономией. И один из главных вопросов, возникающих относительно поля (или субполя) науки — это вопрос об уровне его автономии. В сущности, одним из относительно простых различий между полями научного производства или тем, что называют дисциплинами, которое не всегда легко измерить и Другими словами, необходимо отказаться от альтернативы «чистой науки», полностью свободной от любой социальной необходимости и «науки-служанки», полностью подчинённой политико-экономическим интересам. Поле науки является социальным миром, и, будучи таковым, оно осуществляет принуждения, предъявляет требования и так далее, которые, однако, оказываются относительно автономными по отношению к принуждениям всего социального мира в целом. На самом деле, осуществляемые лишь через посредничество поля, внешние принуждения, какими бы они не были, опосредованы логикой поля. Одно из наиболее очевидных проявлений автономии поля — это его способность к рефракции, то есть способность переводить внешние принуждения и требования в их специфическую форму. Отсюда возникает вопрос, как в конкретном поле трансформируется некоторое внешнее явление, катастрофа, бедствие (чёрная чума, последствия которой искали в живописи, или болезнь «коровье бешенство»). Чем более автономно поле, тем сильнее его способность к рефракции, тем больше изменений претерпевают внешние воздействия, часто до такой степени, что становятся совершенно неузнаваемыми. Таким образом, в качестве главного индикатора уровня автономии поля выступает сила его рефракции и способность к преобразованию. И наоборот, Гетерономия поля в основном проявляется в том, что внешние проблемы, особенно политические, находят в нём своё прямое выражение. Это говорит о том, что «политизация» дисциплины является показателем её слабой автономии, и одна из основных трудностей, с которыми сталкиваются социальные науки в своём стремлении к автономии, состоит в том, что мало компетентные, с точки зрения специфических норм поля, люди имеют возможность вторгаться в него, действуя от имени Гетерономных принципов, вместо того, чтобы быть немедленно дисквалифицированными. Если бы вы сказали современным биологам, что какое-нибудь из их открытий является «левым» или «правым», католическим или некатолическим, вы бы вызвали откровенный смех, хотя так было не всегда. В социологии и сегодня можно говорить вещи подобного рода, как впрочем Каждое поле, к примеру наука, является полем отношения сил и полем борьбы за сохранение или изменение этого соотношения. В первую очередь научное или религиозное пространство можно описать как физический мир, содержащий отношения силы, отношения доминирования. Например, служащие фирмы в экономическом поле создают пространство, которое до некоторой степени существует только посредством агентов, которые там находятся, и объективных отношений между ними. Крупная компания изменяет всё экономическое пространство, придавая ему определённую структуру. В научном поле Эйнштейн, как такая большая фирма, изменил всё пространство вокруг себя. Эта эйнштейновская метафора по поводу Эйнштейна означает, что не существует физика, известного или неизвестного, в Бриоде или в Гарварде, который (вне всяких прямых контактов и вне любого взаимодействия) не был бы затронут, потеснён, отодвинут в сторону вмешательством Эйнштейна, точно так же крупное предприятие, снижающее свои цены, выбрасывает за пределы экономического поля целую группу малых предпринимателей. Отсюда следует — и это важно для последующего практического рассуждения, — что точками зрения, научными выступлениями, выбором мест и тем публикаций, предметов, представляющих интерес и так далее, управляет структура объективных отношений между различными агентами, причём эти отношения, используя ещё раз эйнштейновскую метафору, являются источниками этого поля. Именно структура объективных отношений между агентами определяет то, что они могут или не могут делать. Или, точнее, позиция, занимаемая агентами в этой структуре, определяет или направляет, по крайней мере через отрицание, их выбор. Это означает, что мы действительно понимаем то, что говорит или делает агент включённый в поле (экономист, писатель, художник и так далее), только если мы в состоянии соотнести это с позицией, которую он занимает в этом поле, только если мы знаем «откуда он говорит», как выражались несколько расплывчато в 1968 году. Это предполагает, что мы имели возможность провести и предварительно провели работу, необходимую для конструирования объективных отношений, образующих структуру анализируемого поля, а не просто довольствовались обращением к положению, которое предположительно занимает агент в общем социальном пространстве (то, что марксистская традиция называет классовым положением). В общих чертах эта структура определяется существующим в данный конкретный момент распределением научного капитала. Другими словами, агенты (индивиды или институты), характеризуемые объёмом своего капитала, определяют структуру поля пропорционально своему весу, зависящему от веса всех остальных агентов, то есть всего пространства. И наоборот, каждый агент действует под давлением структуры этого пространства, которое тем сильнее оказывает влияние на агента, чем меньше его относительный вес. Такое структурное принуждение не обязательно принимает форму прямого принуждения, осуществляемого в непосредственном взаимодействии (порядок, «влияние» и так далее). Так же, как в экономическом поле решение доминирующих изменить цены изменяет среду существования всех предприятий, или как в интеллектуальном поле Из этого следует, что агенты действительно производят научные факты и, даже если и частично, — научное поле, однако, вопреки положениям идеалистического конструктивизма, они делают это, исходя из той позиции в поле, которую сами не производят, но которая вносит свой вклад в определение того, что является для них возможным или невозможным. Вопреки иллюзии в духе Макиавелли, к которой склоняются некоторые социологи науки (возможно потому, что приписывают учёным своё собственное «стратегическое», если не сказать циничное, видение научного мира), нужно, в первую очередь, показать, что нет ничего более трудного, и даже невозможного, чем «манипулирование» полем. К тому же следует указыва, что каким бы искусным в «управлении сетью» ни был агент (о чём так беспокоятся те, кто намерен использовать свою «науку» науки, чтобы проводить в жизнь свои теории науки и утверждать власть экспертов в мире науки), его шансы на поддержание сил поля в соответствии со своими желаниями пропорциональны его влиянию на поле, то есть размеру его научного капитала или, точнее, его позиции в структуре распределения капиталов. Это верно за исключением тех чрезвычайно редких случаев, когда благодаря революционному открытию, способному поставить под вопрос основания самого существующего научного порядка, один учёный способен переопределить принципы распределения капитала и сами правила игры. Я указал, что структура поля в некоторый данный момент времени определяется прежде всего структурой распределения научного капитала между различными агентами, включёнными в поле. Хорошо, скажут, но что вы понимаете под капиталом? И вновь я мог бы ответить лишь кратко: каждое поле является местом формирования специфической формы капитала. Как я определил ещё в 1975 году 5 (обращение к датам, то есть приоритет открытия, иногда необходимо, чтобы защитить себя от незаконного присвоения, особенно тогда, когда оно сопровождается деформациями, направленными на то, чтобы это скрыть), научный капитал представляет собой особый вид символического капитала (о котором известно, что он всегда основан на актах узнавания и признавания), состоящий в признании (или доверии), которое даруется группой коллег-конкурентов внутри научного поля (хорошим показателем для этого служит число упоминаний в индексе цитирования, который можно дополнить, как это было мной сделано при исследовании французского университетского поля, такими знаками признания и посвящения, как Нобелевская премия или, применительно к общенациональному уровню, медали CNRS, а также переводы на иностранные языки). Впоследствии я ещё вернусь к различным формам, которые может принимать этот капитал и тем видам власти, которые он дарует своим обладателям. Научные капиталисты, если можно так выразиться, не имеют почти ничего общего, если отвлечься от эффектов структурной гомологии, с капиталистами в обычном смысле этого слова, то есть с теми, кто находится в экономическом поле (и путаница, поскольку она допускает радикализм, является чрезвычайно опасной Каждое поле представляет собой место отношений силы, содержащее в себе имманентные тенденции и объективные вероятности. Оно ориентировано отнюдь не случайным образом. В нём не все в равной мере возможно или невозможно в тот или иной момент времени. К социальным преимуществам тех, кто родился в поле, относится знание, полученное посредством некоего наития, об имманентных законах поля, тех неписаных законах, которые включены в саму реальность в виде тенденций, а кроме того обладание тем, что в регби или на бирже называют чутьём на размещение (sens du placement). Например, как подтверждают многие исследования, стратегии конверсии, осуществляемые учёными и заставляющие их переходить из одной области в другую или от одного предмета к другому, очень неравновероятны для различных агентов и зависят от типов капитала, которыми те располагают и от типов отношения к капиталу, различающихся по способу получения агентами своего капитала. Одним из факторов, определяющих самые явные социальные различия в научных карьерах (и это ещё более очевидно в современном искусстве) является этот дар предвосхищения тенденций, который, как замечают, всюду тесно связан с высоким социальным происхождением и хорошим образованием, и который позволяет завладеть в нужный момент выгодными темами, хорошими местами публикаций (или, в других случаях, выставок) и тому подобным. Это чувство игры есть в первую очередь чувство истории игры и чувство будущего игры. Как хороший игрок в регби знает, где должен упасть мяч и уже находится там, где тот собирается упасть, так и хороший научный игрок — без необходимости рассчитывать и быть циничным — совершает оправдывающий себя выбор. Те, кто родились в игре, обладают привилегией «прирождённости». Им не надо быть циничными, чтобы делать то, что нужно и когда нужно, чтобы «сорвать банк». Итак, существуют объективные структуры, а также и борьба по поводу этих структур. Социальные агенты, конечно, не являются частицами, пассивно направляемыми силами поля, даже если иногда и говорят, что между ними существует большое сходство (хотя если посмотреть на некоторые типы политической эволюции, например, как у многих наших интеллектуалов, то как тут не сказать себе, что металлические опилки действительно направляются силами поля?). Агенты обладают интериоризированными диспозициями не буду здесь подробно рассматривать этот вопрос), которые я называю габитусом, (то есть постоянные, устойчивые во времени способы поведения); он, в частности, может привести к сопротивлению или к противодействию силам поля. Тот, чьи диспозиции сформировались вне данного поля, а потому отличаются от тех, что в нём требуются, рискуют всегда отставать, быть оттеснёнными или неуместными, чувствовать себя не в своей тарелке, оказаться не с той стороны и не Как бы там ни было, поле является объектом борьбы как в плане представлений, так 2. Специфические свойства поля наукиРассмотрев самые общие свойства поля на примерах как поля экономики, литературы, так и поля науки, мне бы хотелось кратко представить специфические характеристики самого поля научного производства. Чем более автономно то или иное научное поле, тем менее оно зависимо от внешних социальных законов. В начале выступления я отказался от той формы редукционизма, что сводит законы функционирования поля к внешним социальным законам, то есть от так называемой ошибки короткого замыкания. Но существует иная форма редукционизма, более тонкая, получившая в социологии науки называние «сильной программы» — это «радикализация», несовместимая с отстаиваемой мной позицией. Она состоит, с одной стороны, в сведении стратегий учёных к социальным стратегиям, которые всегда составляют лишь один из их аспектов, а также к их социальным детерминациям, Другими словами поле, или, точнее, место антиэкономической экономики и регулируемой конкуренции, производит ту специфическую форму illusio, которой является научный интерес, то есть такой интерес, который в сравнении с другими его формами, находящимися в повседневном обращении (и, в частности, в экономическом поле), выглядит как незаинтересованный и бескорыстный. Но при более внимательном рассмотрении можно увидеть, что «чистый» бескорыстный интерес есть интерес к незаинтересованности, форма интереса, которая признается в любой экономике символического производства, этой антиэкономической экономике, где до некоторой степени именно незаинтересованность приносит выгоду (как раз в этом коренится одно из радикальных отличий «научного капиталиста» от просто капиталиста). Из этого следует, что стратегии агентов всегда в некоторой степени неоднозначны, двойственны, являются одновременно заинтересованными и незаинтересованными, поскольку порождены своего рода интересом к незаинтересованности, и что им можно дать два противоположных описания, одинаково ложных, поскольку оба являются односторонними: одно агиографическое и идеализированное, другое — циничное и упрощённое, делающее из «научного капиталиста» такого же капиталиста, как и все остальные. Руководители ведущих американских физических журналов рассказывают, что беспокойные исследователи звонят им днём и ночью, поскольку существует возможность потерять прибыль от двадцатилетнего исследования за пять минут опоздания. Понятно, что в таких условиях далеко до идеализированного видения науки, которое опровергается всем, что известно об истине научного исследования: плагиат, кража идей, борьба за первенство и так далее — множество практик столь же древних, как и сама наука. Учёные корыстны, они желают быть первыми, лучшими, выдающимися. Но парадокс научного поля в том, что оно одновременно производит как эти губительные стремления, так и способы их контроля. Если вы хотите одержать победу над математиком, то должны это сделать математически, посредством доказательства или опровержения. Конечно, всегда существует возможность, что римский солдат отрубит голову математику, но это «категориальная ошибка», как сказали бы философы. Паскаль видел здесь тиранический акт, состоящий в том, что в рамках одной системы используется власть, принадлежащая другой. Но победа, отвечающая внутренним нормам поля, не единственная. То же самое можно сказать и об успехах тех, кто, не имея способностей для достижения признания в соответствии со специфическими нормами литературного поля, делают всё возможное, чтобы быть избранными во Французскую Академию и тратят своё время на газетные статьи или телевизионные выступления. Многие виды мирского (temporel 6) признания применительно к этому «духовному ордену» выполняют такую компенсаторную функцию. Чем более Гетерономно поле, тем более неоднозначны правила борьбы и тем больше возможностей заставить признать в научной борьбе ненаучные аргументы. И наоборот, чем более автономно поле и чем оно ближе к чистой и однозначной конкуренции, тем сильнее проявляется сугубо научная цензура и слабее вмешательство чисто социальных сил (аргументов власти, ограничений карьеры и тому подобных), социальные принуждения принимают форму логических ограничений, и наоборот: чтобы отстоять себя в поле, нужно отстоять свои доводы, чтобы там победить, нужно одержать верх над аргументами, доказательствами и опровержениями. Научная борьба есть вооружённая схватка между соперниками, обладающими оружием тем более мощным и эффективным, чем более значительным является коллективно накопленный внутри поля и при его участии научный капитал (в его инкорпорированном в каждом из агентов состоянии), которые, однако, солидарны в том, что в качестве последнего арбитра взывают к показаниям опыта, то есть к «реальности». Эта «объективная реальность», на которую всё явно или неявно ссылаются, в конечном счёте представляет собой только то, что согласны считать таковой исследователи, включённые в поле в данный момент времени, и проявляет себя лишь посредством представлений, которыми её наделяют те, кто взывает к её суду. То же самое можно сказать Из этого следует, что в поле прежде всего сталкиваются конкурирующие социальные конструкции или представления (включая всё то, что это слово означает применительно к театральному представлению, чьё предназначение в том, чтобы дать увидеть и заставить оценить своё видение), но представления реалистичные, претендующие на обоснованность «реальностью», наделённую всеми средствами, чтобы навязать своё решение с помощью целого арсенала коллективно накопленных и используемых, зависящих от научных дисциплин и цензуры поля методов, инструментов и экспериментальных техник, а также с помощью невидимой силы согласования габитусов. Всё было к лучшему в этом лучшем из возможных научных миров, если бы логика чисто научной конкуренции, основанной исключительно на силе разума и аргументов, не сталкивалась, и даже в некоторых случаях не аннулировалась бы, внешними силами и принуждениями (как это наблюдается в тех науках, которые находятся ещё на полпути к автономии и тех, где всегда можно представить социальную цензуру как цензуру научную и облачить в одежды научных аргументов злоупотребления специфической социальной властью, такой, например, как административная власть или власть распределения должностей, получаемая благодаря участию в разных конкурсных комиссиях). В действительности, миру науки, так же, как и экономическому миру, известны отношения силы, явления концентрации капитала и власти, или даже монополии, социальные отношения доминирования, включающие господство над средствами производства и воспроизводства; ему так же знакома борьба, где в качестве одной из ставок выступает власть над специфическими средствами производства и воспроизводства, действующими в той или иной области. И если он является именно таким, то помимо прочего потому, что эта антиэкономическая экономика чисто научного порядка (к этому пункту я ещё вернусь) остаётся укоренённой в обычной экономике Научная активность предполагает экономические издержки, и уровень автономии науки частично зависит от того, в какой степени она нуждается в экономических ресурсах чтобы состояться (с этой точки зрения, математики находятся в лучшем положении, чем физики или даже биологи). Но к тому же уровень автономии особенно зависит от того, в какой степени научное поле защищено от вторжений (в частности, с помощью более или менее высокой платы за вход, которую оно требует от новичков, и которая зависит от коллективно накопленного научного капитала), 3. Два аспекта научного капиталаИз этого следует, что научное поле представляет собой место, где существуют две формы власти, соответствующие двум аспектам научного капитала. С одной стороны, власть, которую можно назвать светской или политической: это власть институциональная и институционализированная, которая связана с занятием важных позиций в научных институтах, руководством лабораториями или факультетами, участием в комитетах, экзаменационных комиссиях и так далее, а также власть над средствами производства (контракты, кредиты, посты) и воспроизводства (власть назначать на должности и продвигать по карьере), которую дают им высокие посты. С другой стороны, — специфическая власть или индивидуальный «престиж», более или менее — в зависимости от поля и институтов — автономный от первой формы власти и почти исключительно основанный на слабо объективированном и институционализированном признании группой равных или какой-либо частью наиболее посвящённых среди них (учёными «невидимых колледжей», объединёнными взаимным признанием). Исходя из того, что научное нововведение сопровождается социальным разрывом с действующими в данный момент предпосылками (всегда соотносимыми с первенством и привилегиями), «чистый» научный капитал, даже соответствующий тому идеальному образу, который желателен в поле и форму которого оно стремится принять, оказывается, по крайней мере на стадии его начального накопления, более подвержен опровержению и критике, controversial 7 как говорят англосаксы, чем институционализированный научный капитал: создатели новых направлений в той или иной области (например, в социальных науках Бродель, Леви-Стросс, Дюмезиль) были заклеймены как еретики и подвергались резким нападкам со стороны институтов. Два аспекта научного капитала имеют разные законы своего накопления: «чистый» научный капитал приобретается главным образом признанным вкладом в прогресс науки, то есть изобретениями или открытиями (наилучшим показателем в данном случае являются публикации, особенно, в наиболее селективных и престижных печатных органах, способных наподобие банков символического кредита наделять социальным авторитетом); а институциональный научный капитал в основном приобретается посредством политических (специфических) стратегий, общей характеристикой которых является расход времени (участие в комиссиях, жюри диссертаций и конкурсов, семинарах, более или менее фиктивных с научной точки зрения, церемониях, собраниях и тому подобном). Трудно сказать, является ли накопление институционального научного капитала основой (как бы компенсацией), как это обычно открыто заявляют его обладатели, или результатом хотя бы малейшего успеха в накоплении наиболее специфичной и наиболее легитимной формы научного капитала. Различаясь по трудностям практического накопления, эти два аспекта научного капитала имеют также разные способы трансляции. Слабо объективированный «чистый» научный капитал, обладающий некоторой неясностью и остающийся относительно неопределённым, всегда содержит нечто харизматическое (в обыденном восприятии он связан с личностью, с её индивидуальными «дарованиями» и не может являться предметом «приказа о назначении на должность»); в связи с этим, на практике его трансляция представляет собой большую трудность (даже если, в отличие от пророка, модельера или поэта, крупный исследователь способен передать наиболее формализованную часть своей научной компетенции, правда, лишь в ходе длительного и медленного обучения или, лучше, сотрудничества, которое требует много времени; и даже если он может, как любой обладатель символического капитала, «освящать» исследователей, обученных им или И наоборот, научный институционализированный капитал имеет почти те же правила трансляции, что и любой другой вид бюрократического капитала: даже если в некоторых случаях он должен принимать вид «отбора» по примеру «чистого» научного капитала, особенно на основе конкурсов, которые на самом деле могут быть очень схожими с конкурсами бюрократического приёма на работу, где определение должностного места некоторым образом подогнано под претендента (Без сомнений, именно в процессе отбора, направленного на сохранение корпуса исследователей, конфликт между этими двумя принципами становится наиболее заметным: держатели институционализированного научного капитала стремятся организовать процедуры — например, конкурсы — в соответствии с логикой бюрократического назначения, в то время как обладатели «чистого» научного капитала стремятся следовать «харизматической» логике «первооткрывателя»). Очень хорошая статья Терри Шинна 8, которая, благодаря строгому анализу, тщательному наблюдению и обоснованному (но не претенциозному) теоретизированию, противоречит современным тенденциям социологии науки, одновременно популистским и циничным, показывает, как в некоторых случаях эти два вида научного капитала и две формы власти могут сосуществовать в недрах одной лаборатории ко всеобщей пользе коллективного предприятия. С одной стороны, директор лаборатории, хорошо информированный о состоянии исследований в данной области, благодаря частому посещению комитетов и комиссий в некоторой мере воплощает «нормальную науку» и производит обобщения, Как я отметил, в силу практических причин, накопление двух видов капитала является крайне сложным. И можно характеризовать исследователей по той позиции, которую они занимают в этой структуре, то есть на основе структуры их научного капитала или точнее, по соотношению весов «чистого» и «институционального» капитала: на одном полюсе находятся обладатели большого объёма специфического капитала и небольшого объёма политического, а на другом, — обладатели большого объёма политического капитала и небольшого научного (в особенности научные администраторы). Если и оказывается, что накопление большого кредита научного доверия (в группе равных) благоприятствует, в конце концов и чаще всего на склоне лет (то есть когда уже слишком поздно), получению экономического и политического признания (со стороны административных, политических и других властей), то конверсия политического (специфического) капитала в научную власть является (к сожалению!) более лёгкой и быстрой, особенно для тех, кто занимает средние позиции в обеих иерархиях (научного престижа и административной власти) и кто, посредством влияния, которое они способны распространять на производство и воспроизводство (участие в Национальном совете университетов, комитетах CNRS, конкурсных и аттестационных комиссиях и так далее), способен поддерживать незыблемый порядок и отвергать нововведения (особенно в пользу сложных альянсов, посредством которых профсоюзные делегаты — часто обречённые быть административными работниками — способны оказывать поддержку своим руководителям, более других приверженным установленному научному порядку). Символические отношения власти, существующие внутри поля науки, не обладают той отчётливостью, какую им может дать научный анализ, связанный с количественным определением характеристик, вплоть до самых трудноопределяемых, таких, как международное признание. Институциональная научная власть, благодаря господству, которое она обеспечивает над инстанциями и инструментами освящения, академиями, словарями, премиями или списками награждённых по крайней мере, национальными), а также господству над позициями в университетах Ещё одним фактором, вносящим путаницу, по крайней мере в глазах «молодёжи», которая в значительной мере способствует производству символического капитала (этого своего рода способа «быть-замеченным», percipi, зависящего от восприятия и оценки агентов, включённых в поле), является тот факт, что научное влияние в конце концов может обеспечить себе некоторый вид политического (слово, всегда употребляемое в специфическом смысле) капитала светского признания, который, в некоторых обстоятельствах, может быть разочаровывающим или даже дискредитирующим фактором (одна из проблем новаторов, достигающих признания, особенно в литературе, как сохранить престиж, полученный от еретического разрыва, от авангарда). Следовало бы проанализировать, каковы последствия такой двойственности власти для функционирования научного поля. Было ли бы оно более научно эффективным, если наиболее авторитетные исследователи одновременно обладали бы наибольшей властью? И если предположить, что в таком случае поле будет наиболее эффективным, то значит ли это с необходимостью, что оно будет более жизнеспособным? Казалось бы, все (или почти все) находят свою выгоду в таком разделении властей Бесспорно, чем более ограниченной и неполной будет приобретённая полем автономия, чем более явно в ней будут обозначены разрывы между временной, или административной (temporel), и специфической иерархией, тем в большей мере временная власть, часто выступающая посредником внешних властей, сможет вмешиваться в специфическую борьбу, главным образом, посредством господства над постами, субсидиями, контрактами и другими институциональными ресурсами, позволяющими мелкой олигархии освобождённых работников комиссий поддерживать свою клиентелу. В связи с тем, что для своего развития научные дисциплины в разной мере нуждаются в экономических ресурсах, некоторые исследователи, ставшие администраторами от науки (более или менее прямо связанными с исследованиями), способны, благодаря контролю над этими ресурсами, обеспеченного их социальным капиталом, осуществлять над исследованием практически тираническую (в смысле Паскаля) власть, поскольку последняя основана на принципе, не релевантном специфической логике поля. В силу того, что автономия научных дисциплин по отношению к внешней власти никогда на бывает полной, а сами они представляют собой место сосуществования двух принципов доминирования, политического и специфически научного, то все эти универсумы характеризуются структурной неопределённостью: интеллектуальные конфликты в некотором смысле всегда являются и конфликтами власти. Любая стратегия учёного содержит одновременно как политическое (специфическое), так и научное измерение, и социологическое объяснение всегда должно включать эти два аспекта. Однако их относительный вес сильно меняется в зависимости от поля и от позиции в нём: чем более неоднородно поле, тем более велик разрыв между структурой распределения в поле неспецифической (политической) власти и структурой распределения специфической научной власти (признания, научного престижа и тому подобного). Существуют пространства, где эти две структуры даже перевёрнуты: распределение университетских преподавателей литературы и гуманитарных наук в пространстве французского университетского поля таково, что чем ближе они к полюсу власти, тем меньшим научным авторитетом обладают (основой измерения служили такие показатели как место в индексе цитирования, число переводов и целый ряд других индикаторов): с одной стороны расположены наиболее влиятельные индивиды, особенно, с точки зрения контроля за воспроизводством профессионального корпуса (те, кто заседают в CNU 9, в больших конкурсных жюри, и так далее), а также сохранения парадигмы и ортодоксии; с другой — агенты, обладающие авторитетом, известностью, признанием, особенно, международным, но не обладающие большой институциональной властью. Это несоответствие является источником целого комплекса последствий. Оно позволяет тем, кто потерпел неудачу, рассказывать о себе истории, например, объяснять свою слабую интеллектуальную позицию своим плохим положением во властном порядке или изображать обладателей научного престижа так, как будто речь идёт об обладателях политической власти. Кроме того, это несоответствие выступает механизмом, который позволяет обладателям светской власти (dominants temporels) — в противоположность обладателям духовной власти (dominants spirituels) — играть на неопределённости структуры, представляя свои стратегии, направленные на воспроизводство своей собственной позиции как стратегии, направленные на развитие науки. Это означает, содействие прогрессу научности с необходимостью предполагает содействие прогрессу автономии этого пространства и, конкретнее, практическим условиям автономии, посредством установления препятствий на входе, запретом на введение и использование неспецифического оружия, поощрением установленных форм соперничества, подчиняющихся только ограничениям логической непротиворечивости и экспериментальной проверки. 4. Пространство точек зренияСреди способов социального применения науки существует один, о котором на самом деле почти всегда забывают, но который от этого не становится наименее важным: он состоит в том, чтобы поставить науку и, особенно, науку о науке на службу самой науке, на службу её прогрессу. Может ли представленный мной чисто описательный анализ привести к принятию какой-либо предписываемой точки зрения? Одно из достоинств теории поля состоит в том, что она позволяет разорвать как с первичным знанием, всегда частичным и пристрастным (каждый видит поле с определённой долей точности, но с той позиции в поле, которую он не видит), так Чтобы пояснить сказанное, я обычно привожу два примера критического анализа интеллектуалов, относящиеся к концу Но по ту сторону разделяющей их радикальной оппозиции, и тех и других объединяло то, что они выдавали за строго объективное знание о предмете лишь свою частную точку зрения. Весьма прозорливые по отношению к точке зрения своих конкурентов (тем типом заинтересованной прозорливости, которая подсказана конкуренцией и воспринимается как соперничество или враждебность), они оставались слепы к самим себе и, особенно, к той позиции, с которой они понимали своих конкурентов, то есть к тому факту, что в одном и том же поле они занимали антагонистические позиции, обосновывающие как их проницательность, так и слепоту. Научный анализ поля, например исследовательских институтов, факультетов университетов, CNRS, INSEE, INSERM и так далее, внутри которого INRA занимает определённую позицию, или самого INRA, также функционирующего как относительно автономное субполе, организованного вокруг своих собственных оппозиций, с первого взгляда может показаться очень схожим с представлениями, производимыми агентами, особенно для целей полемики со своими конкурентами. И тем не менее различие радикально: на самом деле, частичным и заинтересованным объективациям агентов, ангажированным в поле, противопоставляется объективация всего поля как ансамбля точек зрения (в двух смыслах: как взглядов, усваиваемых, исходя из определённой точки поля, и как совокупности позиций поля, с которых принимаются эти заинтересованные взгляды). Такая объективация предполагает установление дистанции по отношению к каждой из частных точек зрения, по отношению к каждой, обычно критикуемой, позиции. Установление объективирующей дистанции (которое применимо Мы видим, что независимо от любого нравоучительного намерения, точка зрения, объективирующая другие точки зрения и определяющая их как таковые, которая часто несправедливо описывается как редуцирующая маркировка, подразумевает замену понимающего и снисходительного видения позиций и точек зрения — в соответствии с формулой «понять значит простить» — полемичным, частичным и пристрастным видением самих агентов, которое само по себе является ошибочным, даже если то, что оно открывает, раскрывает или разоблачает, содержит часть истины. Таким образом, объективация вносит посильный вклад как в дело взаимного понимания тех, кто занимает разные позиции в поле, так К тому же, вместо того, чтобы вести к релятивизму, как можно было бы подумать (и как часто хотят заставить думать), который устанавливает ничью между соперниками в борьбе за истину, конструирование поля позволяет установить истину различных позиций (positions) и границы валидности различных точек зрения (prises de position), которых, как я указал, неявным образом придерживаются участники борьбы, с целью мобилизовать наиболее мощные инструменты доказательства или опровержения, предоставляемые им коллективным опытом их собственной науки. Оно также позволяет разорвать с научными полуобъективациями или полунаучными объективациями, которые лишь по своим притязаниям отличаются от представлений, произведённых социальными агентами в повседневной жизни и основанных на имеющемся у них заинтересованном знании (а иногда, на весьма полной информации) о своих конкурентах. Поэтому при анализе структуры и функционирования INRA, который я мог бы очертить, я ограничусь осторожными предположениями, предоставляя вам возможность продолжить и завершить их, следуя намеченному плану, понимая, что необходима огромная информация, предварительно собранная в ходе исследования, которой вы обладаете друг о друге, одни о других, в частности, о профсоюзной и политической принадлежности, о привязанностях и так далее — что постоянно используется «стихийной социологией», часто довольно близкой, с точностью до рефлексивности, к научному анализу. Анализ, основанный на понимании игры как таковой, разрывает с играми (или двойными играми) на антагонистических представлениях, показывая, что они разоблачают не только тех, кто их производит (и их позицию в поле), но и тех, к кому они относятся и их позицию. Эти заинтересованные и частичные социальные представления, переживаемые и презентируемые как объективные и универсальные (особенно внутри научного универсума, где в силу профессии агенты располагают мощными инструментами универсализации), в действительности являются орудием внутренней борьбы. Так, например, риторика «социальных потребностей», особенно навязываемая в научных институтах, официально признающих социальные функции науки, руководствуется скорее не реальной заботой об удовлетворении потребностей и ожиданий той или иной категории «клиентов» (крупных или мелких земледельцев, продовольственной промышленности, сельскохозяйственных организаций, министерств и так далее) или даже о том, чтобы получить таким образом себе поддержку, а стремлением обеспечить себе относительно бесспорную легитимность и одновременно увеличить символическую власть во внутренней конкурентной борьбе за монополию легитимного определения научной практики (с этой точки зрения можно было бы последовательно проанализировать ряд постановлений по состоянию и развитию земледелия и сельского хозяйства 1982 года 10, устанавливая соответствие между точками зрения и позициями). Одним словом, не стоит ждать от социологического анализа крайних откровений. Особенно в таком институте, который, как INRA, занимает доминируемую позицию (в отношении научного престижа) среди других исследовательских институтов и неустойчивое положение между прикладным и фундаментальным исследованием, и который по этой причине оказывается вдвойне предрасположенным к беспокойству и тревоге, способствующим едкой, а иногда даже немного патологической и саморазрушительной прозорливости. Достоинство подобного социологического анализа, изменяющего, в некотором смысле, все, состоит прежде всего в том, что он даёт систематическое видение точек зрения, производимых агентами в поле, что необходимо для их практической борьбы. Несмотря на производимое впечатление (как в случае с обращением к «социальным потребностям», чтобы их «универсализовать»), эти точки зрения имеют своим основанием свойства позиции внутри самого поля и, поставленные таким образом на ноги, радикально меняют свой смысл и функции. 5. Частный случай INRAИтак, как же не замечать, что все двусмысленности и неопределённости, свойственные в разной мере любому, даже самому «чистому» полю, поскольку в них вынуждено сосуществуют как внутренние и специфические, так и внешние и исключительно социальные принципы доминирования и иерархии, в случае такого института как INRA, характеризуемого в высшей степени структурной и функциональной неопределённостью, могут быть только закреплены? И что все упомянутые мной двойные игры между престижем и властью, научными и обслуживающими функциями, которые позволяют избежать требований науки во имя требований общественной пользы (как впрочем Конкретно это означает, что если все научные институты без особого трепета могут и должны принимать как есть неприкладные исследования, примеры которых они неизбежно представляют (Дьедонне По этому поводу я вынужден высказать своё несогласие с подходом, представленным здесь Бруно Латуром 11. Такое понятие как «RANA» 12 неприкладное прикладное исследование — лишь придаёт марку научности наиболее циничным и наиболее безнадёжным (что часто одно и то же) прозрениям доксического самоанализа, который довольно успешно выражается формулой, произведённой коллективной рефлексией мая шестьдесят восьмого года: «Исследователь, который Итак, INRA функционирует как поле. И разрыв, как между агентами, так и между отделами, организованными в соответствии с иерархией, которую в очередной раз нелегко определить, поскольку она определяется как административными (или политическими), так и сугубо научными критериями (что не является исключением и наблюдается очень часто в других научных институтах), здесь особенно велик Этот разрыв настолько велик, что некоторые, даже сотрудники института, могли бы себя спросить, а существует ли, помимо видимости и общей зависимости от Министерства сельского хозяйства и Министерства научных исследований (которые сами разделены и иногда находятся в оппозиции), ещё какой-нибудь объединяющий принцип, помимо отсылки, для некоторых совершенно формальной, к общему конкретному объекту исследования — сельскому хозяйству. Действительно, если обратиться к крайним позициям и пренебречь всем остальным распределением агентов, которые в разных пропорциях объединяют в себе характеристики крайних полюсов, и особенно, если забыть, что многие исследования, называемые «фундаментальными», являются менее «чистыми», чем они кажутся, а также что многие, так называемые «целевые» исследования могут вносить значительный вклад в фундаментальную науку, то можно противопоставить несовместимые и взаимоисключающие категории (чьи эквиваленты можно найти Такое социально сконструированное видение делений без труда находит себе пищу в стереотипах, подтверждающихся особенно в конфликтные и кризисные периоды: «чистые» исследователи хорошо видят, что ценой социального признания и «политического» веса (в очень широком смысле), получаемым «прикладниками» от потребителей, фермеров, членов профессиональных и профсоюзных кооперативов и ассоциаций, промышленников, а также от политических властей, о чём свидетельствуют их частое участие во властных структурах, — довольно часто являются отказ или отречение от научности, а главное — от автономии. Интерес, проявляемый индивидами и внешними инстанциями к исследованию Что касается «прикладников», то их позиция позволяет им увидеть, что законное снисхождение, которое проявляют к ним некоторые так называемые «чистые» исследователи, часто прикрывает беспокойство или неудовлетворённость типом исследования, не находящим признания ни со стороны науки, ни со стороны практики (и происходит даже так, что, опираясь на социальное удовлетворение и признание их деятельности, «прикладники» лучше видят компенсирующие функции, которые выполняет более или менее подчёркнутая политическая ангажированность «чистых» исследователей, вынужденных мириться с отсутствием социального одобрения их научной деятельности, не получающей к тому же действительного научного признания). Относительная сила двух позиций меняется. С одной стороны, она зависит от развития науки (например, от появления таких новых дисциплин как молекулярная генетика), с другой стороны, она довольно явно зависит от политической конъюнктуры и неявно — от экономической и социальной конъюнктуры, а также от доминирующей в руководящих кругах и внутри института проблематики: некоторые из наиболее характерных изменений научной политики руководства, как например, отступление от целевой миссии INRA и желание трансформировать институт в орган перспективных исследований, конкурентоспособный на международном уровне, совпали с кризисом легитимности производительного сельского хозяйства без установления причинно-следственной связи) — тезис, поддерживаемый аграрной политикой, в которую INRA внёс значительный вклад. Именно эти две группы факторов изменяют как смысл, который приписывается общим категориям, маркирующим позиции в наиболее важных дискуссиях (подобных тем, что сегодня порождают споры между требованиями роста производительности и заботой о сохранении национальных традиций), так и отношения символической власти между, например, сторонниками производительности и защитниками национального наследия, чьи интересы связаны с различными состояниями не только экономического и социального мира, но и самого пространства института. Скрытое недовольство, так сильно ощущаемое сегодня в INRA, возможно объясняется тем фактом, что этот институт потерял (или теряет) безусловное признание, которое давал ему аграрный сектор (как со стороны профсоюзных организаций, так и со стороны самих фермеров, этих восторженных получателей в сущности популистского дискурса), не получив в полной мере международного научного признания, которое, начиная с 6. Преодоление иллюзий и ложных антиномийНе буду углубляться в эти предположения, поскольку их невозможно проверить ввиду нехватки у меня информации, в частности, о социальном происхождении исследователей и их дальнейшем продвижении. Однако не вызывает сомнений, что декларируемые оппозиции скрывают то, что смог бы показать систематический социологический анализ, а именно: полемичные и частичные взгляды, вырабатываемые каждым из двух «лагерей» в свою защиту, упускают из виду не только общие характеристики и интересы, но и обоснования их деятельности, не связанной исключительно с одной из двух функций, официально закрепленых за институтом. Достаточно занять объективирующую точку зрения, которую предполагает социологическое конструирование пространства INRA как поля, чтобы увидеть, что специфику этого института и основу разрывающих его противоречий, составляет не что иное, как двойное определение функций, приписываемых исследованию и заставляющих объединять в рамках одной организации два момента любого научного производства, обычно разделённых (например, в области фармацевтических исследований), а именно: момент изобретения и момент инновации, в значении, которое приписывает этому слову экономическая традиция, то есть трансформации научных изобретений в нововведения, производящие новые товары и новые доходы в экономической сфере. Известно, что одна из проблем, которую необходимо решить, чтобы перейти от изобретения к инновации, и над которой размышляют многие аналитики, — взаимодействие между полем науки и полем экономики, где ставки и цели абсолютно различны, где агенты придерживаются совершенно разных, даже противоположных, философий существования, порождающих глубинные различия: с одной стороны, логика специфической внутренней борьбы поля, с другой — стремление к прибыли, рентабельности, которое выводит на первое место проблему screening 13 — выявления изобретений, способных стать инновациями (как найти интересные открытия и изобретателей и, прежде всего, как получить об этом информацию), что, в свою очередь, отсылает к проблеме go between 14 — поиску посредников, способных распространять информацию и обеспечивать связь. Несомненной особенностью INRA является то, что он объединяет два типа специалистов и две логики, научную и экономическую, в одном и том же социальном пространстве, а точнее, в одном государственном институте, (и возможно именно с этого утверждения нужно было бы начать, чтобы подвергнуть критике позицию тех, кто, выступая за внедрение результатов исследований, иногда доходит до желания осуществить своего рода скрытую или явную приватизацию института). Это означает, что обе функции, изобретения и инновации, научного исследования и поиска возможностей практического применения и производства, возлагаются на инстанции, принадлежащие к одному институту, но что самое главное, подчиняющиеся одной и той же логике — логике государственных институтов, свободных от прямого давления рынка. Одно из серьёзных противоречий научного поля состоит в том, что своей автономией оно во многом обязано факту финансовой поддержки со стороны государства, а значит, — включённостью в специфические отношения зависимости от той инстанции, которая способна поддержать или сделать возможным производство, свободное от прямого давления рынка (совершенно очевидны соответствия с некоторыми случаями культурного производства, такими, как музыка или авангардная живопись). Эта зависимость в независимости (или наоборот) имеет некоторую двойственность, поскольку государство, обеспечивающее минимальные условия автономии, также способно навязывать ограничения, основанные на внешней логике, и стать выразителем или посредником экономического принуждения, от которого оно считается избавленным. Здесь мы находим ещё одну ложную антиномию, которую анализ способен легко развенчать: можно выработать стратегию использования государства, чтобы освободить себя от влияния государства, чтобы бороться против принуждений, которые оно осуществляет; можно извлечь пользу из автономии, которую даёт государство (например, пожизненные штатные должности, tenures 15, как говорят англосаксы), чтобы утвердить свою независимость по отношению к государству. Кстати, в реальности само государство не обладает тем единством, которое подразумевается понятием аппарата: различные министерства, органы одного и того же министерства или группы разделены всевозможными противоречиями, которые можно легко использовать, особенно в области научных исследований, где они не имеют ни сходных целей, ни одних и тех же органов по отбору проектов и оценке результатов. Первый действительно научный акт социальной науки будет состоять в том, чтобы взять в качестве объекта анализа социальное конструирование объектов исследования, которые предлагаются социологии государственными институтами, сегодня, например, — это преступность, «пригороды», наркотики и тому подобное, и сопутствующие им категории анализа, некритично используемые такими крупными государственными исследовательскими институтами, как INSEE, CREDOC 16, не говоря уже об институтах общественного мнения, которые я определил как науку без учёного. Но вопрос автономии не абсолютно чужд той позиции в пространстве INRA, что ответственна главным образом за инновацию и имеет к тому же возможность отстаивать и утверждать свою независимость, как по отношению к государству, так и по отношению к экономическим и социальным силам (можно сослаться на примеры из прошлого INRA о независимости, которую ему предоставляло государство и государственное финансирование в противовес контрактам, несущим в себе угрозу Гетерономии), с тем, чтобы самостоятельно определять цели своего исследования, давать собственную формулировку общего интереса, который не сможет сформулировать или профинансировать ни одно частное предприятие, например, в области повышения производительности сельскохозяйственных предприятий или защиты природных ресурсов. Я не уверен, что руководители института, занятые, как всегда, попытками уменьшить угрозу разрыва между «прикладниками» и «исследователями» на основе примиряющей идеологии (здесь можно говорить о «фундаментальном исследовании») Вместо вербального и неэффективного экуменизма, всех благих рассуждений по поводу «социального заказа», их требований и угроз, нужно бы провести обстоятельный анализ контрактов, направленный не на определение принципиальных позиций «за» или «против» контрактов, обычно абстрактных и общих, а на выработку практических принципов управления этими контрактами (я думаю о принципе, состоящем в том, чтобы браться за исследование только проблем, лежащих в русле проблематики группы исследователей, который, как показывает опыт, совсем не столь очевиден, или же о правиле, которое я старался использовать в своей исследовательской группе, а именно, заключать контракты только на исследование уже исследованных проблем или, точнее, «продавать» уже выполненные исследования, с тем, чтобы финансировать текущие или проектируемые работы, определённые в соответствии с логикой научного исследования, а не внешнего запроса). Эти проблемы для так называемых прикладных и фундаментальных исследований, несмотря на все разделяющие их различия, являются общими, и они могут попытаться найти общие для них решения. Столкновение антагонистических точек зрения, противопоставляющих автономию так называемых «чистых» исследователей Гетерономии «прикладных» исследователей, лишает возможности увидеть, что в реальности происходит столкновение двух относительно автономных форм исследования, одна из которых более ориентирована, по крайней мере, в своей интенции, на научное открытие и имеет отношение (с грехом пополам) к логике научного поля, в то время как другая больше ориентирована на инновацию, но также совершенно независима, как к лучшему, так Очевидно, что эта двойственность функций даёт некоторым возможность играть на двух полях и, сознательно или бессознательно, ссылаться на требования практического применения, чтобы избежать требований научного открытия и наоборот, ссылаться на требования научного открытия, чтобы избежать требований практического применения. Разоблачение подобных «провалов» составляет необъемлемую часть уловок, к которым охотно прибегают полусоциологи, немедленно одобряемые администраторами, полагающимися на их ложные пессимистичные выводы, чтобы придать авторитет своему нормативному или репрессивному вмешательству. Более сложным, правильным и необходимым является понимание несомненно довольно загадочной логики этого института, который объединяет в себе две концепции автономии, две концепции исследования и две концепции открытия (как такового изобретения и инновации), которые, обладая большими различиями, всё же основаны на одном и том же экономическом фундаменте, а именно, на относительной свободе от прямого экономического принуждения, обеспечиваемой поддержкой со стороны государства, и являются вполне совместимыми и даже взаимно дополнительными. 7. Несколько нормативных предложенийЕсли бы я мог позволить себе дать рекомендации, которых меня никто не просил, то сказал бы, что сотрудникам INRA — вместо того, чтобы тратить столько энергии на междоусобные войны, результатом которых является лишь развитие извращённого, бесплодного, ожесточающего здравомыслия (одновременно всеобъемлющего и бессодержательного в силу своей частичности, предназначенного оправдать более глубокую форму заблуждения), — нужно объединить свои усилия, чтобы развивать и культивировать то, что составляет их специфику, то есть двойственность функций исследования. Вместо того, чтобы противостоять как автономные и гетерономные, так называемые фундаментальные и прикладные исследования — которые к тому же никогда не являются столь фундаментальными, чтобы не иметь хоть какого-нибудь практического применения, и никогда столь узко прикладными, чтобы не оказаться полезными для какого-либо научного исследования в качестве некоторого основания или следствия — имеют то общее, что являются в равной мере автономными и вписанными в универсалистскую логику государственного института, предназначенного для служить обществу и радеть об общественной пользе. Политика, направленная на развитие потенциальных конкурентоспособных свойств института или, что в принципе одно и то же, на социальное обоснование его существования (а также на удовлетворённость его сотрудников, которая сильно зависит от чувства социальной оправданности или общественного смысла) должен одновременно работать на то, чтобы, не входя в противоречия, акцентировать как дифференциацию функций и структур, их обслуживающих (чтобы, к тому же, затруднить сознательную или бессознательную двойную игру), так и интеграцию различных агентов и институтов в общий коллективный проект посредством систематической организации обмена информацией (общие семинары, исследовательские проекты, включающие изобретательские и инновационные аспекты, а значит, и соответствующие кафедры и их исследователей, и так далее). Само собой разумеется: чтобы быть действительной движущей силой интеграции разделения научного труда (интеграции, взятой в понятном и всеми явным образом принимаемом значении этого слова, то есть научно эффективной и политически демократичной), сознательное усиление дифференциации функций (предполагающее, конечно, сокращение или ослабление некоторого числа групп или кафедр, живущих и сохраняющихся благодаря двусмысленности функций) подразумевает глубокую перестройку иерархии этих функций, которая должна быть осуществлена всеми средствами и прежде всего в умах (что не самое лёгкое дело). Подобного рода «деиерархизация» является одним из условий конструирования действительно общих целей, наиболее важной из которых, наверное, могла бы стать организация коллективной борьбы в защиту автономии (пример которой я дал относительно политики контрактов). Такая борьба, очевидно, предполагала бы — для преодоления дезинтеграционных факторов — формирование своего рода патриотизма или «дела чести института», то есть формирование солидарности в конкуренции между всеми исследователями (изобретателями и инноваторами, вместе взятыми), чьи суждения, как неформальные (репутация, престиж, и так далее) — смутные, неоформленные Становится понятно, что я считаю настоятельно необходимым усиление коллективной способности к сопротивлению, которую исследователи должны быть способными противопоставить, несмотря на конкуренцию и конфликты, их разделяющие, более или менее тираническому вмешательству научных администраторов и их союзников в мире исследователей (и услужливой социологии, спешащей создать в себе потребность, предлагая «бесспорные» критерии, способные обосновать решения просвещённого деспотизма). Допустим, что научная бюрократия учла бы предлагаемые мной цели, то есть необходимость одновременного усиления дифференциации и интеграции, тогда в качестве первой реакции любая бюрократия от исследований (я говорю об административных руководителях институтов) потребует у какой-нибудь комиссии провести работу по выяснению и уменьшить неопределённость, предложив, с помощью одной из своих «консультационных комиссий» (или Но неопределённость системы гибких критериев, которые действительно учитываются при приёме новичков и профессиональном продвижении (и которые нужно бы вычленить посредством систематического анализа выборки результатов отборочных конкурсов), слишком явно благоприятствует маневрам аппарата, чтобы можно было ожидать от людей аппарата, что бы они ни говорили, действительной борьбы с неопределённостью и старания уменьшить её. Кроме того, какой бы важной ни была эта мера, она бы не смогла внести принципиальных изменений в функционирование института. Рискуя вмешаться в святая святых научной институции, то есть в систему механизмов и процедур, с помощью которых она обеспечивает своё воспроизводство, я бы хотел, опираясь на общие знания, имеющиеся у меня благодаря анализу функционирования научных институтов, указать на то, что рассуждения реформаторов по данным вопросам, особенно когда они исходят от руководящих инстанций, опираются на скрытое лицемерие. Если я считаю, что административные меры, направленные на совершенствование оценки исследований и установление системы санкций (таких как «пункты в карьере»), способствующей лучшим исследованиям и исследователям, будут в лучшем случае неэффективными, а скорее всего станут содействовать усилению дисфункций, которые они призваны уменьшать, то это потому, что у меня есть серьёзные и причём значительно обоснованные сомнения в способности административных инстанций дать действительно объективную и правильную оценку. В основном потому, что реальным результатом их операций по оцениванию оказывается не собственно оценка, а власть, позволяющая им осуществлять и усиливать контроль над воспроизводством профессионального корпуса (в особенности, через определение состава жюри). Вопрос, который здесь возникает, как Таким образом, мы доходим до руководителей институтов, до научных администраторов. Примечательно, что все эти люди, говорящие только о критериях оценки, научном качестве, «весомости» научной карьеры, с жадностью бросающиеся на методы «социометрии» и «библиометрии» и обожающие беспристрастные и объективные экспертные оценки (обычно производящие дорогостоящие тривиальные факты и бесполезные предложения, как например, последняя проверка процедур оценивания в CNRS), сами освобождены от какой бы то ни было оценки и тщательно избегают любого применения к их административным практикам (а не только к их научным практикам, как это делается при обычной полемике) процедур, использование которых они столь активно проповедуют. Итак, я твёрдо уверен, что некоторые структурные дисфункции могут быть ликвидированы только в том случае, если руководители институтов будут оцениваться по критериям, которые они хотят навязать другим, или, по меньшей мере, по специфическому эквиваленту проповедуемых ими процедур оценки. К выработке критериев изобретения и инновации в области науки и экономики необходимо добавить критерии в области организационной инновации и открыто признавать агентов, отличающихся по этим критериям. В результате более или менее длительного периода на административные позиции можно было бы привлечь не столько посредственных или стареющих исследователей или просто честолюбцев и карьеристов (как это почти всегда происходит, со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно, в области оценки), а действительно специфических предпринимателей. Эти руководители нового стиля считали бы своей целью, по примеру некоторых издателей или директоров галерей, действовать как изобретатели, способные помогать нетипичным исследователям, руководить и организовывать коллективные действия, разрабатывать заявки на исследования с тем, чтобы помочь наименее опытным исследователям согласовать внешний спрос и внутренние требования, одним словом, действовать не как штатные руководители, на которых возложены обязанности одобрять, а как тренеры, обязанные побуждать, помогать, поддерживать, поощрять и организовывать исследования, а также обучение (посредством программ непрерывного образования и взаимообучения) и распространение научной информации. 8. Коллективная конверсияВ связи с указанными мной причинами, а также в связи со многими другими, которые ещё нужно подробно анализировать, и которые столь же систематично упускаются и игнорируются реформаторскими комиссиями всех сортов не говоря уже о «коллективной оценке», которой подчинены лаборатории INRA), очевидно, что научная политика, действительно согласованная с интересами института (а не с интересами тех, кто им управляет) не может быть разработана и реализована по приказу (тех, кто им управляет, какими бы просвещёнными они не были). Только коллективная рефлексия, способная мобилизовать все живые силы института (и, в частности, силы наиболее активных и увлечённых исследователей, особенно среди самых молодых) и все его ресурсы (которые нужно ещё инвентаризировать, мобилизовать и распространить информацию о них среди всех сотрудников института), могла бы привести к подобной коллективной конверсии, являющейся условием действительного обновления. Я прекрасно понимаю, что большому числу положительных моментов, которые могут возникнуть в результате подобной коллективной конверсии, поскольку речь идёт именно об этом, как в области научных открытий, так Продвижение вперёд и осуществление этого коллективного социо-анализа, который является абсолютным условием истинной коллективной конверсии, могут реализоваться лишь ценой длительной работы каждого над собой и над всеми другими, и только всей группой в целом. Поэтому важно создавать дискуссионные органы (возможно при участии и незначительном, но, думается, совершенно необходимом, содействии социологов), где все сотрудники института будут вынуждены формулировать и осмысливать коллективно, вне всяких принуждений или иерархических санкций, проблемы, которые могут быть общими для разных категорий исследователей, но могут также их разделять и ставить в оппозицию друг к другу. При столкновениях или обычных дискуссиях, в небольших дискуссионных группах, открытых для недовольства или сплетён; в партиях, ассоциациях и синдикатах, открытых разного рода самообману (self deception), свойственному системам коллективной защиты; в комитетах или комиссиях, приверженных ложным реалистичным фактам и молитвенным обетам шаблонного бюрократического языка, — эти проблемы чаще всего не обсуждаются, а замещаются разоблачениями или «политизацией», как более лёгкими формами рассуждения. Я убеждён (здесь проявляется моя сторона Aufklärer), что из реалистичного, но не разочарованного видения научной жизни можно вывести правила или максимы, процедуры и методы, в частности, применительно к организации дискуссии и циркуляции информации, которые позволили бы сделать практику и научную жизнь одновременно более эффективными и более удачными или же менее несчастными (поскольку очевидно, что одна из основных функций всех антагонистических представлений, что производятся различными категориями исследователей, состоит именно в заклинании и предотвращении всех специфических форм несчастий или страданий, которые связанны с включённостью в научное поле, структурно предрасположенного приносить значительно больше поражений, чем побед). Я считаю, что опираясь на строгий анализ научного поля, такого, каким оно на самом деле является, можно предложить конкретные принципы Realpolitik разума. В отличии от философии «коммуникационного действия» Юргена Хабермаса, очень уважаемого и вызывающего сегодня большой интерес немецкого теоретика, который отводит значительное место проблемам и нормам коммуникации в социальных пространствах, таких, например, как поле политики, та Realpolitik, использование которой я собираюсь показать, утверждает, что, для того чтобы осуществился идеал, принимаемый за истину коммуникации, необходимо воздействовать на структуры, в которых осуществляется коммуникация, посредством политического, но специфического действия, то есть действия, способного преодолеть специфические социальные препятствия для рациональной коммуникации и просвещённой дискуссии. Хотя научные поля и представляют собой специфические пространства (и тем более специфические, чем более они автономны), но, как я указал, не все к лучшему в этом лучшем из возможных научных миров, и существуют социальные препятствия для установления рациональной коммуникации, являющейся условием прогресса разума и универсальности. Итак, необходимо бороться практически, а значит политически (в специфическом смысле слова), чтобы придать силу разуму и аргументам, при этом опираясь на доводы уже получившие подтверждение в истории поля. Но чтобы не впасть в самообман, необходимо помнить, что борьба, о которой я говорю (в частности, борьба за защиту автономии, за защиту экономических и социальных условий автономии, которые никогда не приобретаются раз и навсегда, как думают некоторые сторонники позиции ухода в себя и уединения в башне из слоновой кости) — это борьба специфическая, её ведут специфическим оружием, внутри каждого поля, и её нельзя переносить — как это так часто происходит — на другие территории, например, в область обычной политики. На самом деле, нет ничего более пагубного, чем «политизация», в обычном смысле этого слова, научного поля и идущей в нём борьбы, то есть переноса политических моделей в поле науки, что часто практикуется во Франции, включая INRA. «Политизация» почти всегда является уделом самых слабых по специфическим нормам поля (будь то временно доминирующие и временно исполняющие или доминируемые) и, таким образом, заинтересованных в гетерономии: вовлекая внешние силы во внутреннюю борьбу, они препятствуют полному развитию рационального обмена. Именно тот факт, что даже наиболее специфическая борьба в области искусства, литературы или науки не избавлена от разного рода последствий в общем социальном пространстве, делает положение столь сложным, а двойную игру такой лёгкой. И защита, в виде борьбы за автономию того, что является наиболее специфичным для некоего поля, к примеру, борьба американских художников против цензуры, может иметь политические последствия. А главное, защита автономии поля, в особенности научного, и поля социальных наук в частности, сама по себе является политическим актом, особенно в те периоды После столь длинного отступления, необходимого, как я считаю, чтобы избежать непонимания по поводу моих намерений, возвращусь к своей теме, то есть к INRA и тому, что могло бы стать Realpolitik разума, направленной на интеграцию этого института, имеющего двойную цель, интеграцию, основанную на и посредством коллективного и согласованного господства над своей структурной и функциональной дифференциацией. Речь идёт об установлении и приведении в действие механизма коллективной дискуссии, ориентированного на открытие новых организационных структур, способных содействовать этой интеграции в дифференциации. Я часто говорю, придавая более широкое толкование замечанию Макса Вебера по поводу взаимной роли в развитии огнестрельного оружия и форм организации вооружённых сил (с изобретением такого вида боевого порядка, как шеренга), что большой прогресс в науке также связан с организационными открытиями (такими, как лаборатория или семинар), в частности, с изобретением способов, заставляющих работать вместе исследователей, имеющих разные интересы, поскольку они включены в поля, построенные по квазиантагонистическим логикам. Благодаря такому механизму, можно было бы рассчитывать на некоторый шанс правильно сформулировать и действительно решить, избегая любого индивидуального и коллективного самообмана, ужасную проблему «социального заказа»; проблему условий, при которых «социальный заказ» может и должен быть определён и выработан, когда можно и должно продуктивно на него отвечать. | |
Примечания | |
|---|---|
| |