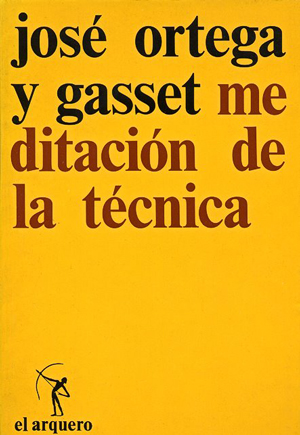 Хосе Ортега- | |
I. Первый подход к темеЗначение, преимущества и недостатки техники — вот один из главных вопросов, вокруг которых в самое ближайшее время развернутся горячие споры. Я был всегда убеждён: писатель призван как можно заблаговременно познакомить читателей с тем, что через пару лет станет настоящей проблемой. Иначе говоря, писателю следует вовремя вооружить людей ясными идеями и понятиями, чтобы в разгар битвы они сохраняли хладнокровие человека, который в принципе уже сделал выбор. On ne doit ecrire que pour faire connaitre la verite, — говорил Мальбранш, отбросив литературную изысканность. Уже давно и, по всей вероятности, бессознательно человек Запада окончательно перестал уповать на литературу, вновь ощутив острейшую жажду ясных и разных идей относительно всего, что ему представляется важным. Поэтому я и рискнул сегодня выступить на страницах издания La Nación de Buenos Aires с подобными, отнюдь не литературными заметками, в основе которых — курс моих университетских лекций, прочитанных два года назад и посвящённых проблемам техники. Итак, что такое техника? Давайте предпримем первый, ещё далеко не самый активный и решительный штурм нашей проблемы. Известно: с наступлением зимы человек страдает от холода. В этом чувстве — «мёрзнуть» — соединены два разных момента. Иначе говоря, здесь мороз уничтожает, отрицает самого человека. Но человек не хочет гибнуть, наоборот, как правило, он желает выжить. Мы настолько привыкли наблюдать в других, да И лучшее тому доказательство — факт, что многие предпочитают смерть жизни и независимо от каких бы то ни было соображений уничтожают в себе этот странный инстинкт самосохранения. Таким образом, ссылка на инстинкты неудовлетворительна. Ведь даже исходя из них или, наоборот, целиком их игнорируя, мы видим: человек продолжает жить, поскольку так хочет. Это и вызывает повышенный интерес: почему жажда жизни — норма? Почему нам не всё равно — жить или умереть? Какой смысл имеет подобное жизненное стремление? Не будем спешить с ответом. По крайней мере на сегодняшний день мы можем удовлетвориться вполне прозаическим выводом: человек хочет жить, и потому, когда ему угрожает холод, он испытывает потребность укрыться от него и Я произношу эту фразу с тем естественным смущением, с каким изрекают общеизвестную истину. И нам ещё предстоит убедиться: подобное смущение как первоначальная реакция на повторение общих мест здесь вполне уместно. Но если мы изрекаем столь тривиальные истины, то, безусловно, должны до конца понимать их смысл. Иначе не избежать чрезмерной самонадеянности, которой мы сплошь и рядом грешим. Итак, согревание — это акт, с помощью которого мы стремимся направить на себя либо тепло, уже имеющееся в наличии, либо то, которое мы находим. Подобное действие сводится к неким движениям, присущим человеку от роду, иначе говоря, к его способности ходить и тем самым приближаться к источнику тепла. В иных случаях, когда тепло не связано, например, с лесным пожаром, окоченевший от мороза путник укрывается в первой же попавшейся пещере. Другая потребность — питание. Питаться можно плодами деревьев, съедобными кореньями или же мясом животного. Ещё одна потребность — в питье и так далее. Итак, удовлетворение одной потребности обычно приводит к другой: ходить, иными словами, покрывать расстояние; и поскольку порой важно преодолеть расстояние как можно быстрее, человек вынужден манипулировать временем, сокращать его, выигрывать. И наоборот: если жизни угрожает враг (хищный зверь или просто другой человек), мы вынуждены обратиться в бегство, другими словами, за наименьшее время покрыть наибольшее расстояние. Терпеливо идя по этому пути, мы постепенно опишем систему потребностей, с которыми сталкивается человек. Согреваться, питаться, ходить и другие сходные действия — таков актив жизнедеятельности человека. Человек сталкивается с этими действиями точно так же, как И хотя все эти истины столь очевидны, что, повторяю, даже немного стыдно говорить об этом, следует обратить внимание на смысл, который выражает здесь слово «потребность». Что мы имеем в виду, когда говорим, что, согреваясь, принимая пищу, двигаясь, человек удовлетворяет потребности? Все такие действия, несомненно, естественно необходимы для жизни. Человек признает эту материальную и объективную необходимость, поскольку именно так он се субъективно ощущает. И эта человеческая необходимость часто условна. Подброшенный камень с необходимостью падает, и данная необходимость категорична и безусловна. А человек может прекрасно обходиться без пищи, как это делает ныне Махатма Ганди. Итак, в еде самой по себе нет нужды. Это действие потребно для жизни, необходимо в той мере, в какой человеку необходимо жить, если это вообще необходимо. Таким образом, исходная потребность — жизнь, а все остальные — только её следствия. Но мы уже говорили: человек живёт, поскольку сам того хочет. Потребность жить не навязана человеку силой, как материи «навязано» свойство сохраняться. Жизнь — потребность потребностей: она необходима исключительно в субъективном смысле, иначе говоря, просто потому, что человек самовластно решает жить. Это потребность, рождённая волевым действием, смысл и значение которого мы предпочитаем не раскрывать, а просто исходим из него как из простого факта. Так или иначе, человек проявляет удивительное упорство в том, чтобы жить, длить своё пребывание в мире даже вопреки тому, что он — единственно известное существо, обладающее способностью (с онтологической и метафизической точек зрения странной, удивительной и тревожной) уничтожать себя и прекращать своё присутствие здесь, то есть в мире. И по всей видимости, это стремление столь непомерно, что, даже когда человек не может удовлетворить потребностей, нужных для поддержания жизни (поскольку окружающая природа не даёт ему необходимых средств), он сам никогда не смирится с подобной судьбой. Так, если поблизости нет огня, возникшего от удара молнии, или сколько-нибудь сносной пещеры, человек не может осуществить нужное действие, согреться; если же он не нашёл плодов, кореньев и ему не подвернулось какое-нибудь животное, то ему нечем питаться. Именно в таких случаях человек прибегает ко второй очереди репертуара своих актов: разводит огонь, строит дом, возделывает землю или охотится. Дело в том, что подобный репертуар потребностей и репертуар действий, которые их непосредственно удовлетворяют с помощью наличных средств — если таковые имеются, — одинаковы для человека и животного. Единственное, в чём мы не можем быть до конца уверены, — это в том, испытывает ли животное такое же желание жить, как и человек. Иные скажут, что данный вопрос неуместен и даже несправедлив по отношению к животному. С какой это стати животное вдруг меньше дорожит жизнью, чем человек? Дело в том, что у животного нет таких интеллектуальных средств для защиты своей жизни. Все так; однако здесь возникает подозрение, которое, несмотря на всю свою слабость, Так, человек разводит огонь, если его нет, или роет пещеру, то есть строит дом, если поблизости его нет, а также седлает коня или изготавливает автомобиль, чтобы преодолевать пространство и время. А теперь заметим: разводить огонь — это отнюдь не то же, что греться; возделывание поля сильно отличается от такого действия, как приём пищи, а изготовить автомобиль — далеко не то же самое, что бежать. Вот когда мы окончательно убедились, что нужно было заранее определить такие элементарные действия, как ходьба, еда, согревание. Итак, обогрев, земледелие, производство автомобилей не являются действиями, направленными на удовлетворение потребностей. Они — совершенно нежданно — подразумевают прямо противоположное: отмену вышеуказанного примитивного набора действий, служащих удовлетворению потребностей. В конечном счёте их удовлетворению посвящён упомянутый второй репертуар действий, но — Животное как существо, или бытие животного, полностью совпадает с указанной двойной системой; само животное и есть не что иное, как такая система. Вообще жизнь, взятая с биологической и органической точек зрения, и есть только это. И здесь уместно спросить: имеет ли смысл говорить о потребностях применительно к подобному существу? Относя это понятие к человеку, мы считали, что потребность заключалась в условиях sine quibus non (непременных), с которыми он сталкивается, чтобы жить. Но они не суть его жизнь, и, наоборот, человеческая жизнь не совпадает или по крайней мере не во всём совпадает с составом природных потребностей. Если бы они совпадали, как у животных, если бы человеческое бытие состояло из еды, питья, согревания и так далее, то человек не ощущал бы подобные действия как потребности, то есть как непреложные требования, которые адресованы его подлинному бытию, с которыми он просто не может не считаться, но которые в свою очередь вовсе не составляют его самого. Таким образом, у нас нет оснований предполагать, будто животное испытывает потребности в том субъективном смысле, в каком мы употребляем это понятие применительно к человеку; конечно, животное чувствует голод, но ведь животному ничего другого не остаётся, как страдать от голода, искать пищу. Иначе говоря, животное не может испытывать голод как потребность, неспособно рассматривать такое желание как нечто, с чем должно считаться, чего не удаётся избежать и что жёстко навязано самым неумолимым образом. Наоборот, если бы человек не испытывал подобных потребностей и, следовательно, не нужно было бы стремиться к их удовлетворению, всё равно ему оставалось бы многое из того, что можно было бы сделать. В полном распоряжении человека оказалось бы огромное пространство жизни, то есть такие заботы, дела, которые он как раз и считает подлинно своими. И поскольку, с одной стороны, еду, добычу и сохранение тепла человек не считает атрибутами жизни, не включает в истинную жизнь, И всё-таки это лишь отчасти объясняет способность человека временно отвлекаться от подобных нужд, откладывать или приостанавливать их воздействие и, отрешаясь от них, посвящать себя другим занятиям, которые не сводятся к непосредственному удовлетворению данных потребностей. Животное неспособно высвободиться из ограниченного набора естественных актов — исключить себя из природного мира, — поскольку оно и есть самое природа; отделившись, оно просто лишилось бы своего места в ней. Но человек, бесспорно, несводим к собственным обстоятельствам. Он лишь погружён в них, причём так, что иногда всё же способен от них избавиться и, самоуглубившись, сосредоточиться на себе. Лишь тогда, и только тогда, человек может Все такие акты обладают общей структурой. В них входит некое изобретение, устройство, с помощью которого человек надёжно, по собственной воле Действия такого рода изменяют или преобразуют обстоятельства, природу, Итак, техника — это реакция человека на природу или обстоятельства, в результате которой между природой, окружением, с одной стороны, и человеком — с другой, возникает некий посредник — сверхприрода, или новая природа, надстроенная над первичной. Подчёркиваю: техника — это отнюдь не действия, которые человек выполняет, чтобы удовлетворить потребности. Такое определение неточно, поскольку оно годится и для чисто биологического набора животных актов. Техника — это преобразование природы, той природы, которая делает нас нуждающимися, обездоленными. И цель его — по возможности ликвидировать подобные потребности так, чтобы их удовлетворение не составляло ни малейшего труда. Если бы, всякий раз страдая от холода, человек тотчас же получал в своё полное распоряжение огонь, он, очевидно, никогда бы не испытывал потребности в тепле, как обычно мы не испытываем потребности в дыхании. Мы просто дышим. Только и всего. Именно это и делает техника: соединяет тепло с ощущением холода «и тем самым практически уничтожает его как потребность, нужду, лишение и заботу. Итак, для начала II. Состояние и благосостояние. «Потребность» в опьянении. Ненужное как необходимое. Относительный характер техникиПродолжим рассуждения. Как уже было сказано, технические действия вовсе не предполагают целью непосредственное удовлетворение потребностей, которые природа или обстоятельства заставляют испытывать человека. Наоборот, цель технических действий — преобразование обстоятельств, ведущее по возможности к значительному сокращению роли случая, уничтожению потребностей и усилий, с которыми связано их удовлетворение. Если животное как существо нетехническое всегда должно неизбежно мириться со всем, что ему предзадано в мире, иначе говоря, пережить беду или даже умереть, не найдя того, что нужно, то человек благодаря техническому дару всегда находит в своём окружении всё необходимое. Другими словами, человек творит. новые, благоприятные обстоятельства и, я бы сказал, выделяет из себя сверхприроду, приспосабливая природу как таковую к собственным нуждам. Техника противоположна приспособлению субъекта к среде, представляя собой, наоборот, приспособление среды к субъекту. Уже одного этого достаточно, чтобы заподозрить: мы сталкиваемся здесь с действием, обратным биологическому. Этот бунт против своего окружения, эта неудовлетворённость миром и составляют человеческий удел. Вот почему его присутствие в мире, даже если мы рассматриваем человека как существо зоологическое, всегда неразрывно связано с изменением природы; например, оно обнаруживается по найденным обработанным или отшлифованным камням, то есть полезным орудиям. Человек без техники, иными словами, человек, не реагирующий на собственную среду, — это не человек. До сих пор, однако, техника представлялась нам как реакция на органические или биологические потребности. Вы помните, я очень настаивал на уточнении слова «потребность». Потребностью является приём пищи, поскольку это условие sine qua non для жизни, иными словами, условие для возможности присутствовать в мире. А человек, Но сама техника несводима только к тому, чтобы облегчать удовлетворение таких потребностей. Ведь столь же древними, как орудия труда, способы добывания огня или пищи, оказываются многие другие способы, помогающие человеку изыскивать средства и ситуации, которые в данном смысле абсолютно бесполезны. Возьмём, к примеру, весьма древнее и не менее распространённое, чем добыча огня, явление, а именно опьянение, иначе говоря, использование определённых средств или веществ, которые погружают человека в психофизиологическое состояние сладостного возбуждения или приятного оцепенения. Наркотики и дурманящие снадобья — такая же древность, как и все остальные известные человеческие открытия. Это настолько справедливо, что мы, например, даже точно не знаем, был ли огонь прежде всего добыт для борьбы с холодом (органическая потребность, условие жизни sine qua non) или же, скорее, его стали добывать в целях опьянения. У первобытных народов существует обычай разводить в пещерах костры и, согреваясь возле них до седьмого пота в страшном дыму и чаду, впадать в транс, подобный сильному опьянению. Это и есть то, что называлось «потными домами». Перечень же средств и приёмов, которые служат фантастическим, гипнотическим целям, иными словами, вызывают сладостные, приятные образы или доставляют невероятное наслаждение всякий раз, когда человек совершает усилие, — сам этот перечень поистине бесконечен. В числе прочих — приём «Кат», распространённый в Йемене и Эфиопии, который беспредельно продлевает самое сладостное из наслаждений благодаря свойствам жидкости, выделяемой предстательной железой. А среди средств, производящих галлюцинации, можно упомянуть перуанскую коку, белену, дурман и так далее. Аналогичным образом этнологи спорят о том, что появилось раньше: охотничий и боевой лук или же музыкальная лира. Для нас не столь важно решение проблемы. Гораздо существеннее, что сама возможность подобных дискуссий неопровержимо свидетельствует: лук и лира принадлежат к древнейшим изобретениям человечества. Одного этого уже достаточно. Итак, человек отнюдь не в меньшей степени стремился доставить себе
Итак, уточним, к чему мы пришли. Выше к человеческим потребностям были отнесены тепло и пища, поскольку они составляют объективные условия жизни, взятые как существование в чистом виде и присутствие в мире как таковое. Указанные потребности необходимы, так как человеку необходимо жить. Выяснив это, мы уже с полным правом можем сказать, что выдвинутый тезис был ошибочен. Для человека нет никакого смысла присутствовать, пребывать в мире; истинное его назначение — находиться, присутствовать в мире с благом и удобством для себя самого. Только это ему и нужно, всё прочее является потребностью лишь постольку, поскольку даст возможность благосостояния. Таким образом, человеку необходимо лишь объективно излишнее. Как это ни парадоксально, но данный вывод — чистая истина. Биологически объективные потребности сами по себе не являются человеческими. И когда мы слишком от них зависим, то отказываемся их удовлетворить, предпочитая погибнуть. Только когда такие надобности начинают выступать как условия «пребывания в мире», которое в свою очередь необходимо лишь субъективно, поскольку даст возможность «благосостояния в мире», возможность избыточного, тогда, и только тогда, подобные требования превращаются в потребности. Стало быть, даже то, что человеку объективно необходимо, является таковым, лишь когда связано с избыточным, излишним. Здесь нет и не может быть двух мнений: человек — это такое животное, которому нужно только излишнее. И хотя, вероятно, сказанное кажется странным или даже Вот почему любое животное всегда вне техники, ибо довольствуется жизнью и объективно необходимым для существования как такового. С точки зрения простого существования животное нельзя превзойти и ему не нужна техника. Но человек — это человек лишь постольку, поскольку существование для него обязательно и всегда связано с благосостоянием. А следовательно, человек а nativitate (По своей природе, с рождения (исп.) — Напротив, стоит лишь обозначить различие целей, и всё становится на свои места: с одной стороны, мы имеем обслуживание чисто органической жизни, суть которой в приспособлении субъекта к среде (простое пребывание в природе), Вывод: человеческие потребности являются таковыми лишь в своей исключительной связи с благосостоянием. А это крайне осложняет положение дел. Откуда нам знать, что именно человек понимал, понимает и будет понимать под благосостоянием? Иначе говоря, под потребностью всех потребностей, под тем единым на потребу, о котором Иисус толковал Марфе и Марии? (Мария — вот верная техническая служительница Иисуса!) Для Помпея неважно было просто жить, ему важно было плавать по морям. Тем самым он обновил девиз милетского общества aeinautai, вечных мореплавателей, к которому принадлежал и Фалес; именно они основали новую и смелую торговлю, новую, отважную политику, новое, дерзкое познание, иначе говоря — западную науку. Ведь были, с одной стороны, факиры и аскеты, с другой — сладострастцы и обжоры. Итак, если жизнь как таковая, то есть жизнь, взятая в биологическом смысле, — величина постоянная, определённая раз и навсегда для каждой особи, то для человека его — человеческая — жизнь — это всегда жизнь хорошая, благополучие, и это величина изменчивая, бесконечная переменная. Поскольку набор человеческих потребностей — функция от данной величины, то и сами потребности не в меньшей степени переменны; и раз сама техника представляет собой набор актов, порождённых для потребностей и вместе с тем осуществлённых в системе потребностей, то и она всегда выступает как протеическая, постоянно изменяющаяся реальность. Таким образом, напрасны любые усилия изучать технику как самостоятельное образование, как нечто, направляемое одним-единственным вектором, а тем более — заранее известным. Идея прогресса, гибельная во всех отношениях, когда она использовалась некритически, и здесь сыграла свою роковую роль. Ведь подобная мысль предполагает, что человек всегда хотел, хочет и будет хотеть одного и того же; иначе говоря, данное понимание прогресса исходит из постоянства, самотождественности жизненных стремлений, как будто В иных случаях — и, как известно, так бывало чаще всего — и изобретатель, и изобретения подвергались яростному гонению, словно речь шла о тяжком преступлении. И если ныне мы испытываем прямо противоположное обострённое чувство, страсть к открытиям, то это не значит, что так было всегда. Наоборот, человечество обычно испытывало загадочный, космический ужас перед открытиями, как будто бы в них наряду с несомненным благом заключалась чудовищная угроза. Да III. Усилие ради сбережения усилий. Проблема сбережённого усилия. Изобретённая жизньМоя книга «Восстание масс» отчасти была вызвана к жизни глубоким и искренним подозрением, возникшим у меня Итак, нужно быть начеку, нужно научиться выходить за рамки своего занятия, внимательнее всматриваться в облик жизни — а он всегда целостен. Высшую жизненную способность не передадут ни профессия, ни наука, поскольку данная способность — это свод всех профессий и всех наук, а также многое другое. Жизненная способность — это всеохватная настороженность. Человеческая жизнь и все, имеющее к ней отношение, есть постоянный, абсолютный риск. Кого так увяз — всей птичке пропасть. Так и культура: дав небольшую трещину, она мгновенно опустошается, разлетается на несметное число осколков. Оставив, однако, в стороне эту сферу больших и важных и Ясно по крайней мере одно: любые (то есть социальные, экономические, политические) условия, в которых человеку-технику придётся работать завтра, в корне отличны от тех, в которых ему приходилось трудиться до сих пор. Итак, не будем говорить о технике как об уникальном, положительном явлении, как о единственной в своём роде, неизменной и устойчивой человеческой реальности. Это неумно; и чем сильнее будут ослеплены подобным представлением сами техники, тем вероятнее возможность полного упадка и гибели, которые ожидают современную технику. Ведь достаточно, чтобы хоть чуть-чуть изменилась суть самого благосостояния, оказывающего воздействие на человека, чтобы хоть чуть-чуть преобразовалась идея жизни, от имени которой, исходя из которой и ради которой человек делает всё, что делает, — как традиционная техника рухнет, развалится и примет иное направление. И тем не менее находятся люди, считающие, будто современная техника гораздо прочнее своих предшественниц укоренилась в истории, поскольку как таковая она имеет существенные черты, отличающие её от всех остальных, например строго научную основу. Но подобная уверенность, по сути, обман. Даже несомненное превосходство нынешней техники оборачивается столь же несомненной её уязвимостью. И если сейчас техника зиждется на точности и строгости науки, то это значит лишь, что она опирается на большее число условий и предпосылок по сравнению с ранее существовавшими её типами, которые в конечном счёте были более независимы и спонтанны. Подобные гарантии как раз и служат источником колоссальной угрозы, которая нависла над европейской культурой. Безусловная вера в прогресс, в то, что уже теперь достигнут такой исторический уровень, когда просто немыслимо предположить сколько-нибудь существенный регресс и, следовательно, в будущем человечество будет механически идти только вперёд, окончательно расшатала устои бдительности, позволив варварству и одичанию снова ворваться в мир. Однако оставим эти темы, поскольку сейчас мы не можем обсуждать их всерьёз. Лучше подведём некоторые итоги.
Нам ещё предстоит поговорить о разных типах техники, об их судьбе, достоинствах и границах, но сейчас важнее не упустить основное: вопрос о том, что такое техника, поскольку именно в нём скрыты наиболее важные тайны. Как уже было сказано, к техническим действиям относятся не те действия, где мы прикладываем усилия, чтобы непосредственно удовлетворить наши нужды — будь то элементарные или, наоборот, избыточные; технические действия — это, напротив, такие, где мы,
Оставив на время третий пункт, назовём два решающих признака всякой техники, а именно: Ресурсосберегающим по отношению к человеку свойством является и её надёжность. Ведь все тревоги, заботы и страхи, которые у нас вызывают подстерегающие опасности, суть своего рода усилия, навязываемые природой. Итак, техника — это главным образом усилие ради сбережения усилий. Иными словами, это действия, которые мы предпринимаем, чтобы полностью или частично избежать неотложных забот и дел, навязываемых обстоятельствами. И хотя в данном вопросе достигнуто как будто согласие, тенденция обыкновенно выделять лишь лицевую, наименее интересную сторону проблемы Разве не удивительно, что человек тратит силы, чтобы их сберечь? Здесь мне возразят: техника — это меньшее усилие, с помощью которого удаётся сберечь большее, и это ясно и понятно. Но тогда остаётся загадочным совершенно другое: на что будет потрачено сбережённое и тем самым высвобождённое усилие? Или иначе: если посредством технического рвения человек освобождается от срочных дел, к которым призывает его природа, то что же он будет делать без них, как заполнит свою жизнь? Ибо ничего не делать — значит опустошать жизнь, то есть не жить, а это несовместимо с человеческим существованием. Данный вопрос вовсе не из области фантастики — уже сейчас он укоренился в реальности. Его ставил даже такой, безусловно, тонкий и проницательный мыслитель, как Кейнс (хотя он всего лишь экономист); в самом скором времени — если, конечно, не будет регресса — техника позволит человеку трудиться не больше одного или двух часов в день. Что же человек будет делать остальное время? Фактически такая реальность сегодня уже налицо: в некоторых странах рабочий день длится 8 часов, причём люди трудятся только пять дней в неделю. И всё говорит о том, что в ближайшем будущем трудовая неделя сократится до четырёх дней. Как распорядиться таким огромным количеством свободного времени, чем заполнить ту зияющую пустоту, которая откроется в жизни? Вообще говоря, сам факт, что современная техника столь обострила данный вопрос, ещё не означает, что он не был предзадан, другими словами, присущ любой технике, поскольку, как уже было сказано, она неукоснительно ведёт к сбережению усилий и забот. И это не случайный, неожиданный, побочный результат технического действия. Наоборот, именно стремление к экономии сил вызывает к жизни самое технику. Вопрос необходимо вытекает из сути техники как таковой, поэтому мы не можем понять последней, ограничиваясь простым утверждением, будто она сберегает усилия и не раскрывает, куда и на что это сэкономленное усилие будет направлено. Итак, размышление о технике заставляет открыть в самой теме, словно косточку в плоде, ту удивительную тайну, которую таит бытие человека. Ведь человек — существо, которое вынуждено (если оно хочет жить) пребывать в природе, погружаться в неё. И с этой точки зрения человек — животное. В чисто зоологическом смысле жизнь — это то, что нужно для выживания. Но ведь человек делает всё, чтобы такую жизнь свести к минимуму, чтобы вообще не испытывать потребности делать то, что вынуждено делать животное. В той пустоте, которая осталась после преодоления человеком животной жизни, он созидает иные, уже небиологические заботы, которые не навязаны природой, а изобретены им для себя самого. Именно эту, изобретённую, выдуманную, как роман или театральная пьеса, жизнь человек называет человеческой жизнью или же благосостоянием. Следовательно, она выходит за рамки природы, она не дана человеку подобно тому, как камню дано свойство падать, а животному — довольствоваться жёстким, неизменным набором естественных актов, иначе говоря — принимать пищу, убегать, вить гнездо и так далее. Наша жизнь создаётся самим человеком, и созидание начинается с изобретения. Так неужели наша жизнь в этом особом смысле — лишь… плод воображения? Неужели человек — своего рода автор IV. К первоосновамВсе прежние ответы на вопрос: «Что такое техника?» — исполнены поистине волшебного легкомыслия. И хуже всего — не случайно. Подобная необыкновенная лёгкость мыслей наблюдается едва ли не во всех вопросах, действительно связанных с человеком и человеческим. Да и нам, безусловно, не удаётся внести хотя бы И тогда мы увидим, как одно сущее (то есть человек, если он желает существовать) вынуждено пребывать в другом — в мире или природе. И это пребывание одного в другом — человека в мире — должно отвечать одному из трёх требований.
Тот, кто тонул в морской пучине или срывался с крыши, вполне оценил надёжную твёрдость земли. Но земля — это ещё и расстояние, и как часто она разделяет жаждущего и родник! Иной раз земля вдруг круто поднимается вверх откосом, который предстоит одолеть. Вот, пожалуй, радикальнейший из феноменов: наше существование в мире окружено удобствами и трудностями. И именно это придаёт особый онтологический характер реальности, называемой человеческой жизнью, бытием человека. Если бы на жизненном пути вообще не встречалось удобств, то пребывание человека в мире было бы невозможным; иначе говоря, он вообще не существовал бы, а следовательно, не было бы и проблемы. Но поскольку удобства, которыми удаётся воспользоваться, всё же встречаются в жизни, то и возможность жизни реализуется. Однако эта возможность всегда под угрозой — ибо человек встречает и трудности, и помехи. Отсюда вывод: человеческое существование, пребывание в мире вовсе не означает пассивного присутствия; наоборот, оно неизбежно предполагает борьбу с трудностями и неудобствами, препятствующими нам надёжно укрыться в мире. Любому камню существование всегда предзадано в изначальном, готовом виде, ему не нужно бороться, чтобы быть тем, что он есть: камнем среди природы. Для человека существование всегда подразумевает борьбу с окружающими трудностями; иными словами, в каждый миг человек вынужден создавать себя самого. Можно сказать и И всё-таки почему! По всей видимости — и здесь я выражаю ту же мысль другими словами, — потому, что человеческое и природное бытие полностью не совпадают. Вероятно, бытие человека отвечает тому странному условию, в силу которого в одних своих моментах он явно сродни природе, а во всех остальных — нет. Человек одновременно и естествен, и сверхъестествен. Это своего рода онтологический кентавр, одна половина которого вросла в природу, а другая — выходит за её пределы, то есть ей трансцендентна. Данте мог бы сказать, что человек находится в природе, как лодка, вытащенная на берег, когда одна половина её лежит на песке, а другая — в воде. Природное, или естественное, человеческое начало осуществляется само по себе — здесь нет проблемы. И именно поэтому человек не считает природное подлинным бытием. Наоборот, сверхъестественное, надприродное в человеке никак не может считаться осуществлённым, итоговым — он всегда в стремлении к бытию, в жизненном проекте. Это и есть наше подлинное бытие, наша личность, наше «Я». Ни в коем случае нельзя истолковывать эту сверхъестественную и антиестественную часть человека в духе былого спиритуализма. Здесь нет и речи об ангелах или так называемом духе — смутной и странной идеи, преисполненной магических отголосков. То, что вы называете жизнью, не что иное, как неудержимое стремление воплотить определённый проект или программу существования. И ваше «Я», личность каждого — это не что иное, как воображаемая программа. Всё, что вы делаете, вы делаете ради осуществления этой программы. И если вы сидите сейчас здесь и слушаете меня, то лишь потому, что в той или иной степени уверены: это поможет вам стать — как в личном, так Вот чудовищное, ни с чем не сопоставимое условие человеческого бытия, которое превращает человека в существо уникальное во всём мироздании. Странную, непонятную тревогу вызывает в нас такая судьба. Перед нами удивительное существо, чьё бытие состоит не в том, что уже есть, Итак, человек — не вещь, а некое усилие быть или тем, или другим. И каждая эпоха, и каждый народ, и даже каждый индивид Теперь, думаю, мы можем правильно понять все слагаемые того радикального феномена, который и составляет нашу жизнь. Существование означает прежде всего такое состояние, когда мы обречены осуществить проект, каковым мы являемся в данных обстоятельствах. Нам не суждено, не дано выбирать мир, или обстоятельства, в которых мы живём. Наоборот, без какого-либо согласия с нашей стороны мы раз и навсегда ввергнуты в определённое окружение, в мир, который присутствует здесь и сейчас. Данный мир, или обстоятельства, в которые я вмещён, — это не только окружающий меня фон, но и моё тело, моя душа. Я — это не моё тело, ибо с ним я встречаюсь и должен жить — независимо от того, больное оно или здоровое. Но я — и не моя душа, поскольку сам встречаюсь с ней и вынужден на нёс рассчитывать, чтобы жить, хотя иногда она меня сильно подводит Вот когда Следовательно, в той мере, в какой оно существует относительно нашего намерения. Ведь нечто может быть удобством или трудностью только в связи с подобным усилием. Только в зависимости от нас, от наших чаяний, сообщающих нам самим подлинность, существуют те или иные — большие или меньшие — удобства и трудности. Из них и состоит наше окружение в его изначальном и чистом виде. Вот почему мир оказывается разным в каждую эпоху и для каждого отдельного человека. На нашу личную программу, на се динамичность, подчиняющую обстоятельства, последние отвечают, формируя свой иной облик, предстающий как особые удобства и трудности. Вне сомнений, мир не одинаков для торговца и для поэта; и там, где один спотыкается на каждом шагу, другой чувствует себя как рыба в воде; и то, что одному глубоко омерзительно, другому доставляет высшую радость. Конечно, миры обоих имеют множество общих черт — тех самых, которые вообще свойственны человеку как представителю известного рода. Но именно потому, что человеческое бытие — не данность, а лишь исходная, воображаемая возможность, род людской отличается такой неустойчивостью и изменчивостью, которые не идут ни в какое сравнение с различиями, характерными для животных. Словом, вопреки тому, что твердили ревнители равенства на протяжении двух прошлых веков и что за ними повторяют нынешние архаисты, люди бесконечно разны. V. Жизнь как созидание самой жизни. Техника и желанияВ предложенной формулировке человеческая жизнь, существование и формально, и по смыслу — нелёгкая задача. Для всего остального мира собственное бытие не составляет проблемы, означая действительность, реализацию сущности. К примеру, «бытие быка» очевидно и проверяемо. Бык существует только как бык. Наоборот, существование человека далеко не подразумевает его безусловного существования как того, кто он есть, а означает лишь некую возможность, рвение, необходимое для достижения поставленной задачи. Скажите, кто из вас действительно есть тот, кем он, по его мнению, должен, желал бы, стремился бы быть? В отличие от всего остального человек, существуя, обречён сам создать собственное существование, решить практическую задачу — реализовать программу, которая изначально составляет его суть. Наша жизнь, таким образом, — подлинная проблема, неотложная забота. Жизнь каждого не есть нечто данное, уготованное раз и навсегда. Жизнь — то, что мы сами должны для себя создать. Жизнь доставляет много забот и дел, вернее, она и есть забота и неотложное дело, которое должен выполнить каждый; стало быть — подчеркну ещё раз, — это не вещь, а нечто активное, причём в смысле, выходящем за рамки привычного словоупотребления. Когда речь идёт о любых других существах, считается, что они существуют в действии. Здесь же имеется теснейшая зависимость самого бытия от действия. Человек обречён созидать, творить самого себя. И это не так уж странно, как может показаться на первый взгляд, ибо в слове «творение» со всей очевидностью подчёркивается, что человек — это прежде всего творец, техник. Жить — значит в первую очередь прилагать максимальные усилия, чтобы возникло то, чего ещё нет, чтобы возник сам человек. И он же стремится к этой цели, используя всё, что есть. Итак, человеческая жизнь есть производство. Этим я хочу сказать, что жизнь — это вовсе не то, чем она представлялась на протяжении многих веков, то есть она не созерцание, не мысль и не теория. Жить — значит производить, творить, и лишь постольку, поскольку последние действия невыполнимы без теории, созерцания; жизнь также есть мысль, теория и наука. Жить — значит изыскивать средства для осуществления себя как программы. Мир и обстоятельства даны человеку прежде всего как сырьё и механизм. И так как человек, чтобы существовать, должен быть в мире, а последний сам по себе не вершит человеческое бытие и даже, наоборот, чинит тому всяческие препятствия, то человек-техник пытается обнаружить в мире скрытое устройство, потребное для его целей. История человеческой мысли — это цепь наблюдений, произведённых с целью выявить механизм, скрытый в материи мира. Вот почему техническое изобретение — это открытие. И как мы ещё убедимся, техника в собственном смысле слова, иначе говоря, полнота и зрелость техники, совершенно не случайно возникла в Таким образом, глубоко ошибочно полагать, что человек — это простое животное, по случайности обладающее техническим даром; или же, Поэтому он сам начинается с развития техники. Те большие или меньшие бреши, которые человек пробивает в природе, — не что иное, как ячейки, куда он вмещает собственное эксцентрическое бытие. Вот почему я настаивал и настаиваю: и смысл, и причина техники лежат за её пределами, а именно в использовании человеком его избыточных, высвобождённых благодаря самой технике сил. Такова миссия техники — освобождение человека, дарующее ему возможность всецело быть самим собой. Древние делили человеческую жизнь на две сферы. Одну из них они называли otilim (досугом), который вовсе не предполагал отрицание дела, а, напротив, заботу о человеческом; этому служили власть, организация, общество, науки, искусства. Другая же область жизни была исполнена усилий, направленных на удовлетворение элементарных потребностей; Чем жить во власти случая и тратить впустую силы, лучше подчинять последние плану, который только один и позволяет достичь успеха в борьбе с природой, извлечь максимальную пользу из господства над ней. Таково техническое назначение человека по контрасту с беспечной деятельностью, животного, например какой-нибудь птички Божьей, Все виды человеческой деятельности, которые уже характеризовались как технические или ещё только заслуживают быть отнесёнными к ним, являются лишь спецификациями, конкретизациями общего условия самосотворения, присущего жизни в целом. И если бы наше существование изначально не представляло неизбежной потребности созидать из естественного материала то сверхъестественное усилие, которое и есть человек, то никогда И тем не менее именно поэтому техника не первична в строгом смысле слова. Она, безусловно, делает всё возможное, решая задачу, которая и есть жизнь, и, разумеется, так или иначе способствует осуществлению человеческой программы. Но сама по себе, конечно, данной программы не создаёт. Я хочу сказать, что цель, которую преследует техника, ей же самой предзадана. Жизненная программа имеет дотехнический характер. Человек-техник или технический гений обязан изобретать простейшие и надёжные способы удовлетворения потребностей. Но ведь и сами они, как мы убедились, также представляют собой изобретения, иначе, то, чем желает стать человек в каждую эпоху, в каждом народе и даже в каждом типе личности. Итак, существует элементарное дотехническое изобретение, изобретение по преимуществу изначальное — оригинальное человеческое желание. И не надо меня уверять, будто нет ничего проще желаний. Вам доводилось встречать нувориша с печатью неизбывной тоски на лице? Уж у Где-то в глубине души он твёрдо уверен: ему ничего не нужно; мало того, он вообще не способен сосредоточить свои помыслы на Подобный феномен встречается на том уровне желаний, который относится к уже данному, наличному, ко всему, что мы обнаруживаем в своём окружении до любых желаний. Однако насколько трудно даётся человеку стремление истинно творческое, такое, которое постулирует несуществующее, предвосхищает ещё нереальное. В конечном счёте любые желания всегда соотносятся с тем типом человека, которым мы хотели бы стать. Он и есть наше исходное желание. И если Вполне возможно, главная болезнь нынешнего времени — кризис желаний; вот почему вся фантастическая мощь техники нам не впрок. Сегодня мы видим это отчётливо, но ещё в 1922 году я предупреждал, например, о таком угрожающем факте: «Европа страдает истощением способности желать». (Предисловие ко второмуму изданию «Бесхребетная Испания». — Но всё-таки почему? К сожалению, к теме нашего исследования это не относится. Ограничимся только одним вопросом: каков тот человек или каков вообще тип людей, которого можно считать специалистом в жизненной программе? Может быть, это поэт, философ, основатель новой религии, политик, открыватель новых ценностей? Не будем спешить с ответом. Достаточно, что все они предшествуют человеку-технику, и это недвусмысленно указывает на порядковые различия между техником и указанными профессиями, которые всегда были и оспаривать которые лишний труд. Вероятно, именно этим и объясняется удивительный факт анонимности техники — или по крайней мере того, что имена её творцов никогда не пользовались столь громкой славой, как имена людей, подвизавшихся в вышеуказанных областях. Одно из величайших открытий последних шестидесяти лет — двигатель внутреннего сгорания. А теперь скажите: кто из нас, не будучи по профессии техником, сейчас помнит список славных имён его творцов? Отсюда же и крайне низкая вероятность «технократии». Человек-техник, по определению, не может управлять, быть высшей инстанцией. Роль техника замечательна, достойна глубокого уважения, но, увы, неизбежно второстепенна. Подведём некоторые итоги. Преобразование природы, или техника, как и любое изменение, мутация, — это движение между двумя пределами: a quo и ad quern. Пределом a quo является природа, такая, как она есть в наличии. А пределом ad quern, выступает жизненная программа человека. Но что означает полное выполнение данной программы? Вне всяких сомнений, «благосостояние», «счастье». Таков итог наших предыдущих рассуждений. VI. Сверхъестественная судьба человека. «Программы бытия», управляющие людьми. Происхождение тибетского государстваНа предыдущих лекциях я попытался выделить предпосылки, которые должны сложиться в окружающем мире, чтобы в нём возникло то, что зовётся «техникой». Говоря Но подобное существо способно исполнить своё намерение лишь с помощью По-видимому, столь абстрактная формула отчасти трудна для понимания. Ибо упомянутая сверхъестественная программа, которой, с нашей точки зрения, является человек, — нечто весьма загадочное и малоконкретное. Но мы прольём некоторый свет на проблему, если из многочисленных программ хотя бы бегло перечислим те, в которых на протяжении истории человек воплощал своё бытие. Примерами могут служить индийский бодисатва, человек-соревнователь аристократической Греции VI века, добрый республиканец Древнего Рима, стоик эпохи Империи, средневековый аскет, испанский идальго XVI века, Homme de bonne compagnie Франции XVII века, schone Seele конца XVIII века или же Dichter und Denker начала XIX века в Германии, английский Gentleman образца 1850 года и так далее. Разумеется, было бы непростительной роскошью с моей стороны поддаться здесь искушению обрисовать характерный профиль того мира, который составляет каждый из упомянутых типов человеческого бытия. Поэтому ограничусь лишь одним замечанием, представляющимся мне совершенно неоспоримым. Народ, в котором преобладает убеждение, будто подлинное бытие человека — бытие бодисатвы, не способен создать технику, равную по своему уровню той, что вызвана к жизни стремлением быть джентльменом. Ведь программа бодисатвы прежде всего основывается на веровании, что существовать в мире чистых видимостей — всё равно что вообще не существовать. Ибо подлинное существование бодисатвы — это не отдельное бытие в качестве некой частицы Вселенной, а абсолютное слияние с Целым, растворение в нём. Таким образом, бодисатва стремится не жить — или желает жить в наименьшей мере. Например, еду бодисатва обязательно сведёт к минимуму. Тем хуже для техники приготовления пищи! Точно так же бодисатва желает пребывать в максимальной неподвижности с целью отдать все силы медитации — единственному средству передвижения, позволяющему достичь экстаза, иными словами, погрузиться в потустороннюю жизнь. Вероятность того, что человек, абсолютно не желающий двигаться, изобретёт автомобиль, безусловно, крайне мала. Наоборот, он будет неуклонно развивать все виды техники, чуждые нам, европейцам, такие, как техника факиров и йогов, разные способы достижения экстаза, — словом, всевозможные технические приёмы, производящие изменения не в материальной природе, Несомненно, жизнь в медитации Сторонники натуралистического истолкования всего человеческого непременно выдвинули бы здесь совершенно обратное отношение между проектом бытия и техникой; я, повторяю, придерживаюсь той точки зрения, что именно данный проект и вызывает к жизни технику, а она в свою очередь изменяет природу. Мне возразят, что всё наоборот: в Индии, например, и климат, и необыкновенное плодородие почвы настолько облегчают человеку существование, что ему практически и не нужно передвигаться и добывать пищу, иначе говоря, сам климат и почва предопределяют буддийский тип жизни. Возможно, последние мои слова впервые придутся по душе некоторым учёным, которые здесь присутствуют. И тем не менее не могу удержаться и не опровергнуть немедленно подобное мнение, тем самым окончательно лишив моих воображаемых оппонентов и столь ничтожного чувства удовлетворения. Разумеется, между климатом, качеством земли, с одной стороны, и человеческой программой — с другой, существует связь, но она в корне отлична от той, которая сформулирована в вышеприведённом примере. Я не стану излагать мои соображения на сей счёт и вообще уклоняюсь от каких бы то ни было рассуждений. Мои воображаемые оппоненты просто-напросто ссылаются на некий, по их мнению, несомненный факт, а это даёт мне право в свою очередь привести другой факт, не оставляющий камня на камне от выдвинутых аргументов. Если почва и климат объясняют возникновение индийского буддизма, то совершенно неясно, почему главным центром этой религии стал Тибет. Ибо и почва, и климат Тибета — полная противоположность почве и климату долины Ганга и острова Цейлон. Нагорья, лежащие по ту сторону Гималаев, представляют одну из самых суровых, трудных для проживания областей на планете. На бескрайних плоскогорьях Буддизм — религия, которая, как никакая другая, исповедует именно медитацию. У буддистов нет Бога, озабоченного идеей человеческого спасения. Наоборот, сам человек должен спастись с помощью размышлений и молитв. Но можно ли медитировать в разгар жестоких тибетских бурь? Пусть приведённый факт послужит заодно ярким примером теснейшей взаимосвязи между видами техники. Я имею в виду прежде всего лёгкость, с которой определённое изобретение или устройство, служащее конкретной цели, распространяется на другие сферы, получая новые применения. Мы уже имели шанс убедиться, как простая дуга из дерева — вероятнее всего, музыкальная лира — превратилась в грозное оружие войны и охоты. Приблизительно то же самое можно сказать о Тиртее, смешном старом военачальнике, которого афиняне одолжили гражданам Спарты. Хромой, старый, сочинитель элегий в архаическом стиле, он служил постоянным предметом для насмешек и издевательств со стороны «авангарда» афинской молодёжи. Но стоило ему лишь прибыть в Спарту, как павшие духом граждане стали одерживать одну победу за другой. Почему? Да потому, что спартанцы прибегли к использованию в боевой тактике одного небольшого технического усовершенствования. Элегии Тиртея были написаны в определённом древнем размере, который отличался такой чёткостью и ритмичностью, что помогал бойцам спартанской фаланги идти точно в ногу и теснить противника в мощном порыве. Так поэтическая техника превратилась в могучий творческий фактор военно-технического искусства. Не будем, однако, отвлекаться. Посвятим оставшееся у нас время сравнению того положения, в которое поставил себя человек, избравший своим жизненным проектом жизнь бодисатвы, с ситуацией человека, пожелавшего стать джентльменом. Наше противопоставление радикально. А кто хочет в этом убедиться, пусть вспомнит основные, главные черты джентльмена. Прежде всего джентльмен не аристократ, хотя, разумеется, исторически именно английские аристократы предложили этот способ человеческого бытия, обуреваемые желанием подчеркнуть отличие английского аристократа от всех других представителей благородного сословия. В то время как последние составляли не просто закрытые образования, но классы, строго замкнутые в отношении занятий, которые они удостаивали вниманием (война, политика, дипломатия, спорт, крупное землевладение), английская аристократия уже с XVI века участвует в экономической борьбе в таких областях, как торговля, промышленность, свободные профессии. И поскольку с тех пор история отдавала предпочтение главным образом именно этим родам занятий, то лишь английская аристократия сумела уцелеть и, больше того, сохранить всю свою силу и самостоятельность. Вот почему с наступлением XIX века возникает некий прототип существования, называемый джентльменом, равно относящийся ко всем сословиям. В известной степени и буржуа, и рабочий могут быть джентльменами. Больше того, каким бы ни было будущее, и, быть может, ближайшее, история в качестве одного из чудес навсегда запечатлит тот факт, что ныне даже скромный рабочий в Англии в своём роде всегда джентльмен. Итак, данный способ человеческого бытия не подразумевает аристократизма. На протяжении последних четырёх веков аристократ европейского континента был прежде всего наследником, человеком, обладавшим колоссальными средствами для жизни, причём ему даже не пришлось ударить для этого палец о палец. Джентльмен как таковой не наследник. Наоборот, данное понятие подразумевает борьбу за жизнь, участие в любой профессиональной, и особенно практической, деятельности (джентльмен — это не интеллигент). И как раз в такой борьбе человек должен быть джентльменом. Полярной противоположностью джентльмена являются версальский Gentilhomme и немецкий Junker. VII. Тип «джентльмена». Его технические характеристики. Джентльмен и идальгоНо что значит «быть джентльменом»? Если не тратить лишних слов — а нам никак нельзя этого делать, — лучше всего сказать, что в джентльмене мы наблюдаем тип поведения, который обыкновенно вырабатывается человеком в краткие моменты существования, когда его не гнетут тяжести и скорби жизни, и, чтобы Итак, если человек играет, значит, он чувствует себя абсолютно уверенным и обеспеченным по отношению к элементарным жизненным требованиям. Игра — роскошь жизни и предполагает заранее обретённую власть над низшими уровнями существования, то есть такое положение, когда нужда не гнетёт человека, когда дух, наслаждаясь полным достатком средств, развивается в просторных рамках покоя, не ощущая волнения, тревог и дурной суеты, которые неизбежно связаны с убогой жизнью, когда все кругом — сплошная проблема. Такого рода душа наслаждается свойственной ей гибкостью и позволяет себе роскошь играть по правилам, честно, то есть вести fair play, иначе говоря — быть справедливой, защищая свои права и одновременно признавая права ближнего, никогда не прибегая к обману. Обман — это фальсификация, отрицание самой игры. И точно так же игра — рвение, которое, однако, вовсе не обусловлено примитивным утилитаризмом, порождающим лишь напряжение, навязанное обстоятельствами труда. Нет, игровое усилие всецело зиждется на самом себе и не связано с заботой, отчуждением, которые вызваны в трудовой деятельности необходимостью достичь поставленных целей любой ценой. Отсюда берут начало правила поведения джентльмена, его чувство справедливости, честность, самообладание, основанное на предварительном господстве над окружающим, а также ясное понимание своих прав по отношению к другим и прав других по отношению к себе; иными словами, понимание собственных обязанностей. Для джентльмена любая уловка лишена какого бы то ни было смысла. Всё, что джентльмен делает, он делает хорошо — остальное неважно. Так, продукцию английских промышленников отличают следующие признаки: всё добротно, надёжно, солидно как с точки зрения использованного сырья, так Английские товары — это не то, что следует сбыть с рук любой ценой; они — полная противоположность халтуре. Известно: английские фабриканты никогда не приспосабливались (как это сделали впоследствии немцы) к дурным вкусам и капризам покупателей. Наоборот, они преспокойно ждали, пока клиенты приспособятся к их продукции. Англичане практически никогда не прибегали к рекламе, в которой всегда есть Добрый товар берут не глядя. Всё сказанное — справедливо Как мы уже убедились, в противоположность бодисатве джентльмен стремится жить в подлинном мире максимально насыщенной жизнью. Его задача — стать в высшей степени индивидуальным, сосредоточиться на себе и поддерживать собственные силы ощущением полной независимости. В посмертном существовании нет смысла быть джентльменом, поскольку там существование и так должно быть высшим наслаждением от игры, а, как известно, джентльмен стремится стать хорошим игроком здесь, то есть в суровых земных условиях, при всей невыносимой тяжести невыносимой действительности. Поэтому главная стихия, так сказать, сама атмосфера джентльменства пронизана чувством жизненной свободы, основана на преизбытке власти над обстоятельствами. И наоборот, как только подобная радость жизни сходит на нет, с ней исчезает последний шанс стать истинным джентльменом. Вот почему человек, желающий претворить существование в спорт и игру, представляет собой полную противоположность мечтателю. Он лучше других понимает, как сурова, тяжела и жестока сама жизнь, именно потому, что желает себе исключительно спорта и игры. Поэтому такой человек серьёзнейшим образом старается утвердить своё господство и над обстоятельствами, то есть материей, и над другими. Всё это позволило джентльмену стать и великим техником, и великим политиком. Подобная пламенная страсть быть личностью, придать земной участи очарование игры сформировала у джентльмена потребность даже физически отделиться от остальных, а также от всех вещей и заставила его посвятить себя культу собственного тела, который подразумевает вместе с тем облагораживание самых низменных функций. Потребность ежедневно менять рубашки, соблюдать чистоту, принимать ванну (со времён Древних Римлян такой причуды на Западе не было ни у кого) — этим обычаям джентльмен следует неукоснительно. Прошу меня извинить, но я вынужден здесь напомнить, что даже water-closet пришёл к нам из Англии. Человек интеллектуального склада никогда бы не изобрёл клозета — он слишком презирает своё тело. Напомню ещё раз: джентльмен не интеллигент. Во всей своей жизни он ищет decorum (внешнего приличия), стремится к здоровью духа и тела. Разумеется, всё это предполагает богатство. Идеал джентльменства породил колоссальное богатство Было бы крайне интересно, если бы какой-нибудь умный и талантливый человек, давно и близко знакомый со всем, что связано с Англией, взялся определить стадию, переживаемую ныне системой жизненных норм, которую мы называем словом «джентльмен». Ведь за последние двадцать лет экономическое положение англичан существенно изменилось. Сейчас они гораздо беднее, чем их соотечественники начала XX века. Можно ли быть бедняком и вместе с тем англичанином? Уцелеют ли основные достоинства англичанина в условиях нищеты? Я слышал, что именно среди представителей высших классов английского общества наблюдается упадок джентльменства, и этот процесс совпал как со снижением уровня особенной, присущей британцам техники, так Однако в любом случае нельзя забывать о некоем образцовом типе жизни, который сохранял бы в себе лучшие черты джентльмена VIII. Вещи и их «бытие». Правещь. Человек, животное и орудия. Эволюция техникиНебольшое количество времени, которое было мне отведено, я уделил хотя бы краткому разбору вышеприведённых примеров. Дело в том, что упомянутая программа, сверхъестественное бытие человека, в осуществлении которых заключается вся наша жизнь, не должна представляться вам как нечто абстрактное и неопределённое. Хотя и несколько сумбурно, я всячески хотел показать наличие определённой функциональной связи между направлением развития техники и тем способом бытия, который выбирает человек. Бесспорно, подобная жизненная задача, задача бытия человека, принадлежит к философским вопросам в самом строгом смысле, но как раз этого её аспекта я всеми силами избегал, стараясь подчеркнуть прежде всего предпосылки, которые содержатся в факте существования техники Дело состоит в умении услышать, и, чем нежданнее, новее сказанное, тем больше внимания следует ему уделить. Так вот, особы такого рода обязательно воскликнут: «Прекрасно! При чём тут техника? Ведь техники в её реальности, в её действии мы не видим!» Но разве не ясно, что, отвечая на вопрос: «Что это такое?» — мы всегда разбираем, разрушаем сам предмет, иначе говоря, совершаем возвратные движения: идём от формы вещи, такой, как она дана и как она воздействует, к её составным частям, слагаемым, которые мы стремимся определить? Бесспорно, отдельно взятый компонент не вещь, последняя — только произведение составных частей, и, чтобы такое произведение, результат были налицо, оказывая воздействие, нужно, чтобы ингредиенты исчезли из поля зрения как таковые, то есть взятые по отдельности. Чтобы увидеть воду, нужно, чтобы исчезли водород и кислород. Определение какой-либо вещи, полученное в результате перечисления её слагаемых, предпосылок, того, что она подразумевает, если должна быть, превращается в нечто типа правещи. Эта правещь и есть бытие самой вещи, то, что следует обнаружить, поскольку вещь — налицо и её как раз искать не надо. Напротив, бытие и определение, то есть правещь, показывают саму вещь in statu nascendi, ибо в полной мере мы познаём лишь то, что так или иначе возникло у нас на глазах. Предпосылки, которые я акцентировал до сих пор, безусловно, не единственны, но все они — самого радикального характера и потому — скрытые и, следовательно, остающиеся чаще всего без внимания. Наоборот, практически все, как правило, замечают, что, если бы человек не был настолько умён, чтобы открывать новые связи между окружающими его вещами, он никогда бы не изобрёл Вопрос вообще оставили без внимания, что в конечном итоге повлекло за собой серьёзную ошибку. Ведь если Итак, одной способности делать Повторяю: когда речь идёт о технике, мы, конечно, начинаем рассуждать о мыслительной способности человека и спешим назвать эту способность решающим отличием человека от животного. Но сегодня уже никто не вправе со спокойной уверенностью, как это сделал Франклин век назад, назвать человека animal instrumentificum, animal tools making. Ибо не только в известных опытах Келера с шимпанзе, но Тем не менее решающее различие между животным и человеком — отнюдь не та, лежащая на поверхности, разница, которая обнаруживается при сравнении психических механизмов. Главное — прежде всего разность результатов, порождённых подобными различительными признаками, ибо именно они (результаты) придают существованию животного совершенно иную — по сравнению с человеческой — структуру. Не обладая развитым воображением, животное неизбежно оказывается неспособным выработать какой-либо жизненный проект, в корне отличный от многократного повторения тех же самых актов, которые оно выполняло до определённого момента. Одного этого достаточно, чтобы провести радикальное различие между жизненными реальностями животного и человека. Но если жизнь не сводится к осуществлению проекта, то и мышление вырождается в чисто механическую функцию, лишённую порядка и смысла. Мы часто забываем, что интеллект, сколь бы развитым он ни был, не может сам из себя вывести своё направление и, следовательно, достичь подлинных технических открытий. Понимание само по себе не знает, что предпочесть среди бесконечного разнообразия вещей, которые можно «изобрести», и теряется в безграничных возможностях. И только в таком существе, где ум послушен воображению (но не техническому, а творящему жизненные проекты), может выработаться техническая способность. Всё сказанное преследовало побочную цель: противостоять достаточно стихийному, весьма распространённому, доминирующему сейчас мнению, будто в конечном счёте есть лишь одна настоящая техника, а именно современная евро-американская, по сравнению с которой всё остальное — только неуклюжий жест и наивная попытка ей подражать. Считаю необходимым подвергнуть подобный взгляд самой жёсткой критике, включив современную технику — на правах лишь одного технического вида — в широкую и многообразную панораму человеческих техник вообще. Тем самым я придаю техникам Америки и Европы относительный смысл и утверждаю, что каждому человеческому проекту, каждому типу жизни соответствует своя техника. Однако, установив эти соответствия, я сразу вынужден подчеркнуть своеобразие современной техники, те её черты, которые как раз и порождают подобный мираж, представляя нам её (с известной долей истины) как технику по преимуществу. В силу целого ряда причин техника занимает — а ныне как никогда — крайне высокое положение в системе факторов, слагаемых человеческой жизни. Та значимость, которая постоянно присуща технике (в силу приведённых причин), проступает, к примеру, в таком простом факте: всякий раз, как историк пытается охватить единым взглядом значительные временные промежутки, ему поневоле приходится описывать их, указывая на особые технические средства, присущие данным этапам. Самый ранний период существования человечества, в целом едва ещё различимый Для того чтобы до конца осознать, что же такое современная техника, необходимо начертать её чёткие контуры на фоне всего технического прошлого — словом, хотя бы бегло описать грандиозные перемены, которые претерпела техническая функция. Иначе говоря, выделить значительные стадии технической эволюции. Таким образом, рассматривая отдельные срезы прошлого, называя IX. Стадия техникиДанный вопрос столь серьёзен и труден, что я сильно колебался, выбирая тот или иной принцип, согласно которому можно было бы различать интересующие стадии. Несомненно, однако, что следует прежде всего отказаться от одного, хотя и весьма очевидного, принципа: ни в коем случае нельзя членить техническую эволюцию, приняв за основу то или иное изобретение, сколь бы важным и характерным оно ни казалось. Ибо всё, что я здесь сказал, направлено прямо против того общего заблуждения, что главное в технике — это разные изобретения. Но можно ли назвать хоть одно, которое превзошло бы по значимости всю колоссальную махину техники в известную историческую эпоху? Ведь только вся совокупность техники, взятая в целом, действительно имеет определяющее значение и даёт возможность говорить именно о прогрессе или изменении. В конечном итоге не найдётся ни одного сколько-нибудь важного открытия, если мы станем мерить его исполинской мерой общей эволюции. Кроме того, как мы убедились, величайшие типы техник приходили в упадок после того, как их разработали окончательно, или вообще исчезли с лица Земли. А иногда их даже приходилось открывать заново. Немаловажно и то, что одного изобретения, которое имело место Ясно одно: они вошли в историческую действительность, только слившись с общим строем техники конца Средневековья и испытав влияние конкретной жизненной программы той эпохи. Порох, применяемый для стрельбы, и печатный станок — вот истинные современники буссоли и компаса; все четыре изобретения, как легко догадаться, выдержаны в одном стиле, характерном для того переходного (от готики к Ренессансу) периода, который обрёл свою кульминацию в Копернике. И все четыре открытия, как видим, воплощают союз человека с далью, представляя собой приём acfio in disfans, лежащий в основе современной техники. Так, пушка приводит в моментальное столкновение далеко отстоящих друг от друга противников; компас и буссоль связывают человека со звездой и четырьмя сторонами света; печатный станок соединяет одинокого, погружённого в себя индивида с бесконечной (не имеющей предела во времени и пространстве) периферией, которую составляет вся совокупность потенциальных читателей. С моей точки зрения, исходным принципом для периодизации технической эволюции должно служить само отношение между человеком и техникой, иначе говоря, мнение, которое сложилось у человека о технике, — и не о том или другом её конкретном типе, Итак, исходя из этого, можно выделить три значительные стадии в технической эволюции.
Техникой случая является та техника, где в роли человека-техника выступает случайность, способствующая изобретению. Такова первобытная техника доисторического человека, а также нынешних дикарей. Я имею в виду самые отсталые племена (это цейлонские ведды, семанги с острова Борнео, пигмеи Новой Гвинеи и Центральной Африки, туземцы Австралии и так далее). Итак, каково представление о технике такого первобытного ума? Здесь возможен ответ лишь в высшей степени ограничительного характера: первобытный дикарь не сознает техники как таковой, то есть и не подозревает, что среди его способностей существует некая специфическая, которая позволяет преобразовывать природу в желательном направлении. И это так.
Итак, первобытный человек не признает себя творцом изобретений. Открытие заявляет ему о себе в качестве ещё одного измерения природы, в виде некой силы, которую именно природа и должна ему сообщить. Важно, что эти могучие свойства исходят от природы и направлены к человеку, а не наоборот. Например, изготовление различных орудий и домашней утвари, по мнению первобытного человека, не исходит от него самого, подобно тому как от него не исходят его собственные руки и ноги. Человек ещё не ощущает себя как homo faber (мастера). Его ситуация очень напоминает положение шимпанзе в опытах Келера, когда обезьяна вдруг понимает, что палка, которую она держит, может пригодиться для неожиданной цели. Кёлер называет этот эффект впечатлением «ага!», поскольку подобным возгласом выражает своё настроение человек, открывший новые связи между вещами. Вернёмся, однако, к первобытной технике. На данной стадии она предстоит человеку ещё как природа. А поточнее, то на этом древнейшем этапе открытия первобытных людей, выступая результатом простого случая, подчинены теории вероятности. Иными словами, Х. Техника как ремесло. Техника человека-техникаПерейдём ко второй стадии технической эволюции — ремесленной технике. Это техника Древней Греции, доимператорского Рима и Средневековья. Вот беглый перечень некоторых её признаков. 1Набор технических актов необыкновенно расширился. Однако — и это очень важно — он ещё не настолько богат, чтобы в случае внезапного исчезновения, кризиса или застоя основных технических видов жизнь общества оказалась бы под угрозой. Да и различие между жизнью, которую ведёт человек на данной стадии благодаря имеющейся у него технике, и жизнью, которую он вёл бы без неё, далеко не столь радикально, чтобы в случае краха всех технических типов он бы уже не смог вернуться к первобытному или практически первобытному строю. Само соотношение между техническим и нетехническим далеко не позволяет считать именно технику основным условием поддержания жизни. Нет, как таковое оно всё ещё сохраняется за природным, по крайней мере — и это важно — так считает сам человек. Вот почему с началом технических кризисов люди ещё не понимают, что последние угрожают их жизни, и по этой причине не реагируют на эти кризисы энергично и своевременно. С этой оговоркой, а также учитывая, что сложилась новая техническая ситуация в мире, мы обязаны отметить другой, прямо противоположный факт: стремительный рост технических актов. Их число настолько умножилось, что отныне не всякий на них способен. Стало необходимо, чтобы Разумеется, люди уже понимают, что сапожничество не природное качество; иначе говоря, оно не свойство животных, а нечто, присущее исключительно человеку. Тем не менее считается, что это дар, которым 2Метод усвоения весьма мало способствует ясному пониманию техники как общей и не ограниченной в своём росте функции. На данной стадии (ещё в большей степени, чем на первобытной, хотя, казалось, всё должно было бы обстоять как раз наоборот) открытия не способствуют сколько-нибудь ясному и отчётливому пониманию техники как таковой. Так или иначе, все скудные изобретения первобытной поры, имеющие, безусловно, фундаментальное значение, должны были неизбежно патетически возвышаться над повседневностью биологических навыков. Но ремесло исключает само понятие об открытии. Ремесленник вынужден пройти долгую выучку — это эпоха мастеров и подмастерьев, — и лишь тогда он сможет овладеть разными типами техник, разработанными задолго до него и имеющими за собой едва ли не бесконечную традицию. Ремесленником правит норма, подразумевающая продолжение традиций. Вот почему ремесло целиком обращено к прошлому и замкнуто для всевозможных новшеств. Мастер следует сложившемуся обычаю. Бесспорно, 3Назову ещё одну, главную причину, в силу которой идея техники не обособляется от идеи о человеке-исполнителе. Дело в том, что изобретение достигло лишь уровня производства орудий, а не машин. А в этом вся суть. Уже здесь скажу (несколько опережая события и заглядывая в третью стадию), что первой машиной в собственном смысле слова был ткацкий станок Роберта, построенный в 1825 году. Это была действительно первая машина, поскольку она уже могла действовать сама по себе 4И тем не менее у ремесла есть ещё один признак, который служит огромным препятствием для адекватного понимания техники и который наряду с уже перечисленным заслоняет собой технический факт в чистом виде. Дело в том, что любая техника содержит два момента: первый — создание проекта деятельности, метода, приёма или того, что древние греки называли словом mechane, a второй — это реализация данного проекта. Так вот, техникой в собственном смысле слова является лишь первый момент, второй — это простая операция, труд. Словом, есть человек-техник и есть рабочий, Чуть выше мы уже перечислили некоторые её признаки, а также дали ей название «техника человека-техника». На этой стадии человек получает достаточно чёткое представление, что он наделён известной способностью, абсолютно отличной от тех жёстких и неизменных задатков, которые составляют его природную, или зоологическую, сущность. Теперь он видит, что техника — это не случай (как то было на первобытной стадии), но также и не определённый, ограниченный выполнением Мало того, техника — это отнюдь не тот или иной её вид, известный и потому постоянный. Техника — живой, неиссякаемый источник человеческой деятельности, которая в принципе не ведает пределов. Подобное новое понимание техники как таковой впервые ставит человека в коренным образом отличное — по сравнению со всеми предыдущими стадиями — положение И хотя то, что я сейчас скажу, относится к следующей теме, мне всё же хотелось бы обратить ваше внимание (ибо по моей забывчивости или XI. Современное отношение между человеком и техникой. Человек-техник древностиМы убедились, что современная стадия технической эволюции отличается следующими признаками. 1Сказочным ростом технических действий и достижений, составляющих нашу жизнь. Если в Средние века, в эпоху ремёсел, техническое и природное начала, видимо, компенсировали друг друга и само уравнение условий, на которые опиралось существование, позволяло использовать талант для приспособления мира к субъекту (что не приводило к вытеснению природы из самого человека), то ныне жизненные технические предпосылки во много раз превосходят природные, Итак, всего за Бурный, небывалый прирост человечества в наш век послужил, по всей вероятности, источником немалого числа современных конфликтов. Это стало реальностью, только когда человеку удалось поместить между собой и природой некую область чисто технического творческого развития, причём столь мощного и стремительного, что из неё родилась своеобразная сверхприрода. Современный человек — я имею в виду не индивида, а человечество в целом — уже не волен выбирать между жизнью в природе и использованием сверхприродного. Он бесповоротно и окончательно приписан к последнему, включён в него так же прочно, как первобытный дикарь в естественное окружение. И это таит в себе среди прочего такую угрозу: едва осознав собственное бытие, человек обнаруживает вокруг себя сказочное число предметов и различных средств, созданных техникой и образующих раскинувшийся перед ним на переднем плане некий искусственный пейзаж, который заслоняет от его взора первозданную природу. В результате человек пришёл к ложной мысли, что и остальное, то есть всё окружающее, подобно такой изначальной природе, иначе говоря, наличествует само по себе, словно автомобиль или аспирин, — это вовсе не то, что сначала нужно было произвести, а такие же предметы, как камень или растение, коими человек, бесспорно, обладает без каких-либо усилий со своей стороны. Иными словами, человек 2Другой характерной чертой, заставившей человека признать подлинность его собственной техники, был, как уже говорилось, переход от простого орудия к машине, то есть к устройству, действующему автоматически. Машина отводит человеку, ремесленнику, последнюю роль. Теперь уже не орудие служит человеку, а наоборот: человек — придаток машины. Современный завод — это абсолютно самостоятельное, искусственное образование, которому лишь время от времени помогают функционировать несколько человек, роль которых — самая скромная. 3В результате техник и рабочий, соединённые в лице ремесленника, отделились друг от друга, после чего человек-техник превратился в живое выражение техники — в инженера. Ныне техника уже сложилась как таковая, существующая независимо и отдельно от всего прочего. И потому ей сегодня посвящают себя вполне конкретные люди — техники. В эпоху палеолита или Средневековья изобретательство ещё не было профессией, поскольку сам человек не знал за собой подобной способности. Теперь, напротив, человек-техник посвящает себя изобретательскому делу как вполне нормальному и давно учреждённому занятию. В противоположность первобытному дикарю современный техник знает: можно изобрести прежде, чем он на деле изобретает. Иными словами, прежде чем создать какую-нибудь технику, он уже владеет техникой вообще. Только в этом, фактически буквальном смысле и только в этих пределах справедливо то, о чём я не перестаю твердить с самого начала: все конкретные виды техник суть только порождения a posteriori общей технической функции. Итак, человек-техник не должен дожидаться подходящего случая или надеяться на ненадёжные вероятностные числа; наоборот, он знает, что придёт к открытию. Но И здесь следует сказать пару слов о техническом техницизме. Для иных это, и только это, и составляет саму технику. Несомненно, без техницизма нет техники, и тем не менее технику недопустимо сводить исключительно к техницизму. Ибо последний — только метод, принятый в техническом творчестве. Без него нет техники, однако и только с ним её тоже нет. Как уже говорилось, обладать способностью ещё не значит осуществлять её как таковую. Я бы очень обстоятельно и подробно хотел поговорить с вами о техницизме — как о современном, так Действительно, современный техницизм в корне отличен от того, который имел место во всех прочих техниках. Можно ли в двух словах сказать, в чём различие? Для этого выясним, как поступал человек-техник прошлого, если он был именно техником, то есть когда открытие возникало не случайно, а было результатом целенаправленного поиска. Возьмём довольно схематичный, то есть простой, пример, хотя речь идёт об историческом, а не о вымышленном событии. Перед нильским архитектором стояла задача водрузить гигантские каменные блоки на вершину пирамиды Хеопса. Египтянин-техник исходит — поскольку ничего другого не остаётся — из предполагаемого результата: поднять блок. Он ищет средства для этого, то есть думает о путях достижения цели, о том, что надо сделать для того, чтобы каменный блок оказался наверху, — такова его цель в полном объёме. Его ум в плену у поставленной задачи, причём в уже сложившейся, окончательной форме. Тогда он начинает подыскивать в качестве средств такие действия или приёмы, которые — в случае успеха — одним махом, в ходе краткой или долгой операции (однако всегда однотипной) позволят достичь конечного результата. Нерасчленённое единство цели побуждает к поиску также единого, недифференцированного метода. На ранней, начальной стадии развития техники это привело к тому, что само средство, с помощью которого изготавливался предмет, весьма напоминало сам предмет. В случае с пирамидой мы наблюдаем это воочию: чтобы поднять каменный блок, сбоку вплотную к пирамиде насыпают землю (причём насыпь тоже имеет форму пирамиды, но с более широким основанием и гораздо менее значительной крутизной граней), после чего блоки по насыпи доставляются на вершину. Поскольку данный принцип подобия — similia similibus (Подобное подобным [лат.] — XII. Современный техницизм. Часы Карла V. Наука и цех. Нынешнее чудоТехницизм современной техники в корне отличен от того, что вызывал к жизни её предыдущие виды. Он возникает одновременно с физической наукой как отросток того же исторического древа. Мы уже говорили о том, что человек-техник, обуреваемый желанием достичь конечного результата, ощущал свою абсолютную зависимость от него и всячески искал средств, с помощью которых можно было бы добиться в одночасье и окончательно поставленной цели. И как я сказал, средство здесь подражало последней. В XVI веке в полную силу заявил о себе новый способ рассуждения, который реализует себя В письме к Лодовико Моро Леонардо просит предоставить ему при дворе какое-нибудь место, предваряя просьбу длинным перечнем военных и гидравлических машин. И точно так же, как в эллинистическую эпоху великие полиоркеты (Те, кто осаждал города [греч.] — В том-то и дело, что к 1540 году в моду входят разные «механики». Тогда это слово отнюдь не имело в виду науку, которая взяла его на вооружение позднее. До того оно как термин и не употреблялось. «Механиками» назывались машины и искусство их изготовления. Даже в 1600 году это слово значило нечто подобное для Галилея, отца механики как науки. Все хотят обзавестись разного рода устройствами, большими и малыми, полезными или, наоборот, служащими исключительно для развлечения. Когда наш великий Карл, Карл V из Мюльберга, уединился в Юсте, в том величайшем из отливов, которые когда-либо знала история, на гигантской обратной волне, убегающей в никуда, он унёс с собой всего две частицы мира, который покидал: часы и уроженца Фландрии Хуанело Турриано. Последний был подлинным магом, чародеем механики, с равным успехом смастерившим и водопровод в Толедо — его руины сохранились и по сей день, — и заводную птицу, которая порхала на металлических крыльях по огромной пустынной зале монастыря, в которой уединился, устав от мира, наш великий император Карл. Здесь важно подчеркнуть один первостепенный факт: величайшее чудо человеческого ума — физическая наука — берёт своё начало в технике. Юный Галилей не посещает университет, он днюет и ночует на венецианских верфях, среди подъёмных кранов и кабестанов. Там складывается его ум. Новый техницизм действительно поступает так же, как будет поступать nuova sclema. Он вовсе не переходит от простого представления о желаемом результате к поиску необходимых для его достижения средств. Нет и нет! Он задерживается на замысле и воздействует на него, то есть анализирует. Иными словами, новый техницизм разлагает цельный результат — единственно изначально желанный — на частичные, из которых он рождается в процессе генезиса, и, следовательно, на его «причины», или составляющие. Именно этим и занимался в науке Галилей, который, как известно, был также величайшим «изобретателем». Последователю Аристотеля никогда бы не пришло в голову разлагать природное явление на его составные — для сложного он предпочёл бы столь же сложную причину: так, для объяснения причин глубокого и тяжёлого сна, вызванного маковым настоем, он ссылается на некую virtus dormiliva. Галилей же, наблюдая за перемещением тел, поступает наоборот; он задаёт вопрос: из каких элементарных и, следовательно, общих движений состоит данное конкретное движение? Таков новый способ умственной деятельности — «анализ природы». Это и есть исходный — определяющий — союз нового техницизма и науки. Причём союз отнюдь не внешний, а основанный на одном и том же методе рассуждения. Великий урок! Отныне мыслитель должен уметь оперировать вещами, проникать в их суть: если он физик, то это вещи материальные, если историк — то это вещи человеческие. И если бы немецкие историки XIX века лучше разбирались в политике или хотя бы в «светской жизни», вполне вероятно, что сегодня мы бы уже располагали исторической наукой, а также подлинно эффективной техникой обращения с наиболее важными общественными феноменами, перед лицом которых, стыдно сказать, наш современник чувствует себя так же, как дикарь эпохи палеолита перед громом и молнией. Так называемый «дух» — стихия слишком воздушная, теряющаяся в собственном лабиринте, в своих бесконечных возможностях. Думать слишком легко! Мысль, совершая свой полёт, практически не встречает сопротивления. Тот же, кто занимается умственной деятельностью, обязательно должен соприкасаться с материальными предметами, учась в обращении с ними дисциплине и выдержке. Тела были учителями духа, как кентавр Хирон — наставником греков. Не будь вещей, которые можно было бы увидеть, потрогать, сей надменный дух представлял бы собой чистейшее безумие. Тело — жандарм и учитель духа. Отсюда — образцовость физического мышления по сравнению со всей остальной интеллектуальной практикой. Физика, отмечает Николай Гартман, всеми своими неоценимыми достоинствами обязана тому, что она до сих пор является единственной дисциплиной, где истина устанавливается посредством согласования двух независимых инстанций, каждая из которых не позволяет себя подкупить другой. Таковыми являются чистое априорное мышление рациональной механики и чистое созерцание предметов своими глазами — анализ и эксперимент. Все творцы новой науки сознавали её единосущность с техникой. И это в равной мере относится к Бэкону и Галилею, к Гилберту и Декарту, к Гюйгенсу, Гуку, а также Ньютону. С тех пор и поныне — всего лишь за три века — мы наблюдали поистине сказочное развитие и теории, и самой техники. Пусть читатель обратится к тоненькой книжке Алена Раймонда «Что такое технократия?» и познакомится с некоторыми данными, иллюстрирующими, на что сегодня способен человек-техник. Сошлёмся на неё и мы. Расходуемая в течение восьмичасового рабочего дня физическая сила человека способна выполнять такой объём работы, на которую потребовалось бы приблизительно 0,1 лошадиной силы. Ныне в нашем распоряжении находятся машины, мощность которых достигает 300 тысяч лошадиных сил и которые могут работать все 24 часа в сутки на протяжении длительного периода времени. Первой машиной, в которой не использовалась физическая сила человека, был весьма далёкий от совершенства паровой двигатель Ньюкомена, построенный в 1712 году. Самая первая машина этой марки имела мощность 5,5 лошадиной силы (расчёт определялся по количеству воды, поднимаемой за определённый промежуток времени). Наибольших габаритов этот двигатель достиг в 1780 году; в его гигантских цилиндрах поршни совершали от 16 до 20 движений в минуту. К тому времени мощность машины исчислялась в 50 лошадиных сил, то есть превышала человеческую силу в 500 раз. Однако коэффициент полезного действия машины Ньюкомена составлял всего 0,1 коэффициента полезного действия человеческой силы; расход угля равнялся 15,8 фунта на каждую лошадиную силу. Кроме того, у двигателя были и другие дефекты, как с точки зрения потребляемой энергии, так и механики, что и воспрепятствовало его всеобщему распространению. Применение турбин было вызвано новым типом превращения энергии. Если первые турбины обладали мощностью до 700 лошадиных сил, а первая турбина, установленная на тепловой станции, имела мощность 5000 лошадиных сил, то мощность современной турбины достигает 300 тысяч лошадиных сил, что в 3 миллиона раз превышает производительность одного человека за восьмичасовой рабочий день. Если же принять за основу суточную работу турбины, то её производительность превысит человеческую в 9 миллионов раз. Первая турбина, установленная на теплоэлектростанции в 1903 году, потребляла 6,88 фунта угля на киловаттчас. За тридцатилетний период произошло снижение расхода угля с 6,88 до 0,84 фунта, что свидетельствовало об изменении производительности за счёт замены ручного труда машинным. Максимальная производительность труда древнеегипетской цивилизации никогда не превышала 150 тысяч лошадиных сил за восьмичасовой рабочий день, если исчислять население в пределах 3 миллиона человек. Греция, Рим, малые государства и империи Средневековья, так же, впрочем, как и новые нации, имели тот же самый уровень производительности вплоть до эпохи Джеймса Уатта. Стремительные перемены стали происходить именно с той поры. Доселе невиданный общественный прогресс поначалу взял робкий старт и, постепенно навёрстывая упущенное, наконец помчался вперёд со скоростью ракеты. Начиная с 1800 года новые достижения последовательно сметали с лица Земли промышленные процессы каждого предыдущего десятилетия, превращая их в конечном итоге в устаревшие технологии. Первая машина, построенная Ньюкоменом, не смогла пережить свой век. Второе изменение в превращении энергии ознаменовалось машиной Уатта. Последняя не просуществовала и одного века и была заменена на новый, более производительный двигатель. На современных энергетических станциях, мощность которых в 9 миллионов раз превышает силу человеческого тела, прирост в 8 766 000 раз был достигнут именно за последние 25 лет. Что касается сокращения продолжительности рабочего времени, то в сталелитейном производстве мера данного сокращения начиная с 1840 года была обратно пропорциональна количеству времени, возведённому в четвёртую степень. Ещё более значительным оно оказалось в автомобильной промышленности; что касается проката чугуна, то здесь за один рабочий день производится ныне столько же продукции, сколько сто лет назад производилось за 600 часов. В земледелии по сравнению с 1840 годом на каждую единицу продукции сегодня требуется лишь Узооо прежних затрат времени. В производстве ламп накаливания один час человеческого труда приносит столько же единиц продукции, сколько девять тысяч часов в 1914 году. Итак, в целом степень сокращения рабочего времени на единицу продукции составила приблизительно 3000 (цитируется по испанскому переводу, опубликованному в «Западном обозрении». Мадрид, 1933, Не ручаюсь за точность приведённых цифр. Поставляющие их «технократы» — демагоги чистой воды, а следовательно, люди неточные и ненадёжные. Но даже те крупицы, что в преувеличенном, отчасти карикатурном виде содержатся в этих сведениях, лишний раз подчёркивают несомненную и глубокую истину: практически неограниченные возможности современной материальной техники. Однако человеческая жизнь — это не только борьба с материей, но и борьба человека со своим духом. Что может противопоставить Евро-америка этому своеобразному набору техники духа? И разве непостижимая Азия не превзошла её в этом? Вот уже многие годы меня не покидает мечта прочесть курс лекций, где бы я попытался сопоставить технику Запада с техникой Востока. | |